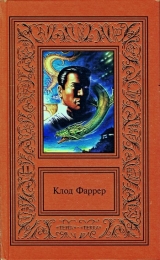
Текст книги "Сочинения в двух томах. том 1"
Автор книги: Клод Фаррер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 44 страниц)
IV
Я находился уже на пути к Эгюйер. Дорога была хорошая, не слишком скользкая, но и не жесткая. Моя лошадь шла скоро, крупной, размашистой рысью. Это был превосходный конь – мой большой любимец. Звали его Зигфрид. Мы успели с ним привыкнуть друг к другу; у него не было не только никакого порока, но и вообще недостатков, о которых стоило бы упоминать.
Одним духом доставил меня Зигфрид в Эгюйер, простую деревушку, лежащую у подножия последних отрогов цепи Мура. Отсюда дорога испортилась. Она пошла теперь вдоль обрыва, по течению небольшого светлого ручья и, следуя за его излучинами, делала самые неожиданные повороты. Я смотрел, как вода отражала в себе свинцовые тучи, и по расходящимся кругам на поверхности понял, что снова дождь. Между тем дорога, теперь уже собственно тропинка, взяла влево; вокруг начиналась совершенно пустынная местность.
Внезапный крутой подъем заставил меня подобрать поводья. Когда я перебрался через уступ скалы и стал снова спускаться по наклонной плоскости, передо мной открылся вид на Гран-Кап. До сих пор его скрывала горная цепь Мура. Он сразу отчетливо обрисовался на горизонте, величественно подымаясь среди остальных вершин. Его можно было бы видеть весь – снизу доверху, если бы не тучи, которые низко висели над ним. Клочья тумана ползли по его склонам, и под их покровом исчезала граница между расположенными внизу полями и дикими верхними частями Гран-Капа.
И словно какое-то предчувствие наполнило тревогой мое сердце… Я представил себе весь риск, всю опасность моего путешествия на ощупь, по едва заметной тропинке, когда наступит вечер… И пока было еще довольно светло, я пустил свою лошадь в галоп…
Случалось, Мадлен сопровождала меня в небольших утренних прогулках верхом. Оберегая наше счастье от завистливого любопытства посторонних глаз, мы выезжали с нею до восхода солнца. И под сенью сосен скакали мы бок о бок, наслаждаясь ароматом теплого и душистого воздуха…
Но тут грезы невольно оборвались; внезапно я почувствовал, как в мои легкие проникает тяжелый, сырой туман, пропитанный запахом гниющих на земле листьев. Мне захотелось точнее определить характер этого запаха: я приподнялся в седле и сделал глубокий вдох. Все тот же гнилой воздух наполнил вновь мою грудь, и у меня явилось странное впечатление, что этот тяжелый, тошнотворный, трупный дух идет от горы, что он – ее дыхание. Меня охватила какая-то жуткая дрожь. Зигфрид продолжал идти галопом. Я перевел его на рысь: тропинка опять поднималась в гору. Несколько выше она раздвоилась. Я остановился и раскрыл карту генерального штаба. Нужно было немного ориентироваться. Прямо передо мной Гран-Кап загораживал часть небосклона грозным хаосом своих остроконечных утесов. Его первые уступы были в каком-нибудь полулье, не далее. Там, значит, запад, север же приходился направо от меня. Я продолжал рассматривать карту… Она была довольно запутанная, и разобраться по ней было трудно. Но все-таки я отыскал перекресток, где я находился, и обе дороги, между которыми приходилось делать выбор. По-моему, обе они должны были привести к форту: правая через старинный монастырь Святого Губерта и деревушку Морьер-ле-Турн; левая – через деревню Морьер-ле-Винь и местечко Морьер. Я выбрал для себя левую дорогу. А остановись я на правой, судьба пощадила бы меня. Когда я двинулся дальше, мне показалось, что на горе, среди скопища туч, виден какой-то едва уловимый розовый отсвет. Как уже сказано, путь мой лежал к западу. И этот отблеск не мог быль нечем иным, как одним из последних лучей заходящего солнца, пробивавшимся сквозь завесу дождя и тумана. Значит, сейчас должна была наступить темнота. И при одной мысли о длинном еще пути, отделявшем меня от цели моего странствия, тревога охватила мою душу… Ночь наступала очень быстро, скорее, чем я думал. Она молчаливо гналась за мною, настигала и даже опережала меня, окутывая своим покровом опасные горные склоны. От тропинки оставался едва заметный след. Лошадь моя уже несколько раз спотыкалась…
И мне стало ясно, что неприятность моего путешествия не ограничится продолжительной вечерней поездкой под холодным дождем…
V
По всей вероятности, я сбился с пути на самых северных отрогах цепи Мура. Еще не совсем стемнело, но разглядеть что-нибудь было уж трудно. Тропинка совершенно исчезла под низким, густым кустарником, который покрывал и всю окружающую местность. Моя лошадь пробиралась с трудом, нащупывая то и дело почву, прежде чем ступить на нее. В сознании полной своей неспособности отличать тропинку среди этого мрака, я решил положиться на инстинкт самой лошади. Но я совсем упустил из виду, что как раз около самой северной точки Мура от тропы на Гран-Кап отделяется еще другая тропа на Турн. Последняя забирает влево и идет по направлению к довольно известному в тулонских летописях ущелью с оригинальным названием «Смерть Готье».
Моя лошадь как раз и взяла направление по тропинке на Турн. А я ничего и не заметил, даже и не подозревая, что мы проехали мимо разветвления этих двух дорог.
Тропинка, до сих пор все-таки сносная, стала уже совсем плохой. Начинало очень сильно темнеть. Вскоре меня окутал прозрачный туман, как я догадывался, предвестник другого, более густого, разостлавшегося несколькими десятками метров выше.
Мне вспоминается, как я проворчал:
– Черт бы его побрал, весь этот Прованс!..
Как раз в эту минуту тропинка, только что поднимавшаяся довольно круто наверх, начала так же резко спускаться вниз. Такой переход немало озадачил меня: на карте не было указано ничего подобного. Мне захотелось еще раз посмотреть на нее. Но для точной проверки всех этих горных переходов было уже слишком темно. Пришлось отказаться от своего намерения. К тому же спуск оказался непродолжительным. Я попал было куда-то вроде ямы, густо заросшей кустарником; но тропинка снова пошла вверх. Хотя я и говорю о тропинке, но в действительности от нее не оставалось и следа: вокруг меня терновник вместе с мастиковыми деревьями образовал сплошную заросль, и шипы терний достигали груди моей лошади; я сам должен был оберегать свои руки от царапин. Эта густая растительность совершенно закрывала почву. Зигфрид стал нервничать и выказывал свое нежелание впотьмах пробираться этой опасной, как он чуял, дорогой…
Приблизительно через каких-нибудь сто метров от этой заросли опять начался спуск; после него – новый подъем. Я понял наконец, что сбился с дороги. Было очевидно, что я пересекал какую-то горную цепь, состоящую из трех последовательных уступов – а ничего подобного в направлении на Гран-Кап не было. Я это знал наверное, но тем не менее продолжал свой путь, надеясь добраться до третьего уступа и обозреть оттуда всю местность.
Я доехал до него.
И, действительно, я достиг желаемого. Моим глазам представилась длинная, широкая и покатая равнина, окруженная со всех сторон далекими горами, форма которых несмотря на застилавший их туман, дала мне возможность несколько ориентироваться. Вне всякого сомнения, я находился около самого ущелья «Смерть Готье», и мне не оставалось ничего лучшего, как возможно скорее повернуть обратно и доехать до того проклятого перекрестка, где я сбился с пути. И это следовало сделать, не медля ни секунды, чтобы успеть добраться туда до наступления полнейшей темноты…
Зигфрид не решался вступить снова в чащу кустарника, высокие шипы которого царапали даже его ноздри. Я пришпорил, давая понять, что нечего топтаться на месте. Зигфрид храбро прибавил ходу и, как только кончился первый спуск, пошел рысью. Но это продолжалось недолго.
Во время подъема на второй уступ, я вдруг почувствовал что седло уходит из под меня… Кустарник принял меня далеко не ласково, но все же это было лучше, чем падать на голые камни. Менее чем через десять секунд я был уже на ногах, ушибленный и исцарапанный, но, во всяком случае, без серьезных повреждений.
Но моя лошадь лежала… Я наклонился к ней. О!.. Левая передняя нога так неудачно попала в расселину камня, что сломалась, как ломается простое стекло. О-ля-ля! Никогда не сможет больше бедный Зигфрид идти ни рысью, ни галопом… Да! Мы, любители лошадей, привязываемся к ним иногда более страстно, чем к подругам своей жизни. Я смотрел на распростертого на земле Зигфрида, и мне казалось, что вот-вот я заплачу, как плачут девочки. Но тотчас, желая побороть свою слабость, я выхватил мой револьвер и, приставив дуло его к уху несчастного животного, закрыл глаза и нажал на курок. Легкая дрожь прошла по большому телу, и оно успокоилось навсегда. Я машинально сунул револьвер обратно в карман. И, не отдавая себе отчета, куда иду, добрался до второго уступа, достиг самой высокой его точки и сел на первый попавшийся камень.
Только по прошествии добрых четверти часа я пришел несколько в себя и принялся обдумывать свое положение. Оно было не из завидных, я оказался без лошади, далеко от всякой проезжей дороги, затерянным среди самых пустынных мест всего горного Прованса. Ближайшая деревушка находилась от меня на расстоянии доброго лье; а форт Кап – по меньшей мере за два лье. Но это – если напрямую… Мне же, несмотря на полную почти невозможность выпутаться из этого непроницаемого лабиринта, предстояло во что бы то ни стало добираться до Гран-Кап посреди окружавшей меня густой, а скоро, наверное, и вовсе непроглядной тьмы.
VI
Я сидел на камне в том месте, где, по моим соображениям, должна была находиться тропинка, и смотрел в сторону заросшей долины, отделявшей меня от первого уступа, где лежал прах моего коня. Но так или иначе, а нужно было идти до конца, идти к этому недоступному форту, исполнить возложенное на меня поручение… И я готов был уже встать и продолжать свой путь. Я встал…
Вдруг наверху, над долиной, на первом уступе, в каких-нибудь ста шагах от меня, я увидел темный силуэт, отчетливо выделявшийся на мутном еще фоне неба. То была человеческая фигура, фигура женщины, и она быстро двигалась в мою сторону…
С радостным изумлением поднялся я со своего камня. Я готов был ко всему, но не к встрече с кем бы то ни было в такое время и в таком месте. Даже средь бела дня никто: ни крестьяне, ни охотники, ни дровосеки – не заходят в ущелье «Смерть Готье»: здесь нет ни полей, ни лесов, ни дичи. И вот мне необыкновенно повезло так кстати натолкнуться в эту темную, дождливую и холодную ночь на единственную, может, женщину, которая за целую неделю попала на этот перевал!
Очевидно, то была какая-нибудь крестьянка из Валори или Морьера, торопившаяся домой. Нельзя было сомневаться, что ей хорошо известны все горные тропинки, и она не затруднится указать мне, куда идти…
Я пошел навстречу – нарочно медленно, чтобы эту женщину не испугать. Она же шла чрезвычайно быстро, с удивительной ловкостью пробираясь кустарником. Вот уже только каких-нибудь двадцать шагов разделяли нас. Вдруг я остановился пораженный… Предо мной была вовсе не крестьянка! Теперь, когда можно было лучше рассмотреть приближавшуюся фигуру, я увидел ее костюм, самый неподходящий, казалось бы, к окружающей обстановке: на ней был надет элегантный городской туалет: светлое суконное платье, сшитое по последней моде, и норковый жакет с отделкой из горностая. Руки ее исчезали в огромной, тоже горностаевой, муфте. Перья на шляпе развились от сырости и повисли. Она была без зонтика, без манто и поэтому имела здесь какой-то совершенно неправдоподобный вид. Я окинул взглядом окрестность, не превратилась ли она в оранжерею или зимний сад; нет, кругом была по-прежнему мрачная пустыня и моросил все тот же холодный дождь…
Я затаил дыхание; мне было почти жутко…
А видение все приближалось. Во всяком случае, двигавшуюся фигуру нельзя было принять за какое-нибудь сверхъестественное существо, за бесплотную тень: я ясно услышал легкое поскрипывание ботинок и шуршание задетой низким кустарником юбки…
Женщина прошла мимо, чуть не задев меня, но не остановилась и не повернула головы… Я совсем близко увидел ее лицо, сначала прямо, а потом в профиль. Увидел, узнал и не мог сдержать крика изумления и ужаса:
– Мадлен!..
Да, это была она, Мадлен, моя возлюбленная. Она будто не слыхала моего голоса и продолжала не замечать меня. И быстро стала удаляться, уходя в глубь окружавшей нас пустыни…
VII
Мадлен…
Нет, я не могу написать ее полного имени… Я встретил ее в позапрошлом году… Да, в позапрошлом… 1907 году. Кажется, в мае… Впрочем, мне теперь трудно быть уверенным даже в этом… Это было так давно, так ужасно давно – в моей молодости! Все впечатления расплываются, как пламя догорающей свечи: фитиль уже упал на бок и изредка вспыхивает еще прощальным пламенем…
Да, да, в мае 1907 года… Во внезапном проблеске воспоминания оживает предо мною картина нашей первой встречи. Случилось это на площадке развалин старого замка, на вершине скалы де Ла-Гард. Я медленно взбирался по извилистой тропинке наверх и увидел Мадлен у башни замка. Заметив меня, она повернулась и покраснела, и по ее румянцу я угадал, что нарушил тайну ее интимных мечтаний.
Был один из самых ярких солнечных дней, когда само сердце ликует и трудно сдержать его порывы. Я увидел золотистые волосы Мадлен, и радость охватила мою душу. Но когда я почувствовал на себе взгляд ее зеленоватых глаз, то едва мог совладать с собою.
Через некоторое время в окрестностях Тулона, в парке одной великолепной виллы, был организован ночной праздник. Вилла стояла над морским берегом, и парк спускался к пляжу. Всюду развешены были бумажные фонарики, распространявшие кругом свой мягкий свет. Тут, во второй раз, я увидел Мадлен. Мы стояли друг против друга на террасе, над волнами, и глухой шум их долетал до нашего слуха. К этому шуму издали примешивалось пение скрипок.
Мы тихо разговаривали, обмениваясь незначительными фразами и не произнося слов, которыми были полны наши сердца. Этот разговор продолжался долго. Один за другим, потухли развешенные меж деревьев фонари. Показался из-за моря красный круг луны, и на воду опустился ее серебряный отблеск, похожий на сверкающий кипарис. Скрипки замолкли. Мы стали подниматься к вилле, и Мадлен оперлась на мою руку своей холодной рукой. Вокруг нас темнело. Внезапное волнение овладело мною. Я неожиданно наклонился, обнял дрожащие плечи Мадлен и прильнул устами к ее устам… Она не противилась.
Как ужасно теперь вспоминать все это…
VIII
Она отличалась редкою живостью характера. Чувствовалось, что горячая кровь течет в этих жилах, что ее прекрасное, стройное тело полно молодой жизнью; у ней был великолепный цвет лица, и все существо ее, казалось, дышало здоровьем.
Я помню, как я поднял ее, нежную, покорную, и стал качать, как качают маленького ребенка. Она смеялась, видя, что мне тяжело…
Может, все это интересно только для меня. Но ведь я пишу не интимный дневник или мемуары. Мне хочется, чтобы прочли мое завещание в полном его объеме: пусть раскроется тайна, которую необходимо узнать всем мужчинам и женщинам. Пусть говорят за меня, пусть убедят читателя точность и подробность моего изложения! А кроме того, как только начну раздумывать, все кажется мне существенным, все находится в связи с роковой тайной. Да, в первое же наше любовное свидание я обратил внимание на тяжесть ее тела, подняв его, чтобы крепче сжать в своих объятиях. В следующие, однако, разы это впечатление уже не повторилось. Теперь-то мне кажется, что потом она с каждым разом становилась легче…
Мадлен… Нет, я не могу написать ее полное имя; не могу, опасаясь повредить ее женской чести. Она была дочерью богатых людей. Ее отец, суровый и холодный старик, проживал зиму и лето в подобии замка, почти разрушенного, в глухой местности, затерянной среди меловых гор, отделяющих Тулон от Обани. Он жил в этой берлоге один, не принимая никого и не выезжая никуда сам. Одна из тех семейных трагедий, о которых не знаешь – более ли смешны они в глазах света или тягостны для разбитых ими сердец, – разлучила этого человека с женою десять или пятнадцать лет назад. Старики в Тулоне, Ницце и Марселе еще рассказывают историю этого развода, очень скандальную, по их мнению. О ней судачили иногда на скучных вечерах, если на зубок не попадалось более свежей сплетни. Что касается меня, я никогда не чувствовал склонности к этому мерзкому лакомству. И, по правде говоря, я не знаю, из-за чего в конце концов разошлись эти супруги. С ним я однажды виделся по делу. Ее я встречал часто по всей Ривьере, но никогда не был ее другом. Это была женщина очень легкомысленная, еще красивая, на взгляд всех, и молодая – на свой собственный… У нее была великолепная вилла в Болье и довольно крупное имение в Корнише. Она проводила три месяца в году в имении или на вилле и три других месяца в Тулоне у дочери. Остальное время – не знаю где… В Париже, вероятно.
Мадлен же круглый год жила в Тулоне и – неподалеку от него… Летом, на время самой сильной жары, переезжала на мыс, почти остров, около самого рейда, всегда доступный свежему морскому ветру. Там выстроено несколько совершенно уединенных вилл. Одна из них принадлежала мужу Мадлен, но он сам почти никогда не приезжал сюда: от города до мыса было довольно далеко. Мне же, наоборот, по служебным обязанностям нужно было, как можно чаще, посещать все соседние с Тулоном батареи. Таким образом мы с Мадлен, сколько душе угодно, могли разъезжать верхом по окрестным лесам. Приезжал я на своей лошади в сопровождении одного только вестового, человека вполне мне преданного; он следовал за мною тоже верхом, на лошади, которую выбрала для себя Мадлен. Около домика таможенного сторожа мы меняли седла; домик этот служил нам в своем роде убежищем. Вестовой оставался здесь ждать нашего возвращения, наслаждаясь моими сигарами. А мы, свободные, как ветер, среди этих совершенно уединенных мест, беззаботно скакали по лесу. И если память не изменяет мне, ни разу не произошло никакой неприятной для нас встречи.
Наша дерзость простиралась до того, что в каждую прогулку мы устраивали привал где-нибудь около опушки, на мягком и теплом от солнца песчаном ложе…
В начале лета Мадлен еще чувствовала себя, как всегда, прекрасно. Но вот прошло недель шесть или семь, может, восемь, но уж во всяком случае, никак не более десяти… Наступил сентябрь. Однажды, во время утренней прогулки, мы уселись вдвоем на песке среди леса, на обычном месте нашего отдыха. Мадлен, запыхавшаяся и веселая, легла рядом со мною. Я нагнулся к ней и обвил руками ее талию. Она смеясь отбивалась от меня, уверяя, что я устал и не смогу поднять ее. Я все-таки собрался с силами, хотя и сам сомневался в успехе. Но каково же было мое изумление, когда почти без всякого напряжения поднял я с песчаного ложа покоившееся на нем тело; каким легким, странно легким показалось оно мне…
IX
Догорающая свеча вспыхивает иногда ярким пламенем… С какой живостью воскресли в моей памяти прежние образы… Я вижу красные с темным налетом коры стволы, окружавшие просеку – они похожи на багряные колонны неведомого храма.
Одна сосна на самом солнцепеке, выше всех своих приморских сестер, распростерла над нами широкий, тенистый шатер. Песок, служивший нам ложем, был не белого, а желтого, местами золотистого цвета. Там и сям он был усыпан смолистыми иглами. Когда Мадлен поднялась, я на минуту задержал ее и стал снимать приставшие к ее юбке и спине иглы…
Лесок как бы замкнул нас в своем зеленом кругу. Наши лошади ощипывали кусты, и тишина нарушалась только позвякиваньем цепочек у их мундштуков, да близкою песнью незримого моря…
Чтобы помочь Мадлен сесть на лошадь, я подставил свою ладонь. Я напряг все свое внимание, и опять у меня получилось очень ясное впечатление необыкновенной легкости ее тела.
Пока лошади пробирались через кустарник, я невольно спросил:
– Вы были здоровы это время, моя дорогая?
– Я? – удивилась она.
– Да, вы… Мне кажется, у вас утомленный вид…
Она торопливо открыла свою коробочку с пудрой и посмотрелась в зеркало на крышке. И вдруг она рассмеялась:
– Что вы выдумали, мой милый! У меня щеки, как у деревенской бабы!..
Прогулка и отдых – все вместе взволновало ее молодую горячую кровь. И действительно, ее розовые щеки сияли как коралл.
Она поспешно взяла немного пудры на кончики пальцев и потерла щеки, чтобы ослабить блеск кожи. И потом, продолжая весело смеяться, сказала:
– Еще слава Богу, что вы мне напомнили об этом! А то у меня на лице – вот здесь под глазами и на щеках – следы ваших недавних безумств! И вид у меня вовсе не такой, как вы говорили… а совсем другой!
И я мысленно согласился с нею. Тогда… Мы продолжали болтать.
– А что вы делали, дорогая моя, со вторника? – спросил я.
– Со вторника?
– Ну да, со вторника, когда вы последний раз были у меня в Тулоне…
– Скажите пожалуйста, какая важная вещь, что ее и забыть нельзя!.. – Ничего особенного и не делала. Ах, нет: в четверг я еще раз ездила в город…
– И даже меня не предупредили об этом? Как хорошо!..
Она повернулась на своем седле и с удивлением посмотрела на меня; казалось, я поймал ее врасплох на какой-то сокровенной мысли, в которой она, видимо, сама едва отдавала себе отчет. Она повторила в тон вопроса:
– Не предупредила вас?.. – Потом, переведя свой взгляд на шею лошади, она прошептала, как будто обращаясь к себе самой: – А ведь это верно! Я вас не предупредила…
Какое-то странное смущение отразилось на ее лице. Сначала я стал подшучивать над ней и спросил:
– Конечно, у вас в этот день было назначено свидание с кем-нибудь поинтереснее меня?..
Она провела два раза рукой по лбу. Так и остались с этой минуты в памяти четыре розовых блика на кончиках ее пальцев, освещенных солнцем.
– Свидание?.. Про какое свидание вы говорите?
Она произносила слова, точно в бреду. Я несколько возвысил голос, обращаясь к ней, как к рассеянному ребенку:
– Да я сам вас об этом спрашиваю!..
Она вздрогнула и сказала уже другим голосом:
– Не сердитесь!.. Я задумалась… Вы говорили о четверге? Да, я была в городе… проездом… в Болье…
– Вы ездили в гости к вашей матери? Она теперь там?..
– К моей матери? Нет!.. Моя мать сейчас живет в Эксе… ведь еще сентябрь!..
– Зачем же вы ездили в Болье?
– Как зачем?.. – Казалось, она опять погрузилась в какой-то полусон. Неуверенно, будто с усилием, произносила она каждое слово… – Да у меня были разные дела… Я и поехала в Болье… Да впрочем… вот… я вам покажу… – Она бросила поводья и стала что-то искать в сумочке, которая всегда висела у нее на руке: – Вот… смотрите… у меня еще остался билет…
Я с удивлением взял от нее маленькую карточку; на ней был сделан всего один прокол.
– Ваш билет? Как? Разве у вас его не отобрали при выходе со станции?.. – Она посмотрела на меня, широко раскрыв глаза.
– Я, право, не знаю… Нет, верно, я забыла отдать… А у меня не спросили…
По маленькой складке между бровей было видно, что мысль ее усиленно работала. Вдруг, как бы почувствовав, что ее старания остаются тщетными, она сказала:
– Слушайте, я уж лучше вам во всем признаюсь… Это, действительно, как-то нелепо… и мне самой совестно… Но мне приятней, чтобы вы знали… Ну, вот в чем дело: я и сама не могу сказать, зачем, собственно, я ездила в Болье во вторник! Мне там решительно нечего было делать… По крайней мере, я ничего такого не могу припомнить… И я не помню даже, что я там делала… Уехала я во вторник утром, а вернулась вечером в среду… И страшно устала вдобавок… Вот и все!
От удивления я затянул мундштук, и моя лошадь остановилась.
– Как так – все? – громко сказал я. – А что же ваш муж?.. Вы ему-то объяснили, где вы пропадали целых двое суток? Ведь вы мне двадцать раз говорили, что он вам не позволил бы уехать и в Марсель без крайней необходимости?..
Я прекрасно помнил бесконечные разговоры с нею из-за двух ночей, которые нам всего только и удалось провести вместе за целых шесть или семь недель; чего мне стоило отвоевать их!
Она тоже остановила лошадь, обернулась… И недоумение, с которым она ответила мне, поразило меня…
– Всего удивительнее то, что я перед отъездом что-то объясняла своему мужу, а теперь не помню ни одного слова из нашего разговора.
– Ну, а когда вы вернулись?.. Ведь он же, я думаю, расспрашивал вас о вашем путешествии?
– Да! Вот его подлинные слова – они остались у меня в памяти: «Что ж, ты довольна? Все устроилось, как ты хотела?» А я машинально ответила: «Да, все. Я очень довольна». И он больше ничего не спрашивал.
– Ну а самое путешествие? Приезд в Болье?.. Вы где же там остановились?
– Где?.. Ну как где… Конечно, у себя на вилле…
– Вы, кажется, и в этом не вполне уверены…
– Нет, уверена! Но, право же, для меня самой эта поездка представляется загадочной. Как будто в моей памяти после нее осталась какая-то большая, темная дыра… И даже!.. Как только я стараюсь припомнить хоть что-нибудь, мне делается больно… больно здесь… и вот здесь… – И она указала сначала повыше виска, потом – на основание лба, между бровей. Я продолжал испытующе смотреть ей в лицо, в глаза… И вдруг она заплакала горькими слезами. Я забыл тогда все на свете и стал осыпать ее поцелуями.
Ведь я ее любил… Любил – как никого до нее!








