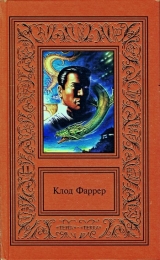
Текст книги "Сочинения в двух томах. том 1"
Автор книги: Клод Фаррер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 44 страниц)
Пятая эпоха
ПРИЗРАКИ
О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ДОМЕ НА БУЛЬВАРЕ ТЬЕРА
Я не могу дать объяснения того, что произошло в доме на бульваре Тьера. И очень жаль, что я это рассказываю здесь, ибо так называемые рассудительные люди посмеются над этим, а другие, к которым и я сам принадлежу, не найдут в этом ничего, что могло бы исцелить их от безумия.
И все-таки, я расскажу про это, ибо это истинное происшествие. Произошло оно первого мая прошлого года в городе, названия которого из осторожности я не назову, на четвертом этаже дома, который не был ни стар, ни таинственен, наоборот, он был новым обыденным, безобразным зданием. Этот дом был построен очень недавно на развалинах квартала, пользовавшегося очень скверной репутацией. Широкий бульвар, нависший над рекой, заменил теперь лачуги с закрытыми ставнями, лепившиеся на склонах прибрежной горы. Переустроенный квартал имел очень почтенный вид. Но для фундамента новых домов воспользовались старыми порочными камнями, порочными, так как они созерцали порок. И, несомненно, бульвар Тьера был пропитан остатками этой порочности.
Дом этот, под номером семь, был домом меблированных квартир. Мы, восемь или десять друзей, занимали целый этаж. Кто были другие жильцы, я никогда хорошо не знал. У нас там была устроена курильня опия, окруженная другими комнатами. Но в тех комнатах никто не спал, предпочитая, растянувшись на рисовых циновках, курить и болтать до зари. Опий освобождает своих поклонников от ига сна. Иногда мы занимались столоверчением и забавлялись тем, что задавали вопросы тому, что экстериоризовалось под нашими пальцами и поднимало, одну за другой, все четыре ножки. Среди нас был странный человек, очень молодой, совершенно безбородый с длинными черными вьющимися волосами. Он жил в курильне и одевался в желтое и синее, в костюм клоуна. Он находил этот костюм удобным для спиритических сеансов. В действительности он был очень посредственным медиумом. Стол довольно легко вращался под его руками, но никогда при нем не случалось ничего необычайного.
Часто нас посещали женщины, жаждущие опия, жаждущие также и ласк, ибо опий, как бы подбивает ватой и войлоком чувствительность женщин и грубое соприкосновение с мужчиной кажется им тогда деликатным и прекрасным, как прикосновение андрогины. В тот вечер, про который я рассказываю, к нам пришла одна двадцатилетняя девчонка. Мы ее называли Эфир, по причине ее страсти к эфиру; каждый вечер ей нужен был полный флакон сернистого эфира. Это не мешало ей вслед за этим выкурить свои пятнадцать трубок. В этот вечер она была дважды в опьянении и лежала голая. Кто-то из нас целовал ее в губы. Лампа светила тускло, в комнате был полумрак. Мы болтали, сейчас я уже не помню о чем.
Почему нам пришла в голову фантазия вертеть стол, не могу вспомнить. Гартус (Гартус – это клоун в желто-синем костюме с волосами женщины) первый поднялся и позвал меня помочь ему перенести стол в одну из комнат; вблизи опия стол не может вертеться. Я поднимался слишком медленно, и он, не дождавшись меня, перенес стол один. Еще и теперь моим глазам ясно представляется его согнутый и расчлененный на две части силуэт. Минуту еще я оставался распростертым, желая покинуть сладкое очарование шестой трубки. Справа от меня лежала в полузабытьи Эфир; опьянение отягчило ей голову; она обеими руками обхватила голову мужчины, целовавшего ее, и прижала ее к своему телу. Я встал и пошел вслед за Гартусом.
В сыром, вязком воздухе комнаты горела только одна свеча; пламя ее танцевало сарабанду. В окна через тюлевые занавески луна рисовала на стенах кружевные узоры.
Мы уселись друг против друга и, положив на стол руки, довольно долго молчали. Некоторое время ничего не выходило, стол был неподвижен. Он даже не трещал – вы знаете этот сухой и странный треск, предшествующий экстериоризованному движению. Нет, ничего не выходило. Мы перед этим курили – и, может быть, в этом и заключалась причина неудачи.
Наконец мне это надоело; я поднялся, открыл освещенное луной окно и оперся на подоконник. Ночь была ясная, крыши были белы от лунного света, блестела река. Было совсем тепло. Ветер раздувал мою пижаму и ласкал мне грудь. Погода была чудесная, и в этот момент я услышал, как сзади меня клоун в желтом и синем задул свечу. И вот тогда начались необъяснимые явления.
Ветер, овевавший мое тело, вдруг показался мне холодным, как будто термометр внезапно понизился градусов на двенадцать. Стол с шумом упал и сейчас же снова поднялся. Я решил, что Гартус в темноте наткнулся на стол и опрокинул его. Но из глубины комнаты он мне сейчас же крикнул, чтобы я не шумел так. Я ничего не ответил, но я очень хорошо знал, что не дотрагивался до стола.
Я был так напуган, что не мог снять рук с подоконника. Наконец, собравшись с духом, с большим усилием воли я обернулся и увидел, что стол был неподвижен, а Гартус шел к курильне. Я осторожно обошел стол, боясь прикоснуться к нему, и тоже ушел в курильню.
Там все было по-прежнему. Курильщики изредка перекидывались словами. Лежа на своей циновке, Эфир продолжала прижимать к своему телу губы лобзающего ее. Свет луны не проникал сквозь плотные занавески, и только желтый свет лампы освещал потолок.
Как вдруг… При моем появлении Эфир отстранила от себя лобзавший ее рот и с легкостью встала. Это меня очень удивило, так как за несколько минут перед этим эфир и опий ее совершенно парализовали. Но теперь она не была опьянена. Я видел, что ее глаза были ясны и светлы. Она оперлась на перегородку; ее тонкое нагое тело, казалось мне, увеличилось и изменилось. Детали очертаний были те же: мне были хорошо знакомы эти круглые плечи, мало выступающие стройные груди и узкий нервный профиль. Но все в целом производило иное впечатление. Мне казалось, что передо мною стоит незнакомая, чистая и выделяющаяся над средним уровнем женщина, знатного происхождения и с высокоразвитым интеллектом, а вовсе не неграмотная кокетка Эфир. Рассмотрев ее внимательно, я был поражен. Ее любовник позвал ее; она ответила ему медленным голосом:
– Mundi amorem noxium horresco 66
Преступная любовь внушает мне ужас.
[Закрыть].
Эфир не умела читать. Говорила она только по-французски – и то в ее речи было много бретонских выражений.
Она снова заговорила тем же строгим голосом монахини или игуменьи:
– Iejunüc carnem domans dulcique mentem pabulo nutriens orations, coeli gaudis potiar 77
Укрощая мою плоть постами, питая душу сладкой пищей молитвы, достигну я небесных радостей.
[Закрыть].
Курильщики не удивлялись. Они так основательно накурились, что им казалось естественным то, что меня поражало. Один только желто-синий клоун приподнял свои брови и взглянул на женщину. После этого он обратился к ней более вежливо, чем это у нас было в обычае.
– Напрасно вы стоите. Вы так устанете.
Она не пошевельнулась и сказала:
– Fiat voluntas dei! Iter arduum peregi et affligit me lassitudo. Sed dominus est praesidium 88
Да будет Божья воля. Я прошла трудный путь и устала. Но Бог поддержит меня.
[Закрыть].
Он с любопытством спросил:
– Откуда пришли вы?
Она ответила:
– A terra Britannica. Ibi sacrifico sacrificium justitiae, qua nimis peccavi, cogitatione, verbo et opéré. Mea maxima culpa 99
Я пришла из страны Бретани. Там принесла я справедливую жертву, так как много согрешила словом, делом, помышлением. Велик мой грех.
[Закрыть].
– Какой ваш грех, – снова спросил ее клоун.
– Cogitatione verbo et opéré. De viro ex me filius natus est 1010
Помышлением, словом, делом… Не от мужа мною сын рожден.
[Закрыть].
Я ясно видел, как покраснело ее бледное лицо.
Она продолжала говорить по-латыни, средневековою латынью монастыря и требника, которую я понимал, вспоминая изречения из Библии; запах опия помогал мне вспомнить катехизис. Я сидел около лампы и во время этого разговора ждал, пока зашипит на кончике опий. Только это одно и уменьшало мой страх, – глухой страх, от которого у меня щемило в груди и который держал меня под своей властью, несмотря на внешнюю простоту всей этой сцены. Нервы Гартуса окрепли от выкуренных трубок, и он говорил спокойно. Я смотрел то на него, то на нее, и образ их обоих до такой степени глубоко врезался в мой мозг, что ничего не изгладит из моей памяти этой сцены. Я и сейчас их вижу. Он, желто-синий, сидит на корточках на циновке, рукою опирается об пол; лампа по временам бросает светлые блики на его длинные черные волосы. Она, странная, чуждая, стоит голая, спиной обернувшись к стене и заложив руки за голову. Между ними шел живой обмен слов, и в то же время комнату все больше наполняло веяние чего-то замогильного… Голос незнакомки сохранял прежний монашеский тембр, но постепенно он звучал с большей силой, как бы приближаясь. Фразы сначала были отрывисты и коротки, но потом торопливые фразы спешащей путешественницы, не имеющей времени разговаривать, перешли в длинные периоды; уже говорилось о незначительных деталях; фразы были уснащены цветами риторики. Я слишком мало интересовался церковью и слишком был неуравновешен, чтобы понимать разговор. Позже я расспрашивал обо всем этом Гартуса, который знает язык духовных семинарий. Но он не любит разговаривать на такие темы, и я от него ничего не добился.
У меня сохранилось только воспоминание о том, как она медленно нараспев произносила латинские слова наподобие того, как это бывает во время церковной службы. По временам я схватывал отдельные слова, названия людей и стран, церковные термины; они беспорядочно врезались в мою память: Astrolabius, Athonase, Sens, Argentenil, excommunitio, concilium, monasterium. В голосе чувствовалось оживление и энергия. Было похоже, что она на что-то возражала. Среди массы слов особенно выделялись два слова рапет supersubstantialem, повторенные раз десять. Сначала они звучали с горячностью и силой, позже смиренно и с тоской. Внезапно голос стал бесконечно печальным и смолк.
Я слышал тогда, как заговорил желто-синий клоун, и хотя почти ничего не понял из его слов, но в общем вся речь его, как и заключительный вопрос: «Грех сладострастия. Какое было наказание Бога?» – показались мне совершенной чепухой.
Бледное лицо еще сильнее покраснело, и ее голос понизился на октаву. Она говорила шепотом и торжественно, словно исповедовалась; до меня едва долетело только несколько слов, произнесенных со странным оттенком отвращения. Я услышал слова «modo bestiarum», «copulatione», «membris asinorum erectis», и резко отчеканенное с выражением дошедшего до тошноты отвращения слово castratus…
Тогда я не сразу понял, что женщина стала сосудом тех сил, с которыми я и Гартус было затеяли сейчас опасную игру. Но женщина, вернее душа той женщины, вселившаяся вдруг в эту, была и союзницей этих сил, гордых своим умом магов, и, раскаявшаяся, их противницей…
Да, тогда все эти ее слова (то есть не ее, конечно, а той…) еще не имели для меня смысла, который, может быть и неправильно, я придаю им теперь:
«Другой угол звезды… другое царство. Царство теней в серебристом молчании ума и гордыни. Консилиум неверующих… в монастыре! Жажда – себя… Ум и наслаждение – против вечности. Изменение субстанции. Клубок совокупляющихся. От ума – к спазмам оргазма. Кастраты! Кастраты Адамова семени!..»
Речь явно шла об одном из пап… Известном многим. Наместник Бога на земле заблул в гордыне ума и наслаждения тела, но… Вдруг – отринул. Отринул свое безверие! Великое покаяние великого человека!..
Что она говорила именно об этом – стало понятно через минуту. Голос ее стал ясным, более медленным и таким отчетливым, что последние фразы целиком остались в моей памяти:
– Fuit ille sacerdos et pontifex, et beatificus post mortem. Nunc angelorum chorus illi absequantem concinit laudem celebresque palmas. Gloria patri per omne saeculum 1111
Он был священнослужителем и первосвященником и блаженным после смерти. Хор ангелов поет ему хвалебную песнь в честь его победы. Слава Отцу в веках.
[Закрыть].
– А вы? – спросил Гартус.
– Dominus omnipotens et misericors deus débita mea remisit. Virgo ego fatua. Sed dimissis peccatis meis, nunc ego sum nihil 1212
Господь Бог, всемогущий и милосердный, отпустил мне мои грехи, ибо я неразумная дева. Но теперь, после отпущения грехов, я ничто.
[Закрыть].
Она три раза повторила слово «nihil» (ничто). И теперь казалось, что она говорит очень издалека. Слово «nihil» в последний раз донеслось, почти как чуть различимое дуновение.
Желто-синий клоун подошел к ней вплотную и дунул ей в лицо опием. Она не шевельнулась. Но медленно ее мускулы начали ослабевать, и я увидел, что по ее бледному лицу пробежала дрожь. Через минуту ее глаза открылись и снова закрылись. Она согнулась – и на циновки опустилось дряблое, безжизненное тело…
После этого это тело с усилием зашевелилось, и изо рта, того же самого рта, послышались звуки совершенно другого голоса, полупьяного бормотания:
– Боже, как холодно! Дадите вы мне трубку-то, что ли? И юбку тоже. Ждете, чтобы я околела на морозе?
И, действительно, стало холодно, как в погребе.
Один из курильщиков засунул в трубку прикрепленный к иголке темный шарик и протянул женщине трубку. Возможно, что он тоже, как и я, слышал предыдущий разговор. Но, без сомнения, опий ему одновременно с этим показал и другое еще более чудесное.
ЦИКЛОН
Мне рассказывал про видение тот, кто видел его. Я знаю много странного и кроме этого видения. Но оно не покажется странным вам, так как вы не курите. Для вашего неуглубленного опием ума, оно представляется простым и естественным. Итак, я вам расскажу только про видение.
Тот, кто видел его, курит, а следовательно, он не лжет и не галлюцинирует. Опий рассеивает все земные иллюзии и требует чистосердечности. Я не курю, так как дал клятву не курить. Но каждую ночь я бодрствую в курильне и засыпаю на циновке, когда через отдушину начинает проникать тусклый свет зари и желтеет свет лампы. И черный дым, который осаживается кругом нас, в конце концов, вносит в мой мозг немного свету и откровенности.
Итак, я перескажу без всяких изменений все так, как оно было мне сказано. В этот вечер мы, как обычно, лежали в курильне. Мы были не одни. Опий любит, чтобы поклонники его собирались вместе. На циновке лежали две женщины. Имя одной из них нельзя назвать, потому что она была, что называется, «честной женщиной». Она тайком пришла курить с нами. Ее муж путешествовал в это время на пароходе. Другую женщину мы называли Игрушечкой, так как она охотно была готова служить игрушкой мужчинам. На улице эти женщины столь разного положения в жизни, конечно, с презрением взглянули бы друг на друга, но здесь они были подругами и часто спали в объятиях друг друга. Лежали на циновках еще три молодых человека, зашедших побаловаться с опием. Они мало курили и больше ласкали женщин. При тусклом свете лампы плохо были видны их распростертые на циновках тела. Кто знает, слушали ли они тогда, а если слушали, то поняли ли. Тот, про кого я говорю, курил, а я смотрел, как он курил свои трубки, вдыхая черные клубы дыма.
Я вам не сказал, кто он такой. Это потому, что я не знаю ни его возраста, ни даже роста: я всегда видел его лежащим на циновке при тусклом свете лампы. У него была серебристая борода, и его глаза отсвечивали зеленоватым металлическим блеском. Мы называли его Безмолвным, так как он начинает говорить после тридцатой трубки. Но говорит он тогда необычайные вещи. Он видел все страны, и опий научил его понимать их. Думаю, что он был капитаном военного судна; но я не знаю этого наверное; для меня безразлично все, что происходило вне курильни.
Вот, что он мне рассказал в ту ночь, когда мы долго говорили о видениях и призраках:
– Наиболее злостные из них не те, которые блуждают по могилам, или те, которые забираются в жилые дома, чтобы заглушить неверящих простаков. Этих всех мы, курильщики опия, видели. Впрочем, они ничем не решаются нам повредить, так как знают, что опий сделал нас такими же текучими и нематериальными, как они сами, и что в темную ночь мы ощутим их присутствие раньше, чем они наше. Но я видел и другие призраки, которые заняты не живыми; то, чем заняты эти призраки, – много труднее и ужаснее.
…Скажите, вы помните про «Лисицу»? Нет? Видите ли, это было уже много лет тому назад, в то время, когда для моего опьянения достаточно было семи трубок, ну а теперь мне нужно сорок. «Лисица» – это был крейсер, неизвестно почему потерпевший крушение. Это было узкое и длинное судно, корпус его едва возвышался над поверхностью воды, а три мачты поднимались очень высоко, как будто желали убежать из черной воды. Он вышел из гавани в прекрасный тихий день и больше туда никогда не возвращался. Вместо него явился циклон, который произвел массу разрушений по всему побережью. Этот циклон не был похож на другие циклоны; он вращался справа налево, тогда как все его братья Индийского океана вращаются неизменно слева направо. Мне и тогда показалось это странным, но я не стал над этим задумываться. Значительно позже некий голландец в одной из курилен Тонкина утверждал, что существуют особые «живые» бури. Их можно узнать по той особенности, что вопреки всем естественным законам они дуют с севера, тогда как они должны были бы дуть с юга; идут вправо, тогда как ожидают, что они направятся влево, и вообще поступают так, как им вздумается.
«Эти бури, – наконец объяснил он мне, – являются проявлением злых тайных духов. Они наиболее опасны для судов». – И он многое рассказал мне про них…
Я тогда слушал его и сам начал думать о том, что циклон во время гибели «Лисицы» должен быть одной из этих «живых» бурь. Но тогда я не слишком волновался по этому поводу. Впрочем, вообще никто не интересовался больше «Лисицей». Жены погибших моряков после исчезновения судна надели черные платья и креповые вуали, но довольно скоро бросили носить траур. Многие из них во второй раз вышли замуж; по-видимому, это для них ровно ничего не стоило. Так вот, с тех пор прошло уже много лет, сколько именно я не знаю, так как курение мешает определению времени.
– Знаете, приверните-ка немного лампу; последняя трубка подгорела.
Он замолк, а я выправил фитиль. С циновок донеслось до нас тихое прерывистое стенание. Одну из лежащих женщин обуял любовный восторг, которую именно – я не знал, так как он кончиком иглы взял опий, и я предпочел смотреть, как желтеет и вздувается над пламенем лампы опий.
Он продолжал свой рассказ, и, словно аккорды лютни, ему аккомпанировали сладострастные стенания.
– Да, все на свете забыли про «Лисицу», и я в том числе. О ней не было, Бог знает сколько времени, никаких известий! Известно было лишь про единственное и несомненное, впрочем, доказательство ее гибели: парусное судно встретило в океане разбитую доску, на которой еще можно было прочитать Лиси… последних букв не было. Сомнения быть не могло. Надпись была хорошо известна.
Так вот, однажды я решил отправиться в Китай, так как опий здешних аптекарей никуда не годится, и я хотел достать настоящего опия. Отправился я на большом крейсере; названия его я называть не хочу, так как на нем меня постигло несчастье.
Собственно, в Адене предупредили, что в Индийском океане нас встретит циклон. Но мы торопились и отправились, несмотря ни на что. Командир поручил мне вычислить кривую для вихря. Вы знаете, что это не хитрая штука. Я сделал наблюдения, привел в порядок цифры и на следующий день после отплытия, вечером, я передал бумагу капитану. После этого я вернулся в каюту и, запершись, начал курить.
Сначала все шло хорошо. Я курил до ночи.
Море волновалось все сильнее и сильнее. Но на моей циновке качка мне не мешала. Но когда настала ночь, я сейчас же почувствовал, что случилось что-то анормальное. Что именно, я не знал. Но чувствовал приближение к нам чего-то неизвестного. В этот момент мне показалось, что опий изменил свой вкус. Мне казалось, что дым был так же подавлен и так же взволнован, как я. Между тем я еще курил, ночь стала непроглядно темной. Окошечка люка нельзя было различить.
Я продолжал курить, мои ощущения становились определеннее. Как ни был поврежден опий тем неведомым, что приближалось, все-таки моя голова прозрела от него. Постепенно я начал понимать. Прежде всего я почувствовал, что мы подвергаемся двойной опасности; почему именно двойной, этого я не знал; но я совершенно несомненно знал, что обе эти опасности одинаково смертоносны, что они надвигаются на нас, и я чувствовал также, что приближаются они… вращаясь! Из этого мой разум сделал вывод, что это должен быть циклон. В то же время я ощущал, что вращение происходило слева направо. В таком случае все мои вычисления оказывались ошибочными. Но я не останавливался на этой мысли. Я уже и до этого понял, что вычисленные мною цифры имеют мало значения и что мы имеем дело не с обыкновенным циклоном.
Вдруг моя лампа без всякой причины погасла, и во тьме меня обуял ужас. Я слышал, как стонала мебель и испуганно трещали волокна циновки. Сквозь стены доносилось завывание ветра. Я совершенно ясно понимал, что этот ветер не был естественным ветром, более или менее быстрым движением воздуха; но этот ветер был живым существом; он мыслил и знал, и, несомненно, он сам задавал себе вопрос, стоит ли разбить ореховую скорлупу, в которой мы находились.
Я был опьянен, ноги мои дрожали. И все-таки я сразу вскочил на ноги и вскарабкался на палубу на четвереньках, цепляясь руками за ступеньки. Качка была так сильна, что я едва не сорвался с лестницы.
Когда я поднялся наверх, ветер внезапно стих. Несомненно, мы были в центре вихря; как вы знаете, в центре всегда спокойно, но в то же время там очень опасно, так как кругом ветер вращается быстрее, чем выброшенный из пращи камень.
Но как-никак, эта неестественная тишина дала мне возможность выпрямиться и подойти к плаштиру. Здесь я увидел видение.
Океан необычайно фосфоресцировал, и на поверхности воды, похожей на погребальный покров, усеянный несчетным числом золотых слезинок, показался сбоку от нас корабль. Это было длинное и узкое судно, палуба которого едва возвышалась над водой; три мачты его уходили куда-то ввысь, как бы желая убежать из мира живых существ. Они дрожали, эти мачты, так же, как дрожали блики в воде; их вершины не были ясно видны, но расплывались вверху, словно дым, и терялись в небесном просторе. Корпус, наоборот, выделялся чрезвычайно отчетливо, более отчетливо, чем железный или деревянный. На палубе были видны очертания людей с бледными лицами, в одеждах, блистающих от золотых украшений. И вместе с тем все, что я видел было прозрачно; сквозь доски и людей я видел фосфоресцирующую поверхность океана.
Корабль-призрак прошел мимо нас, и я слышал шум его машин. Он медленно вращался около себя самого. И, когда корма его поравнялась со мной, я увидел, что одна из досок с названием была отбита и от его названия остались только две последние буквы: ца.
Корабль начал удаляться. Ветер задул с такой силой, как я еще никогда не испытывал. Очевидно, живой центр циклона увлекал призрак мертвого корабля навсегда, в бесконечность.
Я спустился и снова принялся курить. Но опий был безвкусным, словно молоко. Это меня устрашило более всего. Дайте-ка мне губку, моя трубка загрязнилась…
И он замолчал. Обе женщины теперь стонали под действием ласк на циновках. До меня доносилось их горячее дыхание. Но я… я смотрел только на трубку, которая стала блестящей после омовения маленькой губкой, пропитанной водой.
ВНЕ МОЛЧАНИЯ
Нет, ночь еще не наступила. Я вообразил, что уже была ночь, но это было не так. Мне только так показалось, потому что я теперь плохо вижу. Когда я одурманен, туман застилает мои глаза, темный туман; он колеблется и движется передо мной. Я с трудом различаю сквозь него предметы, и мне кажется, что они колеблются и двоятся. Это очень забавно. Я продолжаю курить, и дым разносится все дальше и делается все более темным; он похож на отвратительный дым пароходов, на грязный дым пакетбота, который когда-то доставил меня из злосчастного Тонкина…
Впрочем, не стоит об этом думать.
Так ночь еще не наступила? Это хорошо! Еще остался час, да, может быть, час удовлетворенной и спокойной жизни в шумном уединении дня. Ибо день исполнен шума. Он полон грохота и сутолоки даже в этом глухом месте, даже в абсолютном уединении моей курильни, в абсолютном уединении моего дома, в абсолютном уединении моего кладбища, вдали от деревни, вдали от ферм, вдали от самой жалкой лачуги. Они не придут ко мне, местные жители, они боятся. Никто из них не захотел стать сторожем. Пришлось выискать меня, старого сержанта легиона, который подыхал с голода на парижской мостовой. Я ничего не имел против того, чтобы стать сторожем. Я не боюсь кладбища. Я не боюсь…
Что это – ночь? Нет, это еще только дым от этой трубки. Дьявольская трубка. Опий слишком проник внутрь, и бамбук почернел. Все-таки надо пойти сейчас же закрыть двери… Я предпочитаю закрыть их до ночи… даже до вечера. Иду.
Так… Я все запер. Боже мой, что за шум на освещенном солнцем кладбище? Я совсем оглох от него. А ведь там летают пчелы, и ужас до чего громко стрекочут стрекозы; кроме того, там чирикают птицы в воздухе, в котором отдается эхо бесчисленных звуков. А там ветер шуршит листвой деревьев и слышится яростное стрекотание сверчков и кузнечиков. Сколько ярких и громких звуков, острых, глубоких, но всегда оглушительных. Я уже не говорю об отдаленных звуках, которые тоже неминуемо долетают до меня: крики животных с ферм, крестьян – за работой, гула с завода – не дальше пяти миль отсюда… Да, я прекрасно слышу все эти шумы. И, взятые все вместе, они мешают мне вслушиваться в другой шум, шум более тихий, чем самый тихий шепот, ночной шум, ожидающий своей очереди… Что – все еще ночь не наступила?..
Все равно. Конечно, прежде я не слышал столько шорохов.
Это опий. Прежде мои уши были точно залеплены воском, и теплый дым растопил его. Я помню свою молодость и то время, когда был солдатом в Южно-Оранжевой республике и Сахаре. В те времена я слышал не больше, чем другие. Пустыня была нема, и, как только заря прогоняла прочь ночных шакалов в их берлоги, молчание окутывало таинственную пустыню. Полное безмолвие царило и в полуденный час в моей деревне, на склоне темных Севен; и вечером на каменистых откосах, на скудных кладбищах долин, в зарослях кустарника и на опушке лесов опять-таки была тишина, безраздельно царившая ночная тишина…
А какое безмолвие, когда луна заливает своим светом землю. Теперь нет больше такой тишины. Тишины – нет.
Это мечта, это миф, это утопия – утопия примитивных людей, – утопия тех, которые не курят.
Это началось с Тонкина, как только я начал курить. Да, это сейчас же началось. Я еще помню мое прибытие туда на палубе транспортного судна. Мы сделали остановку в Сайгоне и вечером были отпущены в город. Я, как и другие, мечтал о кутежах и женщинах. Как только я миновал сходни – сейчас же оказался перед большой стеной. Оттуда до меня донесся волнующий и приятный запах, запах, который сразу проник в мою душу и покорил ее. Я еще не знал, что это такое. Как бы то ни было, позабыв все на свете, я всю ночь до зари околачивался около этой стены – как узнал потом – стены фабрики опия, стараясь впитать в себя доносившийся до меня запах.
Первую трубку мне довелось выкурить в Пан-Нахе; это маленький, чрезвычайно отдаленный погост на границах горных лесов, таинственных лесов, наполненных запахом гниющей листвы, порождающей лихорадку и безумие. Мы много курили там. И ночью мы очень хорошо слышали, как бродят тигры, хотя они крадутся через кустарник тише кошек.
Сначала это даже казалось забавами. Мы ясно воспринимали самые легкие шорохи. Как-то вечером пират из банды Док Тней проскользнул вдоль забора тише ужа. И мы все-таки услышали его так ясно, что когда он вскарабкался на бамбук, то мой капрал всадил ему пулю прямо в живот, не видя его. В другой раз зазвонил на посту колокол. У наших стрелков застучали зубы, они вообразили, что лесные духи всем нам предвещают смерть. Но одновременно со звоном колокола я услышал легкую поступь нашей козы, которая оборвала свою веревку и зацепилась рогами за бечевку языка колокола.
Да, все это было прекрасно. Только впоследствии я нашел это менее очаровательным.
Да, сначала неудобства от этого были совсем пустяшные, даже комичные. В Тонкине на постах я жил вдали от людей и быстро изучил те тихие шорохи, которые мне приходилось слышать. Позже, во Франции, в Париже, я услышал другие звуки, более сложные, людские звуки… В гостинице был очень надоедливым тот шум, который каждый постоялец производил в своей комнате: и тот, кто храпел, и тот, кто не спал, и тот, кто предавался любви, и тот, кто спускал воду, – всякого я слышал. Ввиду этого я поселился в глубине Монпарнаса; я нарочно выбрал этот мертвый квартал. И что же, с первого же дня я услышал ночное движение, услышал, как взламывают замки, перелезают через решетки так же, как в Пан-Нахе пират перелезал через забор. И я в страхе цеплялся ногтями за одеяло на моей постели, мне казалось, что вот-вот откроется дверь и появится какой-нибудь грабитель и что его нужно попотчевать ударом дубинки… Я снова переселился в центр Парижа. Теперь шум был слышен и день и ночь, я уже не мог различать друг от друга разные звуки. Это было похоже на ужасный оркестр, в котором зараз звучат все инструменты. Я совсем не мог спать. Опий вообще не слишком большой друг сна. Нужно было придумать еще что-то. К тому же мои запасы опия истощились. Я привез его так много, как только мог, но прежде всего у меня сперли один ящик мерзавцы таможенники, а затем я неверно рассчитал, думая, что во Франции буду меньше курить. Оказалось, скорее наоборот. В конце концов, я нашел в Париже сговорчивого аптекаря, но его опий был порядочной дрянью, а кроме того, полученное при выходе в отставку пособие в девятьсот шестьдесят пять франков таяло с каждым днем. Само собой понятно, что мне обещали работу в табачной лавке – со времени моей раны в Сон-Tay я сильно хромал, – но сын попа перебил у меня место. После этого я попросился сюда – и вот теперь охраняю кладбище.
Да, ночь пришла. Летучие мыши начали свой первый полет. Кажется, что птицы уже поют перед заходом солнца.
Ветер затих. Уж и это хорошо!
Но вот, чего вы не знаете. Ночью я тоже слышу мое кладбище. Ночью другие шумы, менее отчетливые, чем дневные звуки; слышать их более опасно, более беспокойно, более мучительно. Первое время я думал, что мертвецы выползают из гробов, чтобы танцевать при свете луны танец скелетов. Но нет, не в этом дело. Мертвые мертвы – и не появляются. Или, если они появляются, то так тихо, что даже я их не слышу! Еще не слышу. Нет, танца скелетов я не слыхал. Я слышал другое…
Я слышу смутные шорохи, шорохи, которых никто не слышал. От этих шорохов веет смертью и тленом. Они доносятся от подножия кипарисов и мавзолеев – эти ночные шумы страшатся солнца, живого ветерка и пения птиц, это холодные шорохи, от которых кровь леденеет в жилах и волосы становятся дыбом. Я слышу, как трещит дерево гробов и стонет под липкою, влажною от дождя, почвою. Я слышу, как слишком тяжелые гробы медленно погружаются в липкую грязь. Я слышу, как копошатся проворные черви в гниющих трупах и стучат друг о друга кости, когда они спускаются, по мере того как перегорает ткань саванов. И из замкнутого четырьмя стенками прямоугольника, в котором спят друг подле друга полторы тысячи мертвецов, доносятся каждую ночь до ушей старого курильщика опия полторы тысячи ужасных шорохов, полторы тысячи могильных стонов, из которых каждый вносит свою долю безумия в мою расстроенную голову…








