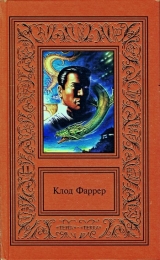
Текст книги "Сочинения в двух томах. том 1"
Автор книги: Клод Фаррер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 44 страниц)
XIV
Суббота, 17 сентября.
Я только что гулял вдоль Босфора по набережной Терапии… Эта набережная – самое аристократическое место из всех окрестностей Константинополя, но мне она нравится не поэтому. Прибой, который набегает сюда свободной, шумной и кипящей волной, прекрасен. Больше нигде не видно волн на Босфоре.
Впрочем, если бродить так, как я, чуть ли не по самой воде, можно не замечать ни вилл, окаймляющих берег, ни челяди на порогах дверей, ни пышных экипажей; достаточно не смотреть в ту сторону.
Итак, я любовался прибоем, когда вдруг услышал за спиной отвратительную фразу.
– Здравствуйте, господин маркиз.
«Господин маркиз» – что за лакейская манера у жителей Перы!
В данный момент это были девицы Колури, Калиопа с Христиной; очевидно, они вышли показать свои костюмы tailleur, смешные, хотя и не слишком.
Тотчас же они меня забросали словами:
– Как вы редко показываетесь!
– Почему вы никогда не приезжаете в Иеникей?
– Как видно, в других местах вам приятнее бывать!
– Правда, вы наняли дом в Беикосе у турок?
– Вас на днях видели в Канлидже.
– У мадам Фалклэнд?
– Есть люди, которые воображают, что вы за ней ходите (sic!).
– Да нет, Калиопа. Маркиз ездил к сэру Арчибальду.
– Вы настоящие друзья, правда?
– Я, мне кажется, способна влюбиться в сэра Арчибальда! Какой умный человек! Я чувствую себя перед ним совсем маленькой… (sic).
– Умный или неумный, мне он не нравится. По-моему, его друг, князь Чернович, куда интереснее.
– О, этому всюду нужен пельмель (sic, sic, sic!). Зачем он болтается в этом доме?
– Христина, маркиза это не интересует. Скажите, господин маркиз, вы сегодня вечером будете в Summer-Palace? Возможно, что это – последний бал в сезоне.
– Приходите, мы с вами пофлиртуем…
И так далее. И так далее. Я постарался от них поскорее избавиться.
Я у себя, в моем деревянном домике. Обедал один; мой каикджи Осман приготовил мне пилав с турецким горохом и кебаб с рисом. Темная ночь. Я сижу у окна и стараюсь в дальней полосе огней различить огонек Фалклэндов в Канлидже.
Справа и слева ближайшие ко мне турецкие домики, такие тихие, почти безлюдные до захода солнца, теперь ожили; оттуда слышны говор и движенье. С шахнишаров сняты деревянные ставни. И при свете звезд я смутно вижу высунувшиеся из окон белые фигуры, слышу щебетанье женских голосов и смех.
Я заказал каик к десяти часам, десяти по французскому времени. Мне ужасно не хочется переезжать на тот берег и ехать в крикливо освещенный дворец. Да, это грубое освещение в ночной тиши Босфора, где мелькают одни только бледные, как звезды, лампы и фонарики, режет и глаз и ухо.
Но на бал идти необходимо. Там будет леди Фалклэнд, и я должен у нее спросить, совершим ли мы в понедельник прогулку по Стамбулу.
Десять часов… Подождем еще немножко.
Два часа ночи.
Я вернулся оттуда. Голова тяжела, в висках стучит… На бал я приехал поздно, танцы уже кончились. Терраса была пуста. Влажная свежесть ночи разогнала декольтированных дам.
Многие уже успели уехать, как, например, Колури и другие… Но в ресторанном погребке я нашел сэра Арчибальда с Черновичем. Они сидели вдвоем за столиком. Чернович увидел меня еще издали.
– А, маркиз!.. Чудесно!.. Маркиз, садитесь, выпейте с нами!
Я подошел с намерением тотчас откланяться. Но оба они были пьяны и с такой шумной настойчивостью приставали ко мне, что я сел. На столе – четыре пустые бутылки. Фалклэнд подозвал метрдотеля и приказал:
– Heidsieck monopole, rouge!
– Чернович запротестовал.
– Арчибальд, прошу вас! Ваш Heidsieck – гадость. Маркиз – француз, Арчибальд. Позвольте мне!.. Человек! Pommery Greno, brut!
Желая, очевидно, угодить обоим, человек принес обе марки вина. Я принужден был выпить по стакану того и другого. Они допили остальное.
Я спросил, как поживают леди Фалклэнд и леди Эдит. Меньше владеющий собой в пьяном виде, баронет молчал, нахмурив брови. Напротив, князь, еще более болтливый, чем всегда, объяснил мне, что обе дамы остались дома, ad Home, из-за ужасной мигрени. Трудно было разобрать, которая из них была больна и кто остался в сиделках. По этому пункту старший друг отказывался от объяснений, потому что вообще не верил в женские мигрени и считал их простой комедией.
– Он не чуток и не умеет обходиться с женщинами. Вот где правда. Old Арчи, вы ничего не понимаете в женщинах…
– Стани!..
Серые глаза сверкнули на «Станислава», как молнии. Поляк, гибкий, как перчатка, заливается смехом и тотчас заговаривает о другом.
Он ударился в скандальную хронику. Через пять минут я знал тайны всех альковов за неделю. С истинно славянским «тактом» он не обошел ни моего посольства, ни своего. Если б он был трезв, я бы его оборвал. Но что сделаешь с пьяным? По крайней мере, его можно было слушать без угрызений совести. Временами он становился просто смешон…
– Арчи, вы заметили новое колье у мадам Нижней? Нет?.. А вы, маркиз, видали? Нитка мелких, мелких жемчужин… Красиво, правда? Она говорила вам, кто ей его подарил? Нет? Ну, так вы один этого не слыхали. Она всем рассказывает, что колье подарил ей маленький Ванеску, румын. И это правда. Потому что… как бы это сказать, Ванеску был ею впервые посвящен… И вот, мальчик, которому едва исполнилось семнадцать лет, дал ей этот жемчуг, как вы дали бы его кокотке. А между тем ей это очень понравилось, и она всем хвастает этим колье, объясняя, что Ванеску заплатил ей этим пари a discretion!
Он громко захохотал и, почти не переводя дыхания, продолжал:
– Слушайте, еще пресмешная история! Три дня тому назад один русский, Донец, сидел со своей женой на их вилле в Буюк-Дере. Они, знаете, молодожены и очень любят друг друга. Полночь, они сидят в ночных туалетах, пьют водку, напиваются допьяна. Вдруг жена Донца заявляет, что водка – не водка, а виски, ирландское виски. Конечно, это была водка. Донец начинает хохотать. Она настаивает на своем. Он сердится и хватается за плеть. Она сопротивляется, царапает ему лицо, ударяет его бутылкой по голове; у него до сих пор виден след на лбу. Но плеть у него; он берет верх и стегает ее что есть сил. Она выскакивает в окно. Он бежит за ней по парку, настоящая травля!.. Она визжит, на сорочке у нее кровь. Наконец, она у калитки, выбегает на дорогу и забивается в маленькое кафе, где около десятка бородатых турок курят свой наргиле за последней чашкой кофе. Донец бросается туда, хватает жену за волосы, швыряет ее на землю и начинает бить. Ну, знаете, турки не любят, когда истязают женщин. Они наваливаются на Донца, вырывают у него несчастную жертву, и теперь уж удары сыплются на него. До того они его отколотили, что, когда явилась полиция, Донец был почти так же избит, как и его жена. Чету перенесли домой. Самое забавное из всей этой истории, что наутро супруги решительно ни черта не помнили!
Фалклэнд роняет короткий смешок и сейчас же приказывает:
– Человек! Heidsieck monopole, rouge!
– Арчибальд, что за безумное упрямство! Человек! Pommery Greno, brut!
Они заставляют меня пить. Их глаза горят, движения становятся лихорадочными. Чернович смотрит на меня вдруг с яростью:
– Но знаете, полковник, Донец – мужчина. Правда, он – не поляк, он не умеет ездить верхом: это уж от природы, тут ничего не поделаешь, но на ногах он просто страшен. Мы скоро назначим его консулом в Македонию, в Митровицу.
Черт возьми! Если таковы все тамошние русские консулы, я не удивляюсь, что албанцы, менее терпеливые, чем турки, иногда сносят им головы. Я улыбнулся? Не думаю. Это было бы неосторожно. Взбешенный и пьяный Чернович схватил бы меня за горло… Нет, опасность миновала. Припадок прошел. Этот человек без всяких переходов начинает смеяться до слез. Он ударяет по столу кулаком и вдребезги сокрушает всю посуду.
– О, маркиз! Я вас видел, не отпирайтесь! Вы живете с девицами Колури. Не отпирайтесь!
Я резко протестую и готовлюсь к самому худшему. Напрасно. Он торжественно встает и протягивает руку над осколками посуды:
– Вы – джентльмен. Сознаваться никогда не надо. Конечно, девицы Колури не в счет; они простые, как говорят наши русские, «бабы». Впрочем, этого слова во французском языке нет. Но по отношению к настоящей женщине, к madam… Здесь слишком много мерзавцев-мужчин. Позвольте, вот Карипуло… вы знаете Карипуло? Он получает в Контроле девятьсот турецких фунтов. И вот, я вчера встречаю его в Пере на главной улице и говорю ему: «Карипуло, с кем спите вы на этой неделе?» Он улыбается в ответ, делает вызывающий жест, чтобы обратить внимание прохожих, и тогда только отвечает громко, во все горло: «Князь, от вас ничего не скроешь: на прошлой неделе это была мадам Баритри; но я воспользовался только остатками солдатского стола. На этой неделе я избрал мадам Папазиан. Я их всех имел!» Вот, что он сказал. Но знаете? Он не имел ни одной. Он – хвастун. Он – грек. Человек! Pommery Greno, brut!
Тут происходит инцидент: подходит метрдотель и, указывая рукой на стену, где вывешены печатные правила, докладывает, что после часа ночи погреб отеля закрыт.
– Что ты сказал?
– Ваше превосходительство, погреб…
– Собака! Свинья!
Он бешено бранится на пяти или шести языках. И вдруг со всего размаха бросает в метрдотеля бутылкой. Впрочем, бутылка летит мимо и разбивает в люстре две лампы. Потеряв равновесие, Чернович падает на стул, выкрикивая последние ругательства:
– Жид! Армянин!
Потом, несколько успокоившись, обращается ко мне:
– Я его знаю… Это – брат моего портье. Я должен этому портье тысячу фунтов. Он берет четыреста на сто.
Фалклэнд, слушавший все предыдущее совершенно бесстрастно, вдруг оживляется:
– Стани! Вы, джентльмен, вы занимаете у лакея?
– А что же делать, Арчи? Все деньги здесь в их руках. И я не грек: я не умею выпрашивать у женщин!..3333
Князь Чернович пьян, и автор не отвечает за его суждения, которые он почерпнул на дне своих четырех бутылок Extra dry.
[Закрыть] Я даже не армянин…
– You are a Pole! (Вы поляк!)
Они завязывают какой-то быстрый диалог на английском языке. Чернович волнуется и кричит. Там и сям проскальзывают незнакомые, наверное, польские слова. Наконец, спор прекращается. Я пользуюсь этим обстоятельством, чтобы подняться…
– До свиданья, господа!
Сэр Арчибальд трясет мою руку. Чернович в избытке сердечности импровизирует прощальную речь:
– Маркиз, мы сегодня выпили.
Да, этого нельзя отрицать…
Между тем сэр Арчибальд тоже собирается уйти. Он проверяет счет. У него огромный бумажник, настоящий английский бумажник, необыкновенно кричащий, из кожи кроваво-красного цвета.
Каик Фалклэнда стоит у отеля рядом с моим. Мы садимся. Князь живет в Буюк-Дере: он остается на берегу и как-то непроизвольно машет руками. Потом кучер силой, по-казацки, сажает его в экипаж.
Мы отчаливаем. Мои каикджи берут вверх по течению. Другой каик, наоборот, направляется вниз.
Позади голос Черновича, который из темноты ночи призывает на помощь всех писателей:
– «В последний раз прощайте, господа!»
Как сыро ночью на Босфоре! Как, должно быть, неуютно и холодно одной в павильоне над морским прибоем.
XV
Я прошел через Мост. Я повернул в первую улицу направо, как мы условились… И жду…
Вот он, Стамбул. Разочарование. Я думал, что, как только перейду Мост, Стамбул очарует меня с первого же взгляда. Ничего подобного. Площадь Эмин Евну, точь-в-точь такая же, как Каракейская площадь. А первая улица направо – не знаю, как она называется, на ней ни дощечек, ни номеров – просто уродлива. Своеобразно, правда: нечто вроде грязного извилистого коридора, в котором копошится пестрая толпа. Но таковы же улочки Галаты, если смотреть на них из Перы.
Два часа? Нет еще. Я пришел несколько рано. Военная аккуратность в свиданиях часто проделывает с нами плохие штуки. Я вспомнил комичную историю, случившуюся лет двадцать назад: один молодой лейтенант заручился обещанием одной блондиночки в том, что она ровно в два часа будет на углу улицы, ведущей с вокзала Сен-Лазар к гостинице Терминус. Бедный мальчик оказался жертвой целого ряда катастроф. Лошадь понесла, раздавила пешехода, толпа возмутилась, вызвала полицию; потом комиссариат – одним словом, все как следует! – и вот лейтенант на условленном месте только в двадцать минут третьего. Никого. Он в отчаянии. Уходит. А вечером получает ядовитую записку, в которой ему сообщают, что дама была на месте в три часа без десяти минут и ушла в половине пятого. После восьмидесяти пяти минут кошмарного ожидания она считает его негодяем и дураком в придачу и просит не показываться ей больше на глаза.
…На этой первой улице направо, как это сразу видно, по утрам бывает овощной базар. Я попадаю в груду салата и ощущаю запах капусты. Меня толкают. Жители этого квартала движутся очень быстро. Они куда-то несутся, задевают друг друга, спотыкаются, кричат во всю глотку. Гамалы (носильщики) вертятся повсюду. Конечно, это – не настоящий Стамбул: здесь слишком близко к порту, к мосту, к Галате, к Пере, к Европе…
Ага! Вон в конце улицы над фресками и тюрбанами мелькает белый зонтик… Не может быть! Ведь еще рано; не хватает десяти минут. И все-таки – да это она!
– Здравствуйте! Не очень заждались?
Совсем не женское рукопожатие. У леди Фалклэнд мешочек из желтой бумаги, которым я сейчас же завладеваю.
– Да, возьмите. Это мои и ваши любимые сладости. Мой пароход отходил очень рано, и я успела зайти к Хаджи-Бекиру.
– Хаджи-Бекир?..
– Это самый модный турецкий кондитер. Приличные дамы квартала Шах Задэ не покупают в других местах. Нет, мы пойдем не так. Повернем налево. Я терпеть не могу греческих улиц. Я вас поведу по самым красивым местам.
Она движется быстро и ловко выпутывается из толпы. Я иду за ней. Она приподнимает юбку. На ней простое кисейное платье и прочные серые башмачки, для которых не страшна усеянная острым щебнем мостовая.
Что это? Как только мы выходим из первой улицы направо, наступает мир и тишина. Мы идем между двух высоких стен, над которыми склоняются старые фиговые деревья. Почва вся изрыта. Курицы роются в песке. Три пыльных деревянных лачуги разместились под деревьями; их стеклянные шахниширы, заделанные решетками и затянутые чистенькими белыми занавесками, кажутся не очень прочными: поддерживающие их жалкие, источенные червями подпорки расшатаны. К нам доверчиво подходит кошка. Молодые щенки греются на солнце, по-волчьи растянувшись на боку. Ни одного прохожего. Как будто вы в деревне. И это Стамбул, столица повелителя всех верующих? Не может быть! Простое село, скорее деревушка!
Леди Фалклэнд видит мое изумление и разражается смехом:
– Вы удивлены, да? Да, да, это Стамбул. Держу пари, что, по-вашему, это деревня. Да, но только большая деревня. Нужно пройти две мили, чтобы добраться до ее конца. И всю дорогу будет то же самое, что здесь.
Она останавливается. Поджидавшая нас кошка милостиво дает себя погладить. Леди Фалклэнд объясняет:
– Здесь хорошо обращаются с животными, и они не боятся людей.
Потом, увлекаясь, говорит:
– Ну, разве не хороша эта большая деревня? Здесь столько воздуха, солнца, покоя, свободы – везде, куда ни обернешься, все это растет как хочет и где хочет. Нет фасадов, нет строгих линий, ничего правильного, ничего скучного, наводящего сплин. Здесь вы свободны, свободны!..
Она уже не смеется, и я вижу на ее лице обычный налет грусти. На минутку она умолкает и ниже склоняется над кошкой, лаская мурлыкающее животное.
– А сколько чудес в этой моей деревне!.. Пойдемте, вы увидите!
Но все-таки не весь Стамбул из таких проулков. Вот настоящая улица, окаймленная с обеих сторон домами. Конечно, это не пышная столичная улица: она широка, как ладонь, и вьется так, что в ней никогда не дует ветер. Дома, конечно, деревянные, из чудесного старого фиолетового дерева. Вот открывается калитка, выпускает женщину, закутанную в вуаль, и захлопывается снова. Женщина, перебежав улицу, стучит в противоположную дверь и исчезает за ней – все это не более шумно, чем кошка, шагающая на кончиках лапок.
Мы поворачиваем то направо, то налево. Подходим к маленькой арке из серого античного камня; она переграждена цепью, через которую надо перекинуть ногу: очевидно, здесь конец города…
– О!
Мне кажется, я вскрикнул от изумления, остановившись под аркой, точно вкопанный. Передо мной большая площадь, подобная равнине. Посреди нее – гора мрамора и камня, резная и чеканная, точно огромная драгоценность. Гигантские стены подпираются готическими кружевными уступами с ажурной каймой; галереи, переходы, колоннады, лепные украшения, балюстрады, бесчисленные площадки со всех сторон цепляются за эту громаду. А наверху головокружительный хаос куполов и сводов возносится к небу, подобно дюнам, которые самум согнал в песчаные гроздья.
И четыре белых и стройных, как свечи, минарета высятся над этим колоссом, вырастая из его четырех углов.
Леди Фалклэнд, как и я, остановилась – и смотрит с немым набожным восхищением. Внезапно, схватив мою руку, она говорит:
– Мой Стамбул иногда бывает похож и на столицу, не правда ли? На столицу из «Тысячи и одной ночи», да?
Мы спускаемся на площадь и огибаем огромное здание мечети. У его подножия четырехугольный сад, обведенный низкой стеной с прорезанными в ней окнами. В этом саду тысячи турецких могил, простых и красивых.
– Если б я была благоразумным и патентованным гидом, я вас повела бы не сюда. Я устроила бы классическую прогулку для иностранцев: Святая София, Большой Базар. Все это было бы полно англичанок под зеленой вуалью и бородатых немцев. Вы купили бы подлинное седло Тамерлана (сфабрикованное в прошлом году в Трапезунде) и протолкались бы целый день на улицах, переполненных трамваями, еще более отвратительных, чем улицы Перы. Ну, а я предпочитаю это.
«Это» – Сулеймание Джами, мечеть Сулеймана Великолепного: турки называют его «алмазом и жемчужиной»…
Мы проходим в резную остроконечную дверь, гармоничную, как обломок Парфенона.
Внутренность храма превосходит великолепием все, что я когда-либо видел. Исполинские колонны поддерживают своды из черного и белого мрамора, вмещающие невообразимые пространства. Сквозь молочного цвета стекла окон льется торжественный свет. Ни часовен, ни ниш для святых, ни исповедален, ничего такого, что скрадывает простор. Алтарь-портик из серого мрамора, на фронтоне которого золотыми буквами горят слова пророка.
Леди Фалклэнд обращает мое внимание на четыре громадные гранитные колонны.
– Они взяты из исчезнувшего византийского храма. До того они поддерживали храм Дианы в Эфесе. Еще раньше стояли в другом храме, неизвестно где. Они уже служили четырем богам. А сколько еще будет новых?
…Там и сям бесшумно молятся распростертые мусульмане. Две маленькие девочки катаются, резвясь, по огромному ковру. Имам с белоснежной бородой смотрит на них с улыбкой.
Посреди сада, где теснятся могилы, леди Фалклэнд показывает мне большой мавзолей, в форме киоска: он окружен восьмиугольной галереей, с виду совершенно итальянской. Это турбех 3434
Гробница.
[Закрыть] Сулеймана. В него можно войти. И я думаю про себя о том, что в нашей будто бы толерантной Европе в мавзолеи пап и императоров могут получить доступ только избранные…
В круглом зале, украшенном персидским фаянсом, стоят рядом три величественных катафалка, обшитых парчой и шелком и увенчанных высокими тюрбанами; подле них – огромные восковые свечи. Здесь покоится Сулейман в обществе других двух султанов, а у их ног нашли вечный покой несколько султанш, под такой же парчой и такими же шелками. Нет ничего более волнующего, чем турецкие гробницы; присутствие мертвых становится здесь ощутимым, почти видимым.
Меня охватывает любопытство:
– А знаменитая фаворитка, Рокселана, тоже в этом мавзолее?
Леди Фалклэнд колеблется. Мне кажется, мой вопрос ей не понравился. Но она все-таки отвечает:
– Нет. Пойдемте.
Мы выходим. В саду она указывает рукой на другой мавзолей, почти такой же, только меньших размеров.
– Рокселана там.
– Посмотрим?
– Если хотите. Только я не пойду туда.
– Вот как?
Она молча глядит на кончики своих ботинок; я не настаиваю, и гробница Рокселаны остается неосмотренной.
Опять турецкие улички. Теперь уж у них менее деревенский вид; скорее похоже на маленькое монастырское поселение. Где-то в северной Италии я видел эти широкие мостовые, поросшие по сторонам травой, эти стены из серого камня, с прорезанными в них окнами в решетках, без ставней и без стекол. Кругом, как и там, голые стены монастырей или заглохшие сады. Но здесь сады – это кладбища, в которых тысячи надгробных камней прячутся в кустах и под плющом, в тени ив и кипарисов.
– Нравятся вам эти улицы?
– Невыразимо нравятся… Куда они ведут?
– Далеко. Вы отдали в мое распоряжение весь день, не правда ли? Так вот, я хочу вас повести в одну любимую мою мечеть; и потом дальше, до византийской стены, окружающей Стамбул. Потом вернемся, но другой дорогой.
Один перекресток, второй, третий. Улочки то и дело разветвляются, нисколько не заботясь о направлении. Как можно угадывать дорогу в подобном лабиринте? И ни одной плоскости: все подъемы и спуски. Византия, как и Рим, – город семи холмов.
Леди Фалклэнд останавливается. Женщина в лохмотьях с прикрытым лицом прислонилась к дверям какого-то домика и держит на руках тщедушного ребенка. Она не просит подаяния, а молча смотрит на нас сквозь покрывало из грубой кисеи. Леди Фалклэнд вынимает из кошелька монету и хочет дать ее женщине. Нищая отказывается и прячет руку. Здесь не принимают милостыни из рук неверных! Леди Фалклэнд наклоняется и кладет монету в ручку ребенка. Мать в нерешительности. Я кладу в другую ручку другую монету. На этот раз она не противится. И отвечает учтивым поклоном, сопровождая его несколькими короткими и ласковыми словами. Когда мы отошли немного, я спрашиваю:
– Что она сказала?
– Это почти непереводимо. Турецкое выражение благодарности, приблизительно: «Идите с радостью».
Сколько улиц! Мы ходим уже больше часа. Леди Фалклэнд безостановочно идет своим быстрым мелким шагом. Про Стамбул можно сказать все, что угодно, но только не то, что он однообразен. Кварталы сменяются кварталами; одни совершенно пустынные, как будто вымершие, между бесконечными стенами в густой тени акаций и смоковниц; другие – густонаселенные, вмещающие массу маленьких деревянных домишек, из которых бесшумно выходят закутанные таинственные фигуры женщин или стариков, медленно бредущих по улицам. От времени до времени над стенами или домами выплывает неизвестно каким образом проросший кипарис, возвышается вдруг минарет или обрисовывается круглый купол мечети или медресе 3535
Школа.
[Закрыть]. Через каждые сто шагов – заключенное между двумя домами крохотное кладбище, где теснятся десятка три старых могил. Здесь живые и мертвые уживаются рядом.
– Тут есть немало больших площадей, пышных мечетей и торжественных широких улиц. Я уже показала вам Сулеймание Джами и покажу еще кое-что.
Наша улица заканчивается огромным квадратным садом, не похожим на элегантный и подстриженный европейский сквер; это – огород-сад; в нем в чудесном порядке расположено несколько сотен тысяч голов капусты вперемежку с морковью, луком и спаржей; все это защищено кустами, посаженными по диагонали, – кустами персиковыми, вишневыми, абрикосовыми. Сад этот в углублении, прочно обнесенном оградой, доходящей до уровня улицы.
– Старинное византийское водохранилище… Интересно, не правда ли? Но пойдемте сюда.
Мы проходим мимо десятка хорошеньких, почти новеньких домиков, из свежей сосны, пахнущей смолой. Перед нами открывается маленькая площадка с тремя платанами, обнесенными очень высокой стеной. Позади нее возвышается купол; и еще выше купола, выше гигантских кипарисов, возносятся вверх два минарета.
– Селимье Джами… Войдемте во двор.
Старая полукруглая дверь, квадратный двор с аркадами и колоннами очень похожи на монастырские. Колонны из древнего мрамора, пожелтевшего от столетий и прозрачного, как оникс; под аркадами персидская майолика расцвечивает все четыре стены своими неувядаемо-яркими красками.
Посредине – фонтан, кругом кипарисы. Мечеть покрывает тенью весь двор. Здесь бесконечно тихо и прохладно.
Леди Фалклэнд садится на ступеньку у подножия колонны и берет у меня мешочек из желтой бумаги.
– Здесь финики, пастила из фисташек и что-то еще. Вы устали? Мы много прошли, а мостовая здесь очень плохая.
Я не устал. Мы грызем сладости и молчим. Вокруг тишина. Мне кажется, я способен был бы целые часы и дни просиживать во влажной тени этого мусульманского монастыря без замков и решеток. Леди Фалклэнд положила голову на руку, которой опирается о свое колено, и о чем-то задумалась. Я не могу уловить ее мыслей…
Вдруг она спохватывается и смотрит на свои часики.
– Боже мой! Четыре часа. Пойдемте скорее!..
Я задаю тревожный вопрос:
– В котором часу отходит последний пароход? Ведь вам надо вернуться в Канлиджу?
– Конечно, надо. Последний ширкет отходит в четверть десятого… приблизительно в шесть с четвертью. Но сегодня он не останавливается в Канлидже. Он идет вдоль европейского берега.
– Ну, так как же?
– Я поеду в Иеникей и там сяду в лодку. Я вернусь очень поздно, и у меня останется всего четверть часа на то, чтобы переодеться. Вы знаете, ведь за обедом мы непременно в открытых туалетах… В четверть часа я не успею одеться, сядут за стол без меня, и, когда я войду, меня встретят всякими неприятными словами. Но я все это предвидела в моей сегодняшней программе дня, и поэтому не огорчайтесь.
Мы идем быстро, и Селимье Джами уже далеко. Перед нами тянутся маленькие улочки, еще более сельские по виду, чем раньше. Здесь дома расставлены редко и разделены обширными садами.
– Я надеюсь, – шепчет леди Фалклэнд, – что мы найдем экипаж в Эдирнэ-Капу…
Эдирнэ-Капу – Адрианопольские Ворота – перед нами: большой разрушенный свод, прикрывающий огромное каменное сооружение, совершенно замаскированное кучей лавчонок. Мы проходим под сводом. Солдаты сидят на пороге гауптвахты и любуются подсолнухами и вьюнком в своем саду.
За аркой – круговая дорога, ров, откос, настолько древние, что от них остались одни только следы. Дальше – холмистая равнина, усеянная кипарисами, широкая, бесконечная…
Великая стена Стамбула уже позади. Огромные руины зубчатых амбразур и башен тянутся к северу и к югу до горизонта.
– Пойдемте, пойдемте… Поздно.
Мы идем к равнине кипарисов. Проходим небольшой мост, перекинутый через ров, и спускаемся по откосу в пыльную траву. Вот и равнина…
Это – кладбище. У подножья едва колеблемых ветром вековых деревьев – тысячи и миллионы гробниц, новых, свежевыкрашенных и позолоченных, старых, побелевших или почерневших от солнца и дождей, гробниц древних, разрушенных, источенных, опрокинутых; все они жмутся друг к другу и сливаются в недвижную массу. Надгробные столбики, прямые, косые, лежачие, напоминают бесчисленное войско, внезапно окаменевшее в пылу битвы.
Мы идем под кипарисами, шагаем через плиты и камни. Все это прикрыто высокой травой, и я часто спотыкаюсь о невидимые препятствия.
Древний столбик, покосившийся настолько, что тюрбаном касается самой земли, прислонился к стволу фисташкового дерева. Леди Фалклэнд садится на него и дает мне место рядом.
– Вот… Я хотела вам показать турецкие кладбища. Видите, Турция со своим абсолютным монархом-султаном, своим деспотическим кораном – единственная свободная страна на земле. Даже мертвецов здесь не запирают; их не окружают высокой оградой и толстыми решетками, как это делают с христианскими покойниками. Они спят там, где им хотелось; на их усталые кости не наваливают тяжелых камней.
Я не проронил ни слова с тех пор, как мы покинули двор Селимье Джами. Но здесь, мне кажется, можно высказать то, что уже давно у меня на душе:
– Сударыня… Мне хочется вас отблагодарить…
– За что?
– Во дворе мечети вы сказали мне то, чего, конечно, не доверили бы первому встречному… Когда вы намекнули на тот тягостный прием, который ждет вас сегодня дома. Я глубоко тронут этим доверием, и вы правильно угадали во мне друга.
Она не краснеет и без всякого жеманства прямо смотрит на меня задумчивыми глазами.
– Да, правда: не знаю почему, но я вам доверяю.
Она улыбается невеселой улыбкой.
– О, не думайте, что я вам оказываю большую милость, свободно говоря с вами о моих домашних неприятностях. Все это до мельчайших подробностей знает весь Константинополь, комментирует, осуждает и радуется, что нашел тему для сплетен. Признайтесь, вы сами приезжий, разве вы этого не знаете?
Я признаюсь молчаливым кивком. Через мгновение она говорит мне, кладя свою руку на мою:
– Только вы не комментируете, не осуждаете и не насмехаетесь; значит, наоборот, я должна благодарить вас.
Она поднимается. Мы делаем еще несколько шагов по мрачной равнине. Вдруг она останавливается и показывает мне одну могилу.
Могила женщины: на ней нет лепного тюрбана. Краски и позолота почти стерлись на мраморе памятника…
– Видите? Вы умеете читать турецкие надписи? Нет? Я тоже не умею. Я знаю одни только цифры. Но этого достаточно, чтобы уловить самое главное в этой эпитафии… Женщина, покоящаяся здесь, умерла в тысяча двести девяносто седьмом году геджры, то есть двадцать лет назад. И… Ей было двадцать два года… Это год смерти Азиадэ, но, конечно, это не ее могила. Никто не знает, где Азиадэ погребена – к счастью!.. Представьте себе, что агентство Кука ведет к ней караваны туристов? Но может быть, здесь покоится другая турчанка, которую знала и любила Азиадэ? И вот я, так часто проливавшая слезы над грустной судьбой женщины, которой смерть не дала увидеть друга, я приношу цветы этим двум теням; и думаю, что в том мире, где они теперь, они любовно делят между собой эти цветы…
У меня нет никакого желания улыбнуться. Леди Фалклэнд отколола с корсажа несколько фиалок и кладет их у подножия надгробного камня.
– Женщины гораздо лучше понимают друг друга, чем это обыкновенно думают… За исключением…
Она колеблется, смотрит на меня, низко опустив глаза, с полуоткрытыми губами, из-под которых видны зубы.
– За исключением одного случая, когда одна из них очень зла и хочет из алчности и гордости отнять сына у другой…
Уже давно пробило пять часов, а мы только подходим к Адрианопольским Воротам. Там стоят три арбы, три грязных телеги, держащиеся бог весть на чем. Леди Фалклэнд вступает с арабаджи в сложную дискуссию, в которой, как мне кажется, разбираются вопросы времени и расстояния. Наконец, соглашение достигнуто, и через минуту мы бешеной рысью несемся по отчаянной мостовой маленьких улиц. Железный обод колеса стучит по ней, как молот по наковальне. Оглушенная леди Фалклэнд закрывает уши руками. Я вижу сквозь кисею рукавов чистый рисунок хрупких детских ручек.
Стамбул огромен, ему нет конца! Вот новые кварталы, новые улицы. Мы проезжаем мимо рынков, базаров; арба то мчится по длинным безлюдным и тихим улицам, то замедляет ход на площадях или перекрестках, кишащих людьми в чалмах…








