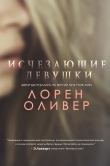Текст книги "Убить двух птиц и отрубиться"
Автор книги: Кинки Фридман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Я отхлебнул подогретого кофе, закурил еще одну сигарету и принялся размышлять о том противоречии, с которым только что столкнулся. Два человека, заполонившие всю мою жизнь, давали мне прямо противоположные советы относительно моего романа. Клайд прямо говорила, что не хочет, чтобы я его писал – по причинам, которые она ранее объяснила. Фокс, наоборот, хотел, чтобы я писал, и утверждал, что в этом мое истинное назначение. На одном моем плече сидел ангел, на другом – демон, и каждый шептал мне в ухо свои мудрые советы. А что самого я чувствовал? Я чувствовал – впервые за семь лет – что не смог бы бросить этот роман, даже если бы захотел. Но я бы не захотел. Я ведь только начал! Может быть, размышлял я, писать его тайно, ничего не говоря Клайд? Но скрыть что-то от Клайд было нелегкой задачей – если учесть ее способность к обоснованным догадкам, а также к чтению мыслей. По крайней мере, моих мыслей.
Я не спал этой ночью не только из-за романа. Мне не давали покоя и откровения Фокса об обстоятельствах его знакомства с Клайд. Мне начинало казаться, что в их отношениях присутствует какой-то духовный инцест. Никак нельзя решить, кто из них старший, а кто младший, кто гуру, а кто ученик. И самое главное – нельзя решить, кто из них говорит правду бедному, одинокому Уолтеру Сноу. Клайд – обманщица, которая лгала мне во всем, что о себе рассказывала? Или она просто прикрывала историей про ярмарку свое неблаговидное прошлое героинщицы, и это можно понять? И что мне делать – разоблачить ее ложь или же продолжать подыгрывать еще какое-то время?
Сейчас, когда в комнате витает запах придуманного мною секса, было самое время поразмышлять об их совместном проживании – во всех смыслах этого словосочетания. Странно, что я до сих пор так и не расшифровал эти отношения. Ну, а если бы каждый из них рассказал мне совершенно непохожую на другого историю – кому бы я поверил? Может быть, эта парочка живет в свободном браке, и вся история со мной – просто начало грязного любовного треугольника? Или вся беда в том, что Уолтер Сноу начал морочить себе голову идиотскими вопросами? Или я начал морочить себе голову задолго до того, как встретил Клайд и Фокса? Ответов я не находил, а они были нужны мне отчаянно – без них роман было не закончить.
Вы можете спросить: если роман – это вымысел, то почему мне до зарезу понадобилась правда про Фокса и Клайд? Ответ на этот вопрос – тщательно охраняемый писательский секрет, который почти никто из авторов не соизволил раскрыть читателю. Вот и я, хотя не вижу сейчас поводов таиться, все-таки сомневаюсь, открывать ли вам коммерческую тайну? Так фокусники или следователи не любят объяснять свои трюки и методы расследований. Но почему бы и нет, блин? Что мне терять на этой Земле? Да вы и так уже давно догадались. Почему мне до зарезу нужна была правда? – Да потому, что все великие романы – это чистая правда.
Понятно? Вот почему Гудини и Шерлок и скрывали свои методы. Стоило только объяснить – и все бы заорали: «Да мы это всегда знали! Да мы тоже так можем!» Но на самом деле ничего они не знали и ничего они не могут, никто из них. Исключение составляют лица, предсказывающие судьбу на ярмарках.
XVII
Та встряска, которую я пережил, размышляя об отношениях внутри нашей троицы, не смогла заслонить впечатления от того, что мне было суждено пережить в Старом манеже следующим вечером. Уж не знаю, чего я ожидал. Наверное, раздачи бесплатного супа, которую устраивают бездомным нормальные американцы вроде меня, только на этот раз не без помощи кредитки Дональда Трампа. Но чего бы я ни ожидал, мои ожидания не оправдались, причем сразу в двух отношениях. Во-первых, выяснилось, что я недооценивал способности Клайд и Фокса увлекаться своими шуточками. А во-вторых, как все благонамеренные и имеющие крышу над головой люди, я недооценивал положение бездомных. Сделав эти два предуведомления о моем недостаточном понимании человечества, я могу сказать прямо, что праздник удался на редкость, пусть он и продолжался только одну ночь.
Если вы никогда не были в ночлежке, то вам, пожалуй, стоит туда зайти. А может, и не стоит. Во всяком случае, если побываете там, то запомните на всю жизнь. Впрочем, возможно, что причиной моего потрясения был контраст между местом и тем, что в этом месте имело место.
Писателю трудно передать в простых словах всю низость и все благородство человеческой природы. Внешне писательская работа очень простая: располагать слова в наилучшем порядке, все время переставлять их, прилаживать друг к другу, как делает свихнувшийся составитель кроссвордов. Задача писателя – преображать людей и события в буквы на бумаге, но так, чтобы имитация жизни захватила читателя, чтобы он забыл, что читает книгу. Это святая обязанность автора, от которой я, кстати, сейчас отступаю. Но простого желания увлечь читателя недостаточно. Нужна редчайшая в мире способность – писать легко, без ощутимых усилий. Стоящий писатель – это тот, чьи сочинения кажутся написанными без всяких усилий и в которых автор совершенно не стремится к тому, чтобы его герои походили на него самого. Или так: читатель с легкостью почитывает и не думает о величии книги. Или замечает, что книга хорошо написана, но как бы периферийным зрением. Он не знает, как мучился автор глубокой ночью, как без конца переставлял героев, словно шахматные фигуры, пока не возникло впечатление полной реальности происходящего. В наше время, когда все уже сказано и все уже сделано, автору остается только молиться, чтобы боги ниспослали ему одну хорошую строчку. А записав ее, вымаливать следующую.
Вечером накануне великого события в Старом манеже к дверям моего дома был подан лимузин. Я глянул в окно и понял, что эта штука настолько черная и длинная, что полностью закрывает тот душераздирающий вид, который я привык наблюдать сквозь свой перископ. Чуть раньше мне позвонила Клайд и, торопясь, деловым тоном сообщила, что сегодня я должен прибыть для «рекогносцировки», чтобы осмотреть место, в котором завтра состоится праздник.
– Тебе надо привыкнуть к этому месту… – сказала она.
– Хорошо, но…
– Ты будешь первым человеком в истории западной цивилизации, – продолжала она, не слушая, – кто явится туда на черном лимузине. Как видишь, Уолтер, мы с Фоксом ценим тебя очень высоко.
– Ладно, – ответил я. – А может, не надо лимузина, а? Он очень нужен?
– А бездомность – она очень нужна?
С этими словами она повесила трубку.
И вот, я сидел в лимузине, который направлялся к Манежу на восточной Шестьдесят седьмой улице. За окном почти беззвучно уплывал куда-то ночной Манхэттен, квартал за кварталом. Люди на тротуарах все еще бодро топали в никуда. Некоторые из них замечали мой черный длиннущий лимузин, но большинство было слишком занято топанием в никуда. Что ж, у меня, по крайней мере, было место назначения, а также и средство к нему прибыть – хотя, пожалуй, и чересчур роскошное. Лимузин, как я понимал, часть новой шуточки Клайд. Все, что будет происходить там, куда я направляюсь, – это ее очередное развлечение. Ее, а также ее драгоценного друга Фокса, имевшего обыкновение входить-выходить из тюрем, психушек и ночлежек и сообщившего мне недавно, что Клайд была героинщицей.
А почему, собственно, меня так волновало ее прошлое? Ни у кого нет охоты признаваться, что он раньше был наркоманом – вот она и сплела эту дурацкую историю о том, как она встретила Фокса на ярмарке с аттракционами. Всяко лучше, чем рассказывать, что ты познакомилась со своим нынешним соседом по квартире в Центре реабилитации для наркоманов в Аризоне.
Я размышлял, глядел на проплывающий мимо Манхэттен, похожий на чужую убогую мечту, и удивлялся сам себе: ну почему меня так волнует ее прошлое? Что я хотел? Воздвигнуть прочный белый забор, чтобы защитить от мира себя и ее? Или, может быть, мое подсознание искало способ, как сделать из нее честную женщину? Ну пусть она окажется патологической лгуньей и наркоманкой – разве это как-то нарушало мои планы? Разве любовь не способна победить все? Пока не победила, мрачно отвечал я сам себе.
Нет, не нравятся мне мысли, что приходят в голову на заднем сидении лимузина. Хорошо все-таки, что я не так часто пользуюсь этим видом транспорта. Катится плавно, но на мозги как-то давит.
Было уже десять вечера, когда моя черная городская акула замерла у входа в огромное старинное здание, вид которого сразу вызвал у меня плохие предчувствия. Водитель вышел, открыл мне дверь и приложил руку к фуражке – уж слишком почтительно, как мне показалось. Может быть, он меня ненавидел?
– Я вам должен чаевые? – спросил я его.
– Нет, сэр, – ответил он. – Мистер Трамп арендовал этот лимузин на двое суток вперед, и чаевые включены в счет.
Мистер Трамп, твою мать, подумал я. Будет нам трамп-тарарамп. Интересно, как Клайд думает потом выкручиваться? У меня возникали большие сомнения по поводу ее благоразумия. В смелости ей, конечно, не откажешь, но все-таки такой противник ей не по зубам. Как только Трамп пронюхает, кто именно добрался до его кредиток, мы все трое понюхаем тюремную парашу. И не найдется ни одного лоха вроде Уолтера Сноу, чтобы вытащить нас из кутузки под залог.
Радостный Фокс встретил меня у входа, тепло обнял и сунул мне под нос «крышеломку». Фоксова радость всегда была очень заразительна, особенно когда он был действительно счастлив. Ему не пришлось выкручивать мне руку, чтобы я затянулся из его прибора.
– Это именно то, что тебе надо, чтобы встряхнуться, – сказал он. – Ты когда-нибудь был в большой нью-йоркской ночлежке?
– Боюсь, что нет.
– Ну, значит, ты, как все прочие в этом городе. Каждый день они проходят мимо ада и даже его не замечают. Но скоро ты станешь совсем другим. Всякий, сюда вошедший, выходит уже другим человеком. Кроме бездомных, конечно. Завтра вечером тут все будет совсем по-другому, ты это место просто не узнаешь. Но сегодня… В общем, входи. Добро пожаловать в Манеж!
Мы поднялись по ступенькам и вошли в огромный холл. Здание, как объяснил Фокс, было построено больше ста лет назад и до первой мировой войны служило для выездки лошадей кавалерийских полков. Задрав голову, я смотрел на потолок высотой, должно быть, метров в двенадцать. Такое просторное помещение редко увидишь в Нью-Йорке.
– Военные тут больше не командуют, – сказал Фокс, – но воинский дух еще остался. Дух – что надо. Вот, нюхай!
Он распахнул дверь, и мне в нос ударила мощная волна невыносимой вони. Так, должно быть, пахнет братская могила. Мы вошли в длинный зал, уставленный рядами трогательных стальных кроваток – вроде тех, что я видел в психбольнице. В ширину они казались гораздо уже нормального человеческого тела. Я подумал, что все это выглядит так, как будто в волшебной сказке что-то не заладилось, и всех гномов согнали сюда. Может быть, так оно и было на самом деле.
– В это время года, – объяснял Фокс, – когда холодно, койки не пустуют. В ночлежку набивается полторы-две тысячи человек, и еще копы приводят все время сверх нормы. Все они, разумеется, спят в одежде. То, что на них надето – это обычно и есть все их имущество. Как видишь, большинство уже спокойно спит в своих кроватках.
– Господи, – сказал я, – они похожи на ряды сказочных гномов.
– Очень точное сравнение, Уолтер. Ну что ж, поскольку ты писатель, от тебя и следует ожидать подобных удивительных образов.
Был ли это комплимент или же Фокс меня подкалывал, определить, как всегда, казалось невозможным, и я решил пропустить его замечание мимо ушей. Пусть это будет просто реплика одного человека в ответ на реплику другого. Понадобилось бы не меньше двух психиатров, чтобы решить, каким видом умственной гимнастики занимается Фокс. А, как я знал от Клайд, попытки разобраться в его мозгах предпринимало уже гораздо большее число психиатров.
– Заметь, – говорил он тем временем, – что почти все они, хотя и спят в одежде, сняли свои ботинки.
– Это трудно не заметить, – отвечал я.
– Ты знаешь, я видел кучу таких мест, но я никогда не мог привыкнуть к запаху. Неспособность замечать запах – это единственная черта, по которой можно отличить настоящего бомжа от таких представителей цыганской элиты, как я. Если ты еще замечаешь запах, то, значит, у тебя есть надежда выплыть. Перестал замечать – значит, ты уже полный безнадежник.
Безнадежник… Какое точное слово! – восхитился я. Разумеется, я его вставлю в роман – как и многие другие словечки Фокса. Писатели, как и актеры – это вампиры, они все время подпитываются от своих друзей, если только у них есть друзья. Для пишущего писателя любой человек – друг, знакомый, любовница, просто первый встречный – это жертва, которую надо изнасиловать и ограбить, отобрав у нее все, достойное внимания. В данном случае Фокс, сам того не зная, добавил отличное словечко в мой резервный фонд. Полный безнадежник… Это слово я припрячу.
– Да бери на здоровье, – сказал тут Фокс. – Я тебе дарю.
Мы прошли в молчании вдоль бесконечного ряда коек, покрытых человеческими отложениями, осколками разбитой американской мечты. Где-то в середине зала Фокс вдруг поднял руку, приказывая мне остановиться.
– Прислушайся, Уолтер, – прошептал он. – Слышишь этот звук?
Я прислушался и услышал поначалу обычный уличный шум, от которого в Нью-Йорке никуда не деться, шум, который слышен и в самом навороченном отеле, и в самой жалкой лачуге. К этому шуму привыкаешь. Тут, как с запахом в Манеже – если вы больше не слышите уличного шума, то значит вы настоящий ньюйоркец. Я напряг слух изо всех сил и вдруг разобрал еще один шум. Он был похож на звук приближающегося автомобиля, причем шел и из определенной точки, и со всех сторон одновременно. Иногда он звучал как диссонанс, а иногда был похож на довольно приятный гармонический аккорд. Наконец я понял, что я слышал. Это был печальнейший из звуков нашего мира – звук храпа тысячи бомжей.
– Самая настоящая человеческая симфония, правда, Уолтер? Храп, кашель, отрыжка, бормотание, призыв дорогих полузабытых имен, пердеж. Грустная симфония, Уолтер, и очень немногим доводилось ее слышать. Симфония покинутых.
Что бы я ни думал раньше о Фоксе Гаррисе, в этот момент что-то во мне дрогнуло и изменилось – уже навсегда. Как это часто бывает с людьми, одержимыми страстью к одной женщине, никто из нас не упомянул ее имени. Но я вдруг понял, что именно Клайд находила в Фоксе, и, надо сказать, что личные чувства не помешали мне это оценить. Я был тронут.
Фокс внезапно шагнул ко мне и, прежде чем я что-то сообразил, обнял словно мы были парой, кружащейся под слышную только нам божественную музыку в медленном танце. Возможно, это было следствием курения «малабимби». Возможно, так воздействовала мирная обстановка этого потустороннего места. Возможно, дело было в том, что передо мной находился человек, близкий женщине, о которой я только мечтал и свои мечты выплескивал на бумаге. В общем, не знаю, по какой причине, но только я не оттолкнул Фокса и несколько мгновений мы простояли, прижавшись друг к другу, посреди этого странного и убогого бального зала. Мой внутренний голос вдруг разделился на два. Первый говорил: не сопротивляйся, такты становишься ближе к Клайд. А второй нашептывал совсем другую истину: не отталкивай этого человека, он может изменить твое сердце. Я посмотрел на Фокса с таким чувством, будто заглядывал в глаза судьбы. Он спокойно, как ни в чем не бывало, взял меня за руку, и мы пошли с ним вдоль рядов кроваток, в которых храпели маленькие человечки.
– Смотри, – сказал Фокс, – видишь, что они сделали с обувью? Каждый ботинок придавлен ножкой кровати.
Да, действительно странно, что я не заметил этого раньше. Видимо, я вообще раньше многого не замечал. Но сегодня была странная ночь в странном мире, и я ясно видел людей, старавшихся сберечь свои жалкие потрепанные башмаки, в которых ни один человек в Нью-Йорке и мили не пройдет, – сохранить, чтобы их не уперли такие же, как они, полные безнадежники. Я чувствовал, что эта деталь говорит о человечестве ровно столько, сколько каждый из нас хотел бы о нем знать – не больше и не меньше.
– Койки завтра, конечно, будут задвинуты в углы. Клайд размахнулась так, что у Трампа впервые в жизни может не хватить денег на кредитке. Это будет всем праздникам праздник, уж ты мне поверь. Ага! Вот и он! Узнаешь это чудо природы?
Я прошел вслед за Фоксом в угол, где были сдвинуты две койки, чтобы вместить самое круглое и самое объемистое спящее негритянское тело из всех, какие мне доводилось видеть. Впрочем, нет, это тело я уже видел. Это был Тедди.
– Завтра у него большой день, хотя он об этом еще не знает, – сказал Фокс. – Он будет не просто почетным гостем. Завтра вечером его коронация! Он станет законным королем своего африканского государства. Да, немногие из нас, засранцев, ставят перед собой в жизни столь благородные цели, а тем более их достигают!
Я смотрел на спящего Тедди и вдруг поймал себя на мысли: как он похож на ребенка и даже на ангела! Посреди этого необъятного зала, переполненного нищетой, горем, печалью, грязью и страданием, спал великан с лицом ребенка. Он спокоен во сне почти как мертвый, подумал я.
– Когда они видят сны, – сказал Фокс, – они путешествуют по тем же местам, что и мы.
XVIII
Я не видел Клайд с того самого вечера в «Единороге», когда мы стояли с ней в божественном свете музыкального автомата и она подарила мне незабываемый поцелуй. Фокс всё еще сидел в тюрьме, а я был еще слишком зелен и верил всему, что каждый из них мне говорил. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, как наивно с моей стороны было думать, что правда и ложь – это противоположности. С тех пор, спасибо Клайд и Фоксу, я научился тому, что буквальная правда и ложь – ничто по сравнению с теми истинами, которые заставляют цветы тянуться к солнцу и которые правят человеческими сердцами.
Мне ужасно не хватало Клайд. Мне было просто физически больно без нее. Я чувствовал себя, уж простите мне это сравнение, как героинщик во время ломки. Наступит день, – думал я, – и мне удастся узнать про них все: кто они, чем занимались раньше, какие у них отношения. И несомненно настанет день, когда я пойму, что они значили в моем одиноком, как остров, существовании. И я клялся: кем бы они ни оказались, я останусь с ними, буду жить их жизнью. Для меня они останутся просто Клайд и Фокс. Конечно, я понимал, что выбираю трудный путь, путь духовного восхождения. Если бы я сумел остаться на этом пути, они и сейчас были бы рядом. Но в невыдуманном мире, в котором мы живем, сердца разбиваются ежедневно, жизни ломаются повсюду, и тому, кто выживет, не остается ничего иного, как нестись сломя голову в безопасный мир вымысла, чтобы там спрятаться. Бежать, в чем есть, в той одежде, что на плечах, и в тех башмаках, что на ногах. А башмаки не забыть поставить на ночь под ножки кровати.
Вернувшись из Манежа, я провел большую часть ночи за письменным столом, и утром у меня был о приятнейшее ощущение, которое в литературном сообществе обозначают словами «пишется». Теперь я уже в середине дня чувствовал приближение того знакомого удара локтем под ребра, после которого начнется ноющая боль в душе: пора писать, пора писать. В общем, если вы позволите мне еще раз это сравнение, которое от повторения станет только хуже, то я чувствовал себя немножко героинщиком. Если не пишешь каждый день, тебя начинает ломать. А все-таки интересно: действительно Клайд была героинщицей, или Фокс придумал ей такую страшную биографию, чтобы охладить мою страсть? А может быть, сказал просто со злобы? Мне и хотелось, и не хотелось узнать правду. Я хотел любить Клайд без всяких оговорок, без всяких препятствий, любовью такой же чистой, как ее душа.
Мысли о Клайд напомнили мне, что я так и не разузнал ничего о тех ребятах, которые наехали на нашего друга Джонджо из «Единорога». Я, конечно, не сыщик. Н-да, я даже не плодовитый автор. Но я все-таки отыскал в кармане пальто визитку, которую отдал мне Джонджо, и решил попробовать немного пошпионить. Надо же было что-то ответить Клайд, если она сегодня вечером об этом спросит. Я мог бы, конечно, сочинить что-то в ответ. Люди врут постоянно. Только благодаря вранью, они участвуют в большой политике, сохраняют в нерушимости браки и пишут романы. Но все-таки лучше, если вы можете подвесить то, что вы считаете вымыслом, на тонкой ниточке того, что вы считаете правдой.
Было уже около полудня того самого важного дня, когда должна была состояться коронация Тедди. Для меня, впрочем, этот день был важен только тем, что я снова окажусь рядом с Клайд. Я налил себе чашечку свежего кофе и принялся изучать визитку Стэнтона Маловица – так тщательно, как будто она содержала скрытое послание о смысле жизни. Все, что я мог сейчас сделать, – это помочь Клайд с этим ее новым развлечением. Если в конце концов, для Джонджо судьба «Единорога» и была делом жизни, то для меня от исхода этого дела ничего не зависело. Меня вообще ничего не волновало теперь, кроме моего романа и двух его главных героев. Я отхлебнул кофе, взял трубку и отстучал номер Стэнтона Маловица.
– Северо-Западная недвижимость, – ответил бесстрастный женский голос.
– Будьте добры Стэнтона Маловица.
– Он в командировке, сэр. Могу я записать ваше сообщение?
– А вы не знаете, когда он вернется?
– К сожалению, нет, сэр.
– Ну, тогда, может быть, вы можете мне помочь? Какой у вас территориальный код?
– Это Сиэтл, сэр, – ответила секретарша. Тембр ее голоса вдруг стал терять привлекательность.
– И это фирма, торгующая недвижимостью?
– Это Северо-Западная недвижимость, сэр. Если вам нужна дополнительная информация, вам следует обратиться к мистеру Маловицу.
– Но он дал мне свою визитку, – приврал я. Писателю надо практиковаться в выдумках, хотя бы и таких элементарных.
– Я вам охотно верю. Не могли бы вы оставить сообщение?
– Да, конечно. Но не могли бы вы прежде сообщить мне некоторые подробности? Чем именно занимается Северо-Западная недвижимость? Кого она представляет?
– Сэр, – сказала секретарша, и в ее голосе отчетливо прозвучало раздражение. – Вам следует поговорить с мистером Маловицем.
– И вы не знаете, когда он вернется из командировки?
– Нет, сэр. Это все, сэр?
Я назвал свое имя, оставил номер телефона и повесил трубку. Н-да, здесь точно что-то не вполне кошерно, – подумал я. Будь я более опытным и бдительным человеком, я бы почувствовал даже большее – явный сигнал опасности. Но я не был сыщиком-любителем и не писал детективный роман – если, конечно, не принимать во внимание, что все хорошие романы – отчасти детективные или, по крайней мере, романы с тайной. Тайна состоит в том, как они пишутся, из каких ингредиентов составляются, и еще в том, что писатель никогда не знает, как роман повлияет на его жизнь.
Мне не понравился и показался странным тон этой секретарши. Я отлично знал: служащие контор по торговле недвижимостью всегда горят желанием заманить покупателя, и потому просто тают от дружелюбия. А эта женщина с ходу заняла круговую оборону от потенциального клиента. Странно, – думал я, – на редкость странно. Но впереди меня ждали еще более странные вещи.
Вечером того же дня к моему подъезду был снова подан длинный черный лимузин, на котором я и прибыл в Старый манеж. На город опускался темно-серый занавес сумерек, и когда я подъехал, здание уже почти слилось со своим мрачным окружением. Водитель снова приложил руку к фуражке, я вышел и начал подниматься по видавшим виды ступеням. Вокруг не было ни души – ни бездомной, ни какой-либо другой. Может быть, я день перепутал? – усомнился я. Или всхожу не на ту приступочку? Или шучу не ту шуточку? Но тут я открыл здоровую деревянную дверь и остановился как вкопанный.
Передо мной открылся вид, напомнивший мне роскошный бальный зал из фильма «Доктор Живаго». Длиннейшие столы, покрытые белоснежными скатертями тянулись по всему огромному помещению, сколько мог видеть глаз. Повсюду были развешены транспаранты, ленты и цветочные гирлянды. Если не очень присматриваться к публике, то создавалось впечатление, что ты попал на какую-то навороченную свадьбу или, скажем, на празднование бар-мицвы у богатых евреев. Еду на серебряных подносах разносили официанты в смокингах. В дальнем от меня углу зала настраивался целый оркестр. Да, праздник был неслабый по любым меркам. А шум стоял такой, что я даже отступил на шаг назад.
И тут мои глаза закрыли две почти детские, но несомненно женские ладошки.
– Угадай, кто это, солнышко! – услышал я голос, перекрикивающий шум.
– Сильвия Плат?
– Еще раз, Уолтер!
– Мать Тереза?
– Еще раз, ублюдок!
– Ну, я попробую. Поскольку в этом зале собралось больше тысячи мужчин…
– Больше двух тысяч!
– …больше двух тысяч мужчин, а женщин я видел только двух – одна играла на арфе, а вторая тащила поднос – с икрой, кажется, – то остается предположить, что это великолепная, искрометная, неповторимая…
– Продолжай, продолжай, солнышко!
– …девушка, которую я люблю. Клайд!
Она развернула меня и оказалась в моих объятьях.
Клайд обхватила двумя руками мою голову и впилась в губы жарким поцелуем. В этот момент грянул оркестр.
– Потанцуем? – спросила она, прервав, наконец, поцелуй.
– Я никогда не учился танцевать босанову.
– Ну, ничего. Потанцуем попозже. Солнышко, ты только посмотри вокруг! Мы сделали это! Сделали то, что хотели!
Да, тут было на что посмотреть. Правда, приглядевшись, я подумал, что не все из того, что я вижу, получалось так, как мы хотели. Например, тут был беззубый человек, пытавшийся разгрызть омара. Были люди, свирепо поглощавшие икру, хватая ее полными горстями. Был еще один, вертлявый, как Румпельштильцхен из сказки братьев Гримм, который стриг ногти на ногах и кидал их в серебряную чашу для пунша. Еще двое дрались за баранью ногу. Еще один пристроился неподалеку от разогревающейся клезмер-группы[3], чтобы пописать прямо на пол. У меня не было уверенности, что к началу коронации, которая должна их успокоить, они не разгромят все здание.
Клайд, само собой, ничего этого не замечала: она явно была в состоянии эйфории. Интересно, от чего она испытывала больше радости: от того, что голодные насытились, или от того, что Трампу придется раскошелиться? Скорее всего, и от того, и от другого поровну. А еды было действительно навалом, и притом роскошной еды.
– Ну скажи, разве это не прекрасно?! – восклицала Клайд. – Эти ребята, может быть, вообще ничего не ели целую неделю, а теперь у них на ужин икра, и трюфели, и омары, и ягнята!
– Да, только не уверен, что слово «ужин» тут к месту, – заметил я.
Но Клайд не слушала. Глаза ее сияли, с губ не сходила сногсшибательная улыбка. Никогда еще я не видел ее такой счастливой. Странные вещи делают ее счастливой, – подумал я, – и есть ли такому, как я, место среди этих вещей? Но, с другой стороны, стоит ли осуждать Клайд? Ну да, многие ее шуточки не на шутку нарушали закон, но разве она занималась этим не для того, чтобы помочь обездоленным, униженным, нищим, чтобы восстановить редчайшую вещь на земле – справедливость? Ту справедливость, которую Бог и закон раздают как попало, наугад, и иногда вовсе не тем, кому следует. Так могу ли я осуждать Клайд? Я, человек, который ее любит. Я, человек, который благодаря ей стал вегетарианцем и соучастником ее преступлений. Я, которому так нужна ее сила и который сомневается, что у нее есть эта сила. Я, которому так нужна она сама и который уже украл ее для своего романа.
Тут мои размышления были прерваны. Я получил здоровенный тычок в спину и, обернувшись, увидел Фокса Гарриса. Вид у него был лихой, беспечный и довольный, как у пьяного матроса в последний день на берегу перед выходом в море.
– Это только начало! – крикнул он, перекрывая шум. – Погоди, сейчас увидишь, что будет дальше!
Дальнейшее было легко предугадать, поскольку Фокс объявил, что притащил двадцать четыре ящика шампанского «Дом Периньон», перелил все это дело в желтые пластиковые канистры и расставил по периметру зала. Алкоголь в ночлежке был, само собой, запрещен. Фокс, однако, заявил, что сегодня особый вечер, запреты отменяются, и всего должно быть вдоволь.
Обстановка стала меняться у нас на глазах, причем в худшую сторону и с умопомрачительной скоростью. То здесь, то там вспыхивали потасовки. Столы очень скоро оказались перевернуты. Люди блевали, мочились, кашляли так, словно хотели вывернуться наизнанку – но при этом продолжали петь и плясать. А оркестранты продолжали играть, ничуть не хуже, чем их предшественники с «Титаника». Вряд ли я когда-нибудь забуду и эту сумасшедшую сцену, и реакцию на нее Клайд и Фокса. Сам я, подражая оркестру, старался сохранять присутствие духа.
– А вот теперь я хочу танцевать! – объявила Клайд.
– Ты что, с ума сошла? – вырвалось у меня.
Она мельком взглянула на меня, и я сразу пожалел о своих словах. Все-таки трудно стать другим человеком. С такими, как я, перемены происходят очень медленно.
– Надеюсь, что да! – ответила она.
Она взяла меня за руку, и мы закружились. Это было замечательно, но длилось совсем недолго. Сначала ее перехватил Фокс. Потом какой-то парень, похожий на Джека-Потрошителя. Потом она танцевала еще с полдюжиной мужиков, выглядевших как стопроцентные бомжи. Потом оркестр решил передохнуть, и за дело взялась клезмер-группа. Эта музыка была как раз для дервишей, и под нее праздник стал сползать в еще больший хаос и безумие – если только это было возможно.
К тому времени, когда Тедди, полностью подготовленный Фоксом к церемонии коронации, царственной походкой вошел в зал, обстановка была такая, словно тут только что пронесся вихрь Великой Французской революции.
Прежде чем кто-нибудь что-либо понял, Тедди величественным жестом приказал толпе расступиться, чтобы дать ему путь к подиуму, а клезмер-группе – заткнуться. Это само по себе было немалым подвигом: если вы когда-нибудь имели дело с клезмер-группами, то понимаете, о чем я говорю. Тедди был облачен в пурпурную мантию и выступал широким шагом. Когда он достиг подиума, Фокс догнал его и тут же возложил ему на голову сияющую золотую корону. Я поймал себя на мысли, что вся эта история почему-то напоминает мне историю Христа – только я не мог понять, почему. То ли дело было в поспешном увенчании, то ли в насыщении голодных толп. А может быть, просто в доброжелательности, с которой относился к своим бездомным братьям этот огромный бомж, именуемый Тедди.
– Посмотри, это же настоящий король! – в восторге кричала мне Клайд. – Фокс достал эту мантию из своего собственного чулана!