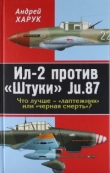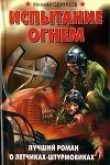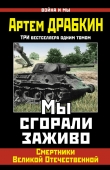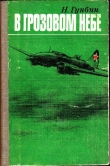Текст книги "Испытание огнем. Сгоравшие заживо"
Автор книги: Иван Черных
Соавторы: Михаил Одинцов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 54 страниц)
Матвей, узнав об этом, думал тогда, что если летчик-командир, участвовавший в боях на Халхин-Голе, получивший за это орден Красного Знамени, оказался необоснованно подозреваемым, то обсуждать этот факт не нужно.
Находясь сейчас под замком, он по-новому оценил свое выступление на комсомольском собрании весной сорок первого года, настойчивый интерес к нему работника «Смерша». И с благодарностью вспомнил теперь действия командира, сумевшего увести его от назойливой требовательности и даче письменного объяснения… Командир и война оградили его от возможных опасных последствий.
Оказавшись за решеткой, он вспомнил раскулачивание трудового клана прадеда и деда, с их детьми, невестами, внуками и правнуками. Перед его мысленным взором всплыла эта дикая картина – крик, шум, пыль, тревожный рев скота, плач женской половины раскулачиваемых и угрюмость мужиков; мат и потасовку алчущих в захвате и растаскивании чужого добра.
Только теперь он задумался над своей судьбой с другой, неожиданной для самого себя стороны. Как же он попал в авиацию, с такими сомнительными родственными связями?
Поразмыслив, он нашел, как ему показалось, правильное объяснение: у мамы была другая, по мужу, фамилия. Ее работа, его – на заводе решили вопрос положительно, хотя он и не был комсомольцем. Сам не додумался, а другие не предложили.
Вместо сна его окутывала тревожная дрема. Сновидения и бодрствование перемежались, но калейдоскоп мыслей был постоянно тревожным. Ярко вспомнился июль сорок второго, когда на утреннем солнцепеке зачитывал приказ № 227. Тяжесть обстановки и потери полка по прочтении стали более понятны; предел, к которому подошла страна, определился в его уме однозначно. Вечером они с Шубовым уединились и обсуждали, что же им дальше делать. Говорили долго и решили воевать до победного, вплоть до партизанщины. Сколько ни перебирали факты из жизни и боев полка, не нашли людской вины, кроме Ловкачева и Гарифова. И пришли к выводу, что осуждения и упреки, озвученные в приказе, их полка не касаются. Требования заставляют их воевать лучше. Воевать, не жалея себя.
Вспомнив это, Матвей пытался теперь представить, как 227-й приказ может отразиться на решении его судьбы.
«Командир дивизии уже отрекся от своих слов. И будет защищать себя с настойчивостью. Прав капитан НКВД. Ему поверят. Или уже поверили. Дежурный лейтенант на аэродроме – не авторитет. Тем более что трубку телефонную он у уха не держал.
Если следствие признает правдой показания полковника, то свидетельство дежурного по аэродрому не будут приняты во внимание. Он ведь ссылается только на то, что я ему сказал. Дежурный не виновен. Получается, что я его обманул. Вырисовывается только моя вина. Вина или преступление?
Вина – это недисциплинированность, приведшая к тяжелым последствиям: гибели летчика и потери самолета… Такая позиция, видимо, не пройдет. Начальники будут спасать штаб. Их позиция – я совершил преступление. Преступление – это суд. Судьи найдут необходимые статьи.
Преступление совершено не на фронте. Воспользуется ли трибунал Приказом Сталина 227?
Новая дивизия, только что сформированный корпус! Одним лейтенантом больше или меньше, когда гибнут тысячи! Они, начальники, нас же не знают. Я для них кот в мешке: не видели, не слышали, не говорили. Через защиту «чести», через мое осуждение для старших и для младших будут продемонстрированы воля и стремление в наведении порядка и дисциплины. Назидание подчиненным на будущее».
Осипов находился в неведении уже три дня и четыре ночи. Следователь не приходил, его никуда не вызывали, объяснений никаких не требовали. Его обращения к начальнику гауптвахты наталкивались на молчаливую глухоту.
Наконец-то неопределенность кончилась. Позади было следствие без допросов и скорый суд без вопросов.
Члены трибунала и единственный представитель полка в суде майор Ведров ушли. В тишине зала, как эхо, Осипову все еще слышались слова: «… восемь лет лишения свободы заменить отправкой на фронт. В штрафной батальон не направлять. Для отбывания наказания оставить в полку на должности рядового летчика. Из-под стражи освободить. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».
«Вот, Матвей, и вернулся ты к своим летчикам, – подумал Осипов. – Но кем?… Преступником. Не все тебя теперь в полку понимают, да и поймут ли потом? Катастрофа есть катастрофа. Тем более что приговор зачитают перед строем полка. А это официальный документ… Кто будет после этого обсуждать обстоятельства гибели Цаплина и наберется смелости вслух сказать, что Осипов вылетал не самовольно?»
Он не знал, кто пытался и пытались ли доказать его невиновность. Но был уверен, что в его «преступную недисциплинированность» никогда не могли поверить Русанов и Мельник. А раз они не помогли доказать его невиновность – значит, не смогли.
В глубокой задумчивости Осипов спрашивал себя: «Почему же на гауптвахту ни разу не пришел следователь?… Почему не был я вызван ни командирами, ни комиссарами?… В чем же дело?… Может быть, так положено судить по закону военного времени?…»
В сознании никак не укладывалось его новое служебное и правовое положение, что он по чьей-то злой воле отброшен на пять служебных ступенек вниз, отброшен вновь на исходную жизненную позицию и лишен права на свой новый шаг вперед. И в том, как поступили с ним, он не видел вины Цаплина. Жалел загубленную жизнь и винил себя в том, что не предусмотрел такой вариант событий: подчиняться только ему, его команде. У старшины же сработал автомат дисциплины.
В пустом зале раздались гулкие шаги, и Матвей увидел возвратившегося полкового доктора.
– Матвей Яковлевич, надо идти. Тут тебе нечего делать. Ничего нового больше не узнаешь.
– Хватит и этого. А куда идти? Я теперь вроде бы как шелудивый пес. Обгадили всего. Мне сейчас стыдно людям в глаза смотреть. А ведь нужно будет с ними жить и воевать.
– Я не думаю, что у нас в полку подлые люди. А летчики – они народ грамотный, сами разберутся и в обстановке, и в суде.
– Иван Ефимович, я вам, как отцу, могу сказать, что моей вины в смерти Цаплина нет. Совесть перед ним у меня чиста. А говорить об этом на людях я не могу.
– А ты и не говори. Все уляжется. Пойдем, комиссар тебя ждет.
…Мельник поздоровался с Осиповым за руку и указал на стул.
– Случившееся событие очень печальное. Я не верю в твое самовольство. Но личные убеждения не всегда сильнее законов и обстоятельств. У меня к тебе одно требование: о суде нигде не говорить и его решение не обсуждать. Служить тебе придется в своей же эскадрилье, а командовать ею будет Пошиванов. Исподволь ему помогай. Какие ко мне вопросы?
– Спасибо на добром слове. Вопросов нет.
Матвей расстегнул карман гимнастерки, вытащил из него кандидатскую карточку, орден Красного Знамени и молча положил их перед комиссаром.
– Это зачем? – Мельник недоуменно посмотрел на летчика.
– «Зачем»? Орден-то я еще на гауптвахте, перед судом снял. Думал, меня судить будут, а не боевые солдатские заслуги. И еще задумка была: в анкете, как там у трибунальцев называются данные на «преступника», не знаю, может, орден не значится, так у меня останется на память о былом, а то ведь и отобрать могли. Вообще-то странно все с судом выглядело: следователь ни разу не приходил; никто меня не допрашивал; удостоверение командирское у меня было и кандидатская карточка в кармане, орден – в другом: вопросов в суде не задавали. Поставили по стойке «смирно». Зачитали, что написано у них там на бумаге: «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Повернулись и ушли… Понял ли я, что мне определили, их уже не интересовало. Снимать ли мне лейтенантские кубики с петлиц или по-прежнему лейтенантом быть? Теперь вот вы спрашиваете. Зачем я их на стол положил? А как же может преступник быть кандидатом в члены ВКП(б) и еще ходить с орденом? Да и с петлицами. Ясность нужна.
– Осипов, ты не дури. В приговоре нет частного определения в Президиум о лишении тебя награды, исключать тебя из кандидатов мы и не собирались, то же самое и со званием. Носи себе и нам на радость.
– Фрол Сергеевич! Вы мне давали рекомендацию. Не могу я так. Положите орден и карточку в сейф к себе. Смогу оправдаться, тогда вернете…
Мельник молчал. Глаза смотрели мимо собеседника, а левая рука тихонько постукивала пальцами по столу.
– Наверное, прав ты, Матвей, давай уберу. Еще какие пожелания?
– Если убьют меня в таком положении, мать пенсию получит?
– Если убьют?… Жить надо. А убьют – обязательно получит. Не надо об этом думать. Война есть война, всякое может быть… Я очень буду ждать того момента, когда смогу по твоей просьбе вернуть то, что сейчас кладу в сейф. А теперь иди к командиру полка, официально надо передать эскадрилью Пошиванову и на этом поставить точку.
Имей в виду, приказ командиром корпуса на тебя и Пошиванова уже подписан. Заместителем к нему назначен Ловкачев.
Матвей поднялся:
– Спасибо, Фрол Сергеевич, за поддержку. Разрешите, я пойду.
– Подожди. Вот возьми книгу, почитай, подумай. У этого человека было еще более сложное положение, чем у тебя. Островский совсем ослеп, когда вышло вот это, первое издание. Не видя книги, он ее нежно ощупывал и радовался. Обреченный, а радовался. И когда его пальцы нащупали тиснение на обложке, он прижал книгу к груди и надолго замолчал. Потом улыбнулся и сказал, что художник очень хорошо понял его книгу. Штык и веточка – это символ. Символ веры и жизни. Борьба во имя жизни. Николай Островский был бойцом до конца: боец на фронте, боец против болезни и своих недугов. Родные рассказывали, что, оставаясь один, он иногда брал книгу в руки, ощупывал тиснение и улыбался.
…Дни были заняты, и Матвей, перечитывая книжку по ночам, все больше роднился с Павкой Корчагиным, проникался его одержимостью, радовался вместе с ним успехам и переживал предательство. И это сопереживание как-то по-иному повернуло его собственное горе, сделало его не исключительной частностью, а явлением борьбы каких-то людей за свои эгоистические, шкурные интересы, в которой он оказывался чистой случайностью.
В один из дней Матвей принес на самолет два тюбика краски и полез в кабину. Посидел, выбирая место на приборной доске, и принялся за работу. Ниже и чуть правее авиагоризонта, так, чтобы всегда было видно, нарисовал перекрещивающиеся зеленую веточку и красный штык – любимый символ Островского, его веру в торжество жизни, веру в необходимость борьбы за эту жизнь, за ее справедливость.
Лейтенант Пошиванов вел свою эскадрилью на фронт. Но летел он не впереди нее, а во второй замыкающей шестерке, шел в затылок ведущей группе, которую возглавлял только что назначенный к нему заместитель – Ловкачев.
Такой порядок перелета Степан определил для обучения Ловкачева, который еще ни разу не командовал хотя бы двумя самолетами как командир звена и не испытывал на себе тяжести командирской ответственности за свои действия.
Для комэска место во главе группы было не ново, но чувствовал он себя не совсем спокойно, не успел еще привыкнуть к тому обстоятельству, что его бывший командир оказался у него в подчинении на правах рядового летчика-штрафника. И хотя трений с Осиповым никаких после суда не возникало, но он все время чувствовал предупредительность и вежливую официальность с его стороны, настороженность всей эскадрильи в их взаимоотношениях. Самолет Осипова с большой цифрой тринадцать на фюзеляже шел сейчас у него ведомым – слева. И ему подумалось: «Эта цифра для Матвея все время была счастливая. Пусть и сейчас ему повезет. Он должен обязательно оправдать себя. А я постараюсь помочь».
Беспокойства ориентировка не вызвала – под самолетами тянулась железная дорога Москва – Ленинград. И эта простота полета до города Калинина создала ощущение свободного времени. Внизу плыл безрадостный, со снежной проседью, пейзаж поздней осени. Стылая унылость лесов и деревень отбила всякую охоту к рассматриванию земли. И ему захотелось подумать о чем-то другом, не относящемся непосредственно к полету.
Проверив связь с Ловкачевым, Степан вспомнил приезд к ним главного конструктора Ил-2 и разговор с ним.
Улыбнулся хитрости главного, который, видать, специально устроил «базар» из разговора, чтобы побольше высказалось нетерпеливых, кто помоложе. Поперебирал в памяти говоривших. И получалось, что, в общем-то, летчики говорили о прицеле, который неудачно расположен. Поэтому при вынужденных посадках пилоты разбивали об него голову. Потом стали говорить о недостатках одноместного самолета и связанных с этим потерях от фашистских истребителей.
Когда же «неорганизованный» разговор сам по себе затих, главный конструктор добрался до них, начальников. А какой он, Степан, к черту, начальник в таком разговоре, что он мог толкового сказать этому хитрюге инженеру, который, говорят, раньше и сам летал.
И опять при этом воспоминании появилась скупая улыбка на плоском удлиненном лице.
– Вот вы, товарищ лейтенант, как уже порядочно повоевавший человек, что по этому поводу скажете?
Вспомнил ответ свой и вновь посчитал его правильным.
– Что думаю? Думаю, что Ил-2 никогда не будет маневрировать как истребитель, да еще с бомбами. К тому же мы больше смотрим на землю, на ней врага ищем. Поэтому можно и прозевать истребителя. А в бою побеждает тот, кто раньше бьет. По-моему, если стрелка посадить с хорошим пулеметом, то это уже будет здорово. Потери будут меньше.
Вспомнил и прощание. Конструктор обещал учесть их критику и предложения в самые короткие сроки.
«Посмотрим, если доживем, какие это короткие сроки и усовершенствования будут».
Не знал Пошиванов, да и большие командиры, что штурмовик был задуман двухместным, с воздушным стрелком в задней кабине. И этот задел не был уничтожен. Что Ильюшину надо просто достать старые чертежи и расчеты, показать уже на опыте войны жизненность и необходимость своей идеи и запустить ее в дело. Поэтому-то главный и заверил летчиков о коротких сроках.
Показался Калинин, начавшая замерзать, покрытая ледяным «салом» Волга. Ловкачев развернул эскадрилью на запад. Слева на самолеты надвигался Ржевский плацдарм фашистских войск, а справа – Демянский «аппендицит».
Нарисованная на карте красным карандашом линия фронта бежала неправильным крутом по лесам и болотам, оставив на чужой стороне Ржев, Смоленск, Невель, Великие Луки, Демянск.
«Горлышко и сама колба, – подумал Степан. – Лишь бы ее не захлопнули. А то уже так было в этом году под Харьковом: влезли, да не все обратно выбрались».
Прибытие на фронт сразу нескольких полков штурмовиков не осталось незамеченным для гитлеровского командования. При летной погоде воздушные разведчики Люфтваффе стали усиленно бороздить небо. За ними появились и бомбардировщики. Полку Митрохина не суждено было спрятаться в пестроте перелесков и полян. Три полка самолетов и три их батальона обеспечения, штабы, лазареты, склады и столовые, и все это на одном аэродроме, невозможно было скрыть от врага.
Бомбили чаще ночью. Как только сбрасывались САБы [10], зенитная артиллерия старалась их сбить, чтобы лишить возможности немецких штурмовиков провести прицельное бомбометание. 37-миллиметровые пушки расстреливали висевшие в небе «фонари», а средний калибр с помощью прожекторов и звукоулавливателей начинал охоту за «юнкерсами».
Зенитчики и прожектористы сражались с врагом, а всем остальным было не до сна – тревожно ждали взрывов бомб и окончания налета, постоянно помня, что свистящая бомба – «чужая». Ухо и сердце постоянно были настороже.
Днем на аэродроме действовали другие законы: по воздушной тревоге дежурные истребители взлетали на отражение налета, зенитчики всем скопом вели огонь по фашистским самолетам, а все свободные от боя люди разбегались по окопам и землянкам.
В полукилометре от деревни, в которой жил полк, ближе к аэродрому, на маленьком болотистом островке стояла зенитная батарея. Когда она вела огонь, в домиках звякали переклеенные бумажными лентами стекла, открывались двери, а воздушные волны от выстрелов больно били по ушам. Осипов же обрадовался такому соседству, потому что давно искал возможность для изучения принципов организации и ведения огня батареей среднего или крупного калибра. Раньше ему удалось побывать несколько раз у зенитчиков малокалиберной артиллерии, и он после этих посещений почувствовал себя увереннее в зенитном огне противника, так как хорошо представлял действия врага и возможные его ошибки.
На батарее Матвей был уже своим человеком. Если удавалось, то по сигналу воздушной тревоги он бежал не в щель, а к зенитчикам, стремясь в бою постичь их премудрости и законы ведения огня.
Вот и сейчас, пробежав около семисот метров, он был на батарее.
Все номера уже заняли свои места. Батарея приготовилась к бою, но самолетов еще не было слышно и видно. Наконец дежурный телефонист высоким голосом прокричал:
– Внимание! Квадрат тридцать два, курс девяносто, самолеты противника!
Широкие раструбы звукоулавливателей нашли группу, и действия расчетов, движение артиллерийских стволов приобрели осмысленность.
Наконец ухо уловило угрозу, идущую сверху. Густой басовитый звук нарастал. Показались две группы «юнкерсов» – вражеская атака надвигалась. Но Осипова интересовали не «юнкерсы». Он смотрел за действиями расчетов и их командиров. Смотрел и слушал. Матвей хотел найти в бою батареи секунды, которые позволят ему там, наверху, использовать их с выгодой для себя, позволят сделать огонь менее опасным. Девятый номер доложил:
– Цель поймана!
Восьмой и седьмой прокричали:
– Совмещение есть!
Слышится голос второго:
– Совмещение есть!
– Огонь!
Голос комбата прозвучал резко. Рубанул воздух опущенный флажок Бой начался.
Залп…
Батарея зло рявкнула железными глотками, земля под ней прогнулась, с лязгом открылись замки и выбросили со звоном и дымом стреляные гильзы. Орудия проглотили с рук подносчиков по новому снаряду, и снова залп.
Дым и пыль, грохот выстрелов, звон вылетающих из орудий стреляных гильз, низкий, прерывистый гул работы моторов вражеских самолетов – все это смешалось в зловещую какофонию боя. Уже не слышно доклада номеров орудий, голоса командира батареи, а только виден взмах его флажка, после которого следует залп.
Матвей посмотрел вверх. Белые облачка разрывов окружали самолеты. Но вот «юнкерсы» изменили курс и, наверное, скорость полета, и разрывы ушли от них влево и остались сзади. Затем разрывы опять догнали группу. И он увидел, как один самолет накренился и резко пошел вниз, оставляя за собой шлейф черного дыма.
В наступившей тишине неожиданно странно прозвучал голос:
– Цель исчезла.
Самолеты вошли в мертвую для батареи зону, и теперь орудия беспомощно описывали в небе круг, чтобы, может быть, потом еще сделать несколько залпов, уже вслед уходящему врагу.
И пока орудия молчали, Матвей услышал вверху короткие пулеметные очереди – это стрелки врага боролись за свою жизнь, пытаясь заставить замолчать обнаруженные ими батареи. Он осмотрелся – возле второго орудия три красноармейца лежали на земле. Правда, было еще непонятно, что с ними произошло: ранены, убиты или, испугавшись, залегли.
К залпам батарей, пулеметным очередям с неба прибавился глухой затяжной гром разрыва бомб, и «юнкерсы» начали разворот домой. Из строя вывалился еще один самолет и начал отставать. Зенитный огонь прекратился: к врагу приближались четыре маленькие точки – истребители.
Здесь, на батарее, бой уже кончился. И хотя Матвей только наблюдал, у него вместе с беспокойством за судьбу тех, на кого были сброшены бомбы, появилось чувство удовлетворения и солдатской радости: мы тоже не лыком шиты, даром этот налет врагу не прошел!
Отдав почести убитому, Матвей попрощался с комбатом и пошел в эскадрилью. Надо было подвести итог тому, что он увидел и услышал. Ему стало понятней, как на батарее готовится огонь, вводятся поправки в прицельные данные. Он уже видел большие возможности в преодолении этого огня с помощью маневра, разных тактических приемов выхода на цель. Стало совершенно ясно, что самый опасный – первый залп. Надо научиться думать в воздухе и запомнить одно правило: если не стреляют, значит, прицеливаются. Поэтому над врагом без маневра ходить нельзя.
Опоздали штурмовики. Их прилет на фронт совпал с относительным затишьем. Как принято было говорить, «шли бои местного значения». Стороны улучшали свои позиции, «зализывали» раны, получая пополнение, вели разведку, накапливали запасы.
Летчики и техники понимали, что без «боев местного значения» войны не бывает. И, разбирая по вечерам ход боев под Сталинградом, сожалели, что не довелось принять в них участия.
Дебаты и споры о фронтовых перспективах особенно часто разгорались в землянке боевого дежурства. И когда спорщики не могли найти единого мнения, шли к Русанову, который спокойно остужал горячие головы одним и тем же доводом:
– Ну что вы шумите? Подумайте: зачем было сюда, в «мешок», сажать целый корпус штурмовиков, если здесь не предвидится активных боев? Что он, был бы лишним под Сталинградом? Поймите вы, что весной, когда весь этот снег превратится в воду, откроются речушки и болота, пропадут все зимники [11], тут вообще нельзя будет воевать по-серьезному. Какой же можно сделать вывод? Командование готовит серьезную операцию зимой. Так что, пока затишье, готовьтесь, учитесь и набирайтесь опыта. Потом будет поздно.
…Погода не баловала летчиков. Низкая облачность прижимала самолеты к земле, мешала выполнению боевых задач. Наступившие холода, частые снегопады изменили землю. Осталось два цвета: зеленый – лес, белый – все остальное. Где поле, болото или озеро, можно было понять только с помощью карты. Маленькие деревеньки и проселочные дороги скрылись под белым саваном. Казалось, что земля и все живое на ней спит крепким зимним сном. Враг жался к населенным пунктам, городкам. И там, где была жизнь, белое покрывало, окутавшее землю, становилось грязным. Темные пятна мазута и сажи сразу выдавали немцев воздушной разведке.
На боевые задания полк летал маленькими группками по два, четыре, реже шесть самолетов. Нельзя было сказать точно, какие потери нес враг от налетов штурмовиков, но полк Митрохина незаметно таял.
Осипов часто летал на разведку и всегда с бомбами, чтобы не только увидеть. Увидеть для него было мало. Его посылали на боевые задания всегда, когда можно было лететь хотя бы одному и когда летали другие.
Вот и сейчас он был ведомым капитана Русанова, летел в четверке «илов» на «свободную охоту». Вторую пару возглавлял Пошиванов. Степан специально попросился в полет с Афанасием Михайловичем, чтобы поучиться у него этому сложному способу ведения боя. «Охота» не была предусмотрена боевым уставом, а появилась стихийно, под давлением обстоятельств: плохой погоды, отсутствия точных данных о противнике и больших пространств, на которых были разбросаны войска.
Породили «свободную охоту» и воздушные разведчики. Полет на малой высоте создавал условия для непосредственного столкновения с врагом. Летчик видел не только автомобили, тапки, пушки и повозки, но мог отличить солдата от офицера. По разведчику стреляли, и ему нужно было постоять за себя своим огнем. Самооборона быстро переросла в совершенно новый принцип «разведки»: увидел – уничтожаю. Теперь действия летчика чем-то отдаленно напоминали приемы охотника при выслеживании дичи. Для успеха полета нужны были хитрость, разумная смелость, высокая выучка, знание местности и повадок зверя – врага. У летчика главным союзником победы была внезапность. Изрыгающий из себя огонь зелено-белый Ил-2 внезапно вырывался из белой зимней мути неба, сеял у врага страх и смерть и сразу пропадал. Легче было найти, наверное, иголку в стоге сена, нежели поймать такой «ил»-отшельник. Но все же иногда «охотники» не прилетали домой. Невозвратившиеся молчали…
К Русанову, который непосредственно организовывал боевое дежурство, устанавливал очередность вылетов, делал разбор полетов и обучал летчиков этому новому виду войны, шли со своими сомнениями и за советом лейтенанты и сержанты, воевавшие и новенькие. Всякая удача коллективно обсуждалась, причины невозвращения предполагались… Учились военной хитрости. Выживали сильные.
…Степан выпросил этот полет у Митрохина. С большим трудом. Командир полка не хотел в один вылет отпускать сразу и своего заместителя, и командира эскадрильи, но вынужден был уступить настойчивости молодого командира, когда тот заявил:
– «Охота» предполагает свободу действий и широкую инициативу. Оказывается, этим надо уметь пользоваться. Своими же действиями я недоволен. А мне ведь людей надо в бой водить. Отвечать за их жизни. И тоже учить.
Только после этого Митрохин сдался…
Самолеты шли низко. Пространство между лохматыми космами облаков и землей было заполнено голубоватой дымкой, которая сокращала обзор и размывала горизонт. Над белым снеговым полем терялось ощущение реальной высоты полета. Русанов смотрел на приборы в кабине, а потом снова на землю. Но смотрел не вдаль, а поближе. Тогда взгляд выхватывал из белой безмерности темные пятна лесков, деревьев, домов, и ощущение, что тебя закрыли в белый шар, пропадало.
Линия фронта осталась далеко позади «охотников». Русанов вывел штурмовиков почти к самому Смоленску, от которого в район Ржева параллельно линии фронта тянулись две дороги. Они были накатанны, но пустынны, а отдельные автомашины и повозки его не интересовали. Командир сосредоточенно, то слева направо, то справа налево, наискось перерезал коричневые дорожные ленты, и ему казалось, что снежный накат имеет ребристую поверхность. Снижался как можно ниже на пустынных местах, чтобы лучше проверить свое предположение, но уверенности не было. Мысленно сожалел, что нет солнышка, которое бы сразу разрешило его сомнения.
Пошиванов шел своей парой в колонне, и Русанов видел его только при смене стороны разворота.
– Степан! Ты не заметил на дорогах гусеничных следов? Кажись, танки шли?
– Похоже, командир.
В разговор вмешался и Осипов, который тоже об этом уже давно думал:
– Очень даже похоже. Надо идти на север, там все прояснится: или ушли, или идут. Позавчера этого здесь не было.
Еще промелькнули десять километров и две минуты полета. Внизу, на снегу, появились широкие грязные пятна, проталины от костров, обочины дороги были размочалены следами гусениц. Русанов окончательно убедился, что по дороге шли танки, а тут был привал. Враг делал остановку. И костры разжигать не побоялись, рассчитывали на защиту снегопадов, а также свою отдаленность от линии фронта.
Русанов повел машину вверх, чтобы узнать высоту облаков. Надо было определить, как бомбить и стрелять, если они сейчас найдут что-то. Самолет набрал сто метров и зацепился кабиной за облачную крышу.
«Немного. Для всех штурмовых премудростей всего семьдесят метров».
Настроение летчиков изменилось. Возникла напряженность ожидания встречи с врагом. И встречу не пришлось долго ждать. Впереди показалось черное тело колонны.
– Атакуем по хвосту с выходом влево! Оружие проверить!
Работа танковых и автомобильных моторов заглушила гул авиационных двигателей, пока «илы» выходили на дальность открытия огня, а наблюдатели за воздухом, если они были, просмотрели выскочивших из-за бугристого перелеска штурмовиков. Колонна продолжала свое размеренное движение.
Русанов оглянулся назад. Пошиванов шел сзади и справа на дальности около километра. Все правильно. Можно было заняться врагом. Длинная очередь из пушек, потом две бомбы, и снова под облака… Разворот. Опять вниз. Огонь. Бомбы…
Новый разворот, и новая атака.
Немцы всполошились. И те, сто не обезумел от страха, открыли огонь. Врагу с дороги деваться некуда, кругом глубокие снега.
Самолетная змейка рассекала колонну на части, и места раздела обозначались кострами горящих машин, дымом разрывов бомб.
Русанов добрался до головы колонны и залпом из четырех эрэсов поджег головной танк Теперь колонна была остановлена: хвост, голова и середина горели.
– Пошли на другую дорогу. Посмотрим.
И вторая рокада в этом месте тоже была занята. Но боеприпасы уже кончились, пришлось уходить.
– Атакуем пушками по голове – и домой.
Дорога ощетинилась оружием и трассами-копьями.
Тут уже внезапности не было. А задний ход включить невозможно. Скрестив огненные шпаги с врагом, «илы» «пробрили» над передними танками и, прижавшись к земле, исчезли в сизом, морозном воздухе.
Русанов осмотрелся: идущие с ним целы, на хвосте истребителей не видно.
Облегченно вздохнул, уверовав, что все обошлось.
Вел группу домой и думал, что сегодня на эти колонны многих пошлют. Немцы теперь настороже, погода самая дрянь: ни видимости, ни высоты. Померил несколько раз облачность, но выше двухсот метров нигде не поднялся. Значит, «илы» будут ходить одни, без прикрытия, небольшими группами.
Враг же, если сможет по погоде, «повисит» сейчас над колоннами истребителей.
День обещал сложиться нелегкий…
У сержанта Чернова, шедшего рядом с Пошивановым, сегодня был третий боевой вылет.
Чернов был возбужден. Ему еще не приходилось видеть сразу так близко столько вражеской техники, стрелять в упор и быть уверенным, что сброшенные с высоты пятидесяти метров бомбы, как и бомбы командира, не упали на пустое место. Он сегодня по-настоящему открыл свой боевой счет. К радости удачи, правда, примешивалось и неудовлетворение собой, потому что в период поиска врага, при этом бесконечном петлянии по дорогам, он окончательно заблудился и совершенно не представлял, где и сколько они ходили по чужой территории. Услышав команду «Домой!», он с ужасом поймал себя на мысли, что ему одному домой сейчас не прийти.
«Домой»… Выйдя из последней атаки, он вновь перезарядил пушки и пулеметы, чтобы быть готовым к воздушному бою. «Домой» – это еще не дом. Линия фронта где-то впереди, а через нее могут и не пропустить. Может быть, еще придется «продираться» через истребители и огонь с земли.
Радость победы не могли омрачить даже пробоины на крыле. Самолет его слушался.
Сержант нравился командиру эскадрильи своей стройностью, тонкой и строгой красотой лица, которое украшали высокий открытый лоб и чуть рыжеватые, волнистые волосы. Когда Степан смотрел на этого летчика, ему всегда почему-то думалось, что было бы лучше Чернову быть музыкантом – скрипачом, например. Железный Ил-2 и работа, которой они занимались на войне, никак не хотели в его голове соединяться в единое целое с личностью этого юноши. Но Чернов все делал хорошо. Хорошо летал, был улыбчив и добр к людям, любое дело у него спорилось. Веселый, но не балагур, смелый и вместе с тем не бесшабашный, активный на комсомольских собраниях, любых занятиях, умеющий расспросить, рассказать и спеть – он не любил одиночества, а люди, видимо, чувствуя это, тоже тянулись к нему.