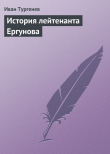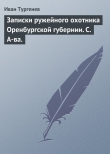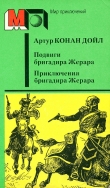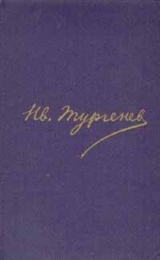
Текст книги "Том 8. Повести и рассказы 1868-1872"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 39 страниц)
В 1872 г. эта повесть была напечатана на немецком языке в Митаве (изд. Behre) и в Вене: в 1872 г. она была под названием «Ein König Lear des Dorfes» включена в VI том немецкого собрания сочинений: Ausgewählte Werke, Bd. VI, и под названием «Ein König Lear des Landes» – сборник «Drei Novellen». Deutsch, von W. A. Polowinoff. Wien; Hartleben. В 1877 г. перевод повести – «Ein König Lear der Steppe», осуществленный В. Ланге (W. Lange), вышел в Лейпциге, изд. Reclam. Так же был озаглавлен и вышедший в 1882 г. в Берлине, изд. Янке (Janke), новый перевод повести А. Герстманна (A. Gerstmann).
На английском языке «Степной король Лир» в начале 1870-х годов издавался трижды. Первое издание – «King Lear of Russian steppes». Pr. Bury Palliser – London Society, 1872, № 131, т. XXII, p. 437–449. Отрывок из этого перевода был перепечатан в «Every Saturday», 1872, № 22, 30 nov., II, p. 608–613. Другой перевод появился в «Living age», № 1491, т. CXVI, 4 янв. 1873, p. 48–57. В Америке в 1872 г. вышел перевод: «A Lear of the Steppe». Southern Magazine, XI, 513, 641.
Степной король Лир. – Слово «степной» в данном контексте могло иметь два значения: 1) Житель степного района, в котором много полей и нет леса (ср. рассказ «Лес и степь» из «Записок охотника»). По содержанию повести Харлов является владельцем рощи, многие эпизоды повести происходят в лесу: в I главе упоминается о встрече Харлова в лесу с медведем, в III главе приводятся слова Харлова о том, что он много французских мародеров «по лесам колачивал», тут же, в описании героя говорится: «землей отдавало от него, лесным дромом, тиной болотной», в главе XXIII этот признак внешности Харлова вторично подчеркнут: «в лесном болоте не так сильно пахнет». Таким образом, Харлов очерчен скорее как «лесной» человек, чем как житель безлесного района. Более соответствует характеристике Харлова иное значение слова «степной». 2) Степной – происходящий из сельской местности, деревни. Характерно, что переводчики повести Тургенева на немецкий язык, очевидно не без консультации с автором, передали именно такой оттенок заглавия «Степной король Лир»: «Ein König Lear des Dorfes» (1872) и «Ein König Lear des Landes» (1872), т. е. «Деревенский король Лир», «Сельский король Лир». В черновом автографе повести «Ася» об одном из ее героев – Гагине говорилось: «от Гагина… так и веяло дворянином, милым, полуизнеженным, степным дворянином» ( Т сб,вып. 4, с. 26). В окончательном тексте повести слова «степным дворянином» заменены на «великорусским дворянином». Тургенев употреблял слово «степной», очевидно, в том же его значении, в котором его употреблял Пушкин (см.: ЛотманЮ. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980, с. 355). Отметим также, что, характеризуя героев поэмы Пушкина «Граф Нулин», В. Г. Белинский определяет помещика – мужа Натальи Павловны – как представителя «истинного типа степного медведя и псаря» ( Белинский,т. 7, с. 427).
…в золотую книгу записался. – «Золотой» родословной книги знатных дворянских родов не существовало. Харлов имеет в виду, быть может, «бархатную книгу» – сборник родословных князей и дворян русских и «выезжих», составленный после указа от 12 января 1682 г. об уничтожении местничества в палате родословных дел.
Темным прозывался великий князь Василий Васильевич. – Великий князь московский Василий II Васильевич (1415–1462) был ослеплен галицким князем Димитрием Шемякой и поэтому прозван Темным.
…новиковского «Покоящегося трудолюбца»… – Журнал «Покоящийся трудолюбец» издавался Н. И. Новиковым в Москве в 1784–1785 гг. Фактическим редактором его был М. И. Антоновский. Всего вышло четыре части. Участниками журнала были студенты и профессора Московского университета, в своем большинстве масоны. Ряд статей и стихотворений журнал посвятил философско-мистическим рассуждениям о смерти и бессмертии.
«Но че-ловек страстный – меня счас-тливым!» и т. д. – Цитата из статьи: «Рассуждения о беспорядках, производимых страстями в человеке, и о средствах, какие в таких случаях употреблять должно» (см. сноску Тургенева на с. 165). Раздел статьи, из которого, приведена цитата, посвящен разоблачению гордости как пагубной страсти. Автор призывает гордого человека к смирению во имя нравственного усовершенствования.
Попалась ему как-то картинка, изображавшая горящую свечу – «Такова жизнь человеческая!»– Изображения, подобные описанному здесь Тургеневым, в большом количестве содержались в книге Н. М. Амбодика «Емблемы и символы избранные, на российский, латинский, французский, немецкий и английский языки преложенные». СПб., 1811 г. Книга эта имелась в библиотеке Спасского и в детстве произвела огромное впечатление на Тургенева (см. письмо к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову от 3, 8 (15, 20) сентября 1840 г.; см. также наст. изд., т. 6, с. 39–40). Отдельные элементы описанной Тургеневым картины (свеча, символические фигуры с надутыми щеками – «ветры») много раз повторяются в книге Амбодика, но композиция в целом, как и подпись к ней, очевидно, составлена самим Тургеневым по образцу композиций Амбодика. Пародия на подобные композиции и на подписи к ним содержится и в письме Тургенева к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову от 3, 8 (15, 20) сентября 1840 г.
…проваживал по двору моего клеппера… – Клеппер – лошадь эстонской породы – см. наст. изд., т. 4, с. 644.
…заснул! И вижу, будто в комнату ко мне вбег вороной жеребенок – Это мне предостережение… К смерти моей значит… – В эпизоде сна Харлова и в реакции героя на этот сон отразилось народное поверье: «Если больной бредит дорогой (о дороге, о конях), то умрет» ( Даль,т. 2, с. 155).
…первый по губернии масон. – Масонские ложи в России были закрыты в 1822 г. Несмотря на запрещение, в ряде мест они продолжали действовать. В 1826 г. запрещение было повторено, но и это не прекратило деятельности масонов в Москве и провинции (см.: ПыпинА. Н. Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в. Пг., 1916, с. 454 и 532).
…отставного штык-юнкера… – Штык-юнкер – младший офицерский чин в артиллерии, соответствовавший прапорщику в пехоте.
Рукою властной! – Старинное юридическое выражение, означающее «собственноручно» (властный – собственный в западно-славянских языках). Харлов, по-видимому, понимает его буквально, производя от слова: «власть».
…на «Страшном судилище» Микель-Анжело… – Речь идет о росписи алтарной стены Сикстинской капеллы, картине «Страшный суд», написанной Микеланджело Буонарроти в 1536–1541 гг. Картина представляет собой огромную композицию, заключающую множество мощных человеческих тел, чрезвычайно динамичных и напряженных.
…он, по слухам, был при Потемкине «валторщиком»… – Князь Г. А. Потемкин умер в 1791 г., т. е. более чем за 40 лет до описываемых в повести событий. «Валторщик» – оркестрант, игравший на валторне – духовом инструменте, сходном по внешнему виду и звуку с охотничьим рогом и применявшемся в домашних оркестрах богатых помещиков.
К Митрофанию съездишь… – Митрофаний – воронежский епископ; по смерти (1703) причислен к лику святых. К мощам его в Воронеже совершались паломничества.
…в Оптину пустынь… – Оптина-Введенская Макариева пустынь, мужской монастырь в Калужской губернии.
«Смерть есть важная и великая работа натуры ~духовного себе места…» и т. д. – Цитируемые строки заимствованы из опубликованной в т. III «Покоящегося трудолюбца» статьи: «Письмо с того света в Москву от Мумиага к сыну малыя земли Муравью, живущему в Муравейнике». В статье этой сделана попытка объяснить соотношение материального и духовного начал в жизни человека и истолковать проблему бессмертия души с масонских позиций.
Талагаю-то этому? – Талагай – лентяй, шатун, тунеядец.
…на лице одного к смерти приговоренного. – Имеется в виду Тропман – убийца, на казни которого в Париже Тургенев присутствовал 7 (19) января 1870 г. Это событие описано им в очерке «Казнь Тропмана» ( ВЕ,1870, № 6, с. 872–890). Здесь Тургенев упоминает об улыбке удовольствия, появившейся на лице Тропмана, когда с него перед казнью сняли тяжелый тюремный камзол.
Али закон вспомнил – властен всё назад потребовать? – Слова эти являются сокращенной и несколько стилистически переработанной цитатой из выписки «Правила из узаконений. Дарение», сделанной не рукою Тургенева (может быть, по его просьбе Н. А. Кишинским) и хранящейся в Bibl Nat(Slave 76, фотокопия – ИРЛИ,Р. I, оп. 29, № 229). В разделе «Уничтожение дарения» третий пункт гласит: «Если принявший дар учинит покушение на жизнь дарителя, причинит ему побои или угрозы, оклевещет его в каком-либо преступлении или вообще окажет ему явное непочтение, то даритель имеет право требовать возвращения подаренного».
…продольный верхний брус крыши, конек… – В сне Харлова, предвещающем гибель (явление жеребенка), и в самой смерти героя при разрушении крыши отразились старинные поверия о снятии потолочной матицы или «конька» на крыше для ускорения смерти хозяина дома (см.: АлексеевМ. П. К Сну Святослава в «Слове о полку Игореве». – В кн.: Слово о полку Игореве. / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: АН СССР, 1950, с. 246–247).
…размежевание чересполосицы… – В 1836 г. в губернских и уездных городах были учреждены специальные посреднические комиссии для проведения в трехгодичный срок добровольных соглашений по разделу чересполосных земельных угодий (см.: Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе, № 8763). Размежевания эти обычно проходили с большими трениями и конфликтами. Тургенев воспользовался комическими ситуациями, возникавшими при размежеваниях, для своей пьесы «Завтрак у предводителя» (см. наст. изд., т. 2, с. 623–624).
Стук… стук… стук!
Источники текста
Беловой автограф. Отрывок. 2 с. Хранится в Bibl Nat,Slave 76; описание см.: Mazon,p. 79; фотокопия – ИРЛИ,Р. I, оп. 29, № 222.
ВЕ,1871, № 1, с 50–75.
Т, Соч, 1868–1871,ч. 8, с. 149–182.
Т, Соч, 1874, ч. 7,с. 141–172.
Т, Соч, 1880, т. 9,с. 1–35.
Т, ПСС, 1883,т. 9, с. 1–36.
Впервые опубликовано: ВЕ,1871, № 1, с подзаголовком «Студия» и подписью: Ив. Тургенев.
Печатается по тексту Т, ПСС, 1883.
Рассказ был написан в августе-сентябре 1870 г. под впечатлением летнего пребывания в России. 3 (15) сентября 1870 г. Тургенев писал из Баден-Бадена П. В. Анненкову: «У меня находится совсем готовый и переписанный рассказ, которым я разрешился в течение месяца. Его можно было бы поместить в „Вестнике Европы“ за будущий год».
Однако затем писатель продолжил работу над рассказом. В письмах от 4 (16) октября и 3 (15) ноября 1870 г. Тургенев сообщал М. М. Стасюлевичу, что переписанный рассказ отправлен им в Петербург Анненкову для вручения его редактору «Вестника Европы». Анненков должен был, несомненно, служить не просто посредником, передающим рукопись, но, как всегда, первым критиком и редактором нового произведения. К нему в не меньшей степени, чем к Стасюлевичу, была обращена просьба оценить качество «студии», которую следовало печатать, «…если она окажется пригодной…» Решало в данном случае мнение Стасюлевича – редактора журнала. Стасюлевичу рассказ явно понравился больше, чем Анненкову. Анненков относил «Стук… стук… стук!..» к числу «слабых вещей» Тургенева (см. письмо Анненкова к Стасюлевичу от 1 мая 1871 г. – Стасюлевич,т. 3, с. 298).
Собираясь отправить рассказ в Россию, Тургенев торопил Стасюлевича с его публикацией и ссылался на то, что этот рассказ должен войти в дополнительный том его сочинений, издаваемых Силаевым. Просьба эта была повторена после отправления рассказа (см. письма Тургенева Стасюлевичу от 4 (16) октября и 3 (15) ноября 1870 г.). Стасюлевич отнесся с большим вниманием к пожеланиям автора рассказа. Он напечатал, согласно просьбе Тургенева, «Стук… стук… стук!..» в № 1 своего журнала за 1871 г. Вскоре этот рассказ появился в 8-й, дополнительной, части издания сочинений писателя, где он был перепечатан без каких-либо изменений. Рассказ не отнял у писателя много времени и усилий. Недаром работу над ним он характеризовал в письме к И. П. Борисову от 1 (13) октября 1870 г. словами: «…а я пока настрочил другой небольшой рассказец, под заглавием „Стук… стук… стук!..“». И добавлял: «Тоже воспоминание молодости», объединяя таким образом в отношении источника сюжета «Стук… стук… стук!..» со «Степным королем Лиром».
Обстоятельства жизни Риделя, охарактеризованные в зачине рассказа («Я расскажу вам, господа, историю, случившуюся со мной в тридцатых годах < …> Я жил тогда в Петербурге – и только что вышел из университета. Мой брат служил в конной гвардейской артиллерии прапорщиком»), носят автобиографический характер. В тридцатых годах Тургенев был студентом Петербургского университета (1834–1837). Брат его в это время служил в гвардейской конной артиллерии. М. П. Алексеев в своей статье «Тургенев и Марлинский», сопоставляя Теглева с героем раннего рассказа Тургенева «Похождения подпоручика Бубнова» – офицером, погибающим от скуки и душевной пустоты, любимым размышлением которого было, «что бы он стал делать, если б он был Наполеон», предполагает, что оба образа имеют один реальный прототип ( Творч путь Т,с. 195–196). Однако не только непосредственные впечатления русского быта, не только охватившие писателя во время посещения России воспоминания, но важнейшие литературные и общественные проблемы эпохи составили главный смысл этой «студии» Тургенева и определили родственность ее с наиболее серьезными замыслами и произведениями писателя второй половины 1860-х годов.
Герой рассказа «Стук… стук… стук!..» – Теглев, фанатично верящий в «судьбу» и, вопреки логике и разуму, убежденный в своем высшем предназначении, по существу своего характера близок к старообрядческим вождям и сектантским пророкам, психология которых занимала писателя во время его работы над замыслом романа о Никите Пустосвяте, над «Странной историей» и «Степным королем Лиром». Суеверия, которые владеют душой Теглева, не имеют ничего общего с религиозным фанатизмом. Это иная религия, возникающая на той же почве темноты, подавления личности и порожденного ими непомерного властолюбия, которая питает, по мнению писателя, деятельность «столпов древнего благочестия». Непоколебимая вера в свою «фатальную» значительность, непомерные притязания при отсутствии гуманного, подлинно глубокого содержания личности представлялась Тургеневу общественно опасным свойством, получающим особенное распространение в реакционные эпохи. Таким образом, рассказ «Стук… стук… стук!..» создавался под настроениями, близкими к тем, которыми отмечен роман «Дым». В этом рассказе художественное воссоздание характерных для русской жизни определенного периода черт действительности сочеталось с изображением явлений, имеющих общеевропейское значение. Рисуя тип человека, безгранично верящего в свою звезду, готового к решительным действиям и мечтающего о карьере Бонапарта, но совершенно лишенного какого-либо содержания, Тургенев не мог полностью отвлечься от впечатлений европейской политической жизни. Обострение европейских политических конфликтов, приведших к франко-прусской войне, полной дискредитации, а затем к падению ненавистного ему режима Наполеона III, очевидно, возбудило с новой силой в сознании писателя презрение ко всякого рода «Наполеонам маленьким».
С социально-психологическими проблемами, поставленными в рассказе, были непосредственно связаны литературные вопросы, о которых Тургенев говорил устами своего героя – Риделя столь декларативно, что сам счел необходимым смягчить категоричность выраженной здесь мысли фразой героя: «Но, однако, довольно философствовать». Говоря об общественном значении творчества Марлинского и относя его влияние к строго определенной эпохе – к тридцатым годам («он даже – что гораздо труднее и реже встречается – до некоторой степени наложил свою печать на современное ему поколение»), Тургенев рассматривал его как писателя безнадежно устаревшего («никто его не читает – и даже над именем его глумятся» – с. 228). Однако выяснение исторического и психологического смысла увлечения идеалом сильной «фатальной» личности, предопределившего успех Марлинского в тридцатых годах, Тургенев считал актуальным. «Марлинизм» он рассматривал как ложное искусство, заменяющее внутреннее содержание внешними эффектами. Абсолютизация художественной манеры К. Брюллова, которая рассматривалась в академических кругах как некий эталон прекрасного, образец высокого искусства, представлялась Тургеневу явлением, препятствующим развитию живописи; говоря о Брюллове, он постоянно вспоминает о Марлинском как близком к Брюллову по стилю писателе. Так, например, сочувствуя А. А. Иванову в его идейных и творческих исканиях, Тургенев выражал в письме к П. В. Анненкову от 31 октября (12 ноября) 1857 г. надежду, что суровое и глубокое искусство Иванова «подаст знак к противодействию Брюлловскому марлинизму».
Обращение Тургенева к вопросу оценки деятельности Марлинского могло быть продиктовано оживлением общественного интереса к этому писателю и его необычайной судьбе. М. И. Семевский предпринял в шестидесятых годах публикацию писем и биографических материалов А. А. Бестужева-Марлинского. В «Отечественных записках» (1860, №№ 5–7) были напечатаны 96 писем Бестужева и библиография его произведений; в 1861 г. в том же журнале Семевский продолжает публикацию материалов, связанных с изучением литературной деятельности Бестужева, а К. А. Полевой печатает 58 писем Бестужева в «Русском вестнике» (кн. 3 и 4). В 1870 г. в «Русском вестнике» (№№ 5–7) печатается 73 письма Бестужева с Кавказа (публикация Семевского). Личность Бестужева привлекала к себе внимание и симпатию как образ «благороднейшего и даровитого деятеля из кружка декабристов» [210]210
Стасюлевич,т. 2, с. 287.
[Закрыть].
Тургенев не отрицал этой стороны дела, но горячо отстаивал правоту Белинского, ниспровергшего литературный авторитет Бестужева-Марлинского, и не уставал разъяснять историческое значение выступления Белинского против марлинизма. Еще в 1857 году он спорил с А. В. Дружининым, который пытался пересмотреть в числе других принципиальных положений критики Белинского его отношение к Марлинскому. 16, 23 декабря 1856 г. (28 декабря 1856 г., 4 января 1857 г.) в письме к Л. Н. Толстому Тургенев объяснял значение борьбы против марлинизма, открывшей путь для развития реалистической литературы: «Дело шло о ниспровержении целого направления, ложного и пустого < …> Пока этот авторитет признавался – нельзя было ожидать правильного и здравого развития нашей словесности – и благодаря той статье Б<елинского> о Марлинском < …> мы пошли вперед». Осуждая не личность Бестужева, а направление, к которому он принадлежал как писатель, Тургенев сделал героем рассказа «Стук… стук… стук!..» пошлого маленького офицера, черпающего в «марлинизме» формы для утверждения своих непомерных, не имеющих никаких оснований претензий.
Характеризуя тип «фатальных» героев и говоря о сложной смеси, образующей их характеры, Тургенев не наделил своего героя высокими чертами, характеризовавшими людей типа Бестужева («воспоминания о французской революции, о декабристах», «действительная сила и отвага»). Теглеву присуща лишь другая сторона комплекса, образующего тип «фатального» человека: «обожание Наполеона; вера в судьбу, в звезду, в силу характера, поза и фраза – и тоска пустоты». Повторяя некоторые ситуации «Героя нашего времени» Лермонтова (фокус с картами, утвердивший за Теглевым «репутацию таинственного, фатального человека», напоминает опыт Вулича со стрельбой из пистолета), Тургенев сразу подчеркивает: «он <Теглев> < …> нисколько не походил на лермонтовского „фаталиста“».
Тургенев не был склонен преувеличивать значение своего небольшого рассказа, зачастую отзываясь о нем в полушутливом, уничижительном тоне (см., например, его письма к П. В. Анненкову от 16 (28) октября и 11 (23) ноября 1870 г.). Однако его живо интересовали отзывы друзей о новой его работе. Мнение Анненкова, вскоре ставшее известным Тургеневу, не могло успокоить писателя, – Анненков отрицательно отнесся к «Стук… стук… стук!..» Однако постоянный советчик Тургенева не стал противиться опубликованию рассказа (Тургенев дал ему это право). Мало того, он выразил Стасюлевичу, одобрившему рассказ, свое согласие на перевод его на французский язык. 1 (13) мая 1871 г. он писал редактору «Вестника Европы»: «О переводе „Стука“ на французский диалект я думаю и не списываясь с Тургеневым то же, что и Вы, – пускай переводят, тем более, что слабые вещи Тургенева на вкус русской публики оказываются хорошими на вкус французской: témoin <свидетель> „Капитан Ергунов“» ( Стасюлевич,т. 3, с. 298). Речь шла о переводе рассказа на французский язык для французской петербургской газеты «Journal de St. Pétersbourg». Перевод этот был осуществлен Э. Дюраном и напечатан (1871, №№ 183–185). Тургенев не возражал Анненкову, хотя, по-видимому, не разделял его мнения, что рассказ «Стук… стук… стук!..» – слабая вещь. Во всяком случае, впоследствии, в письмах к А. П. Философовой и С. К. Брюлловой, он настаивал на значительности своего замысла, раскрывал те психологические и типологические задачи, которые перед собою ставил. «Вы говорите о разных моих незначительных безделках, – возражал он в письме от 4 (16) января 1877 г. С. К. Брюлловой – талантливому молодому педагогу, автору статьи о романе „Новь“, – упоминаете между прочим о „Стук… стук…“. Представьте, что я считаю эту вещь не то, чтоб удавшейся – исполнение, быть может, недостаточно и слабо – но одной из самых серьезных, которые я когда-либо написал. Это студия самоубийства, именно русского современного, самолюбивого, тупого, суеверного – и нелепого, фразистого самоубийства – и составляло предмет столь же интересный, столь же важный, сколь может быть важным любой общественный, социальный и т. д. вопрос». Это объяснение Тургенева, видимо, повлияло на Брюллову. В своей статье о «Нови» среди незначительных, по ее мнению, произведений Тургенева 1870-х годов она не упоминает «Стук… стук… стук!..» [211]211
См.: БудановаН. Ф. Статья С. К. Брюлловой о романе «Новь». – Лит Насл,т. 76, с. 277–315.
[Закрыть]. Ту же мысль о социальном значении психологической «студии», предпринятой в рассказе «Стук… стук… стук!..», Тургенев развивал в письме к А. П. Философовой от 18 (30) августа 1874 г. Таким образом, отношение писателя к этому рассказу оставалось неизменным в течение ряда лет.
Немногочисленные критические отзывы о «Стук… стук… стук!..» вряд ли могли удовлетворить писателя. Наиболее обстоятельный анализ этого произведения был дан Н. Н. Страховым. Следуя своей обычной почвеннической концепции, Страхов усматривал в рассказе Тургенева неудовлетворенность прозаичностью русского быта, «раздражительное недовольство нашим народным характером» ( СтраховН. Последние произведения Тургенева. – Заря, 1871, февраль. Критика, с. 27). Именно с этим «раздражительным недовольством» слишком «зажившегося» за границей Тургенева Страхов связывает возникновение образа Теглева и вообще весь замысел рассказа. «В „Стук… стук… стук!..“ выставлен пошлый, тупой, неуклюжий и бездушный офицер, который вздумал разыгрывать из себя героя. Ни в нем самом, ни вокруг него нет ничего героического, необыкновенного, способного возбудить и питать фантазию. Но он выдумывает, сочиняет себе несчастия, действия судьбы, чудесные явления. Эти безмерно-упрямые попытки подняться в идеальный мироканчиваются тем, что герой убивает себя без всякой на то причины, единственно из желания выдержать роль рокового человека. Тут изображен контраст между низменною и тупою натурою и идеальными стремлениями. Вот как русские люди иногда пытаются быть героями! Они не имеют на это ни прав, ни способностей», – писал Страхов (там же, с. 29).
В. П. Буренин, развивая впоследствии такую же точку зрения на «Стук… стук… стук!..», утверждал, что она близка к оценке рассказа самим автором ( БуренинВ. П. Литературная деятельность Тургенева. СПб., 1884, с. 203–204).
На самом деле такое истолкование было не только далеко, но и во многом противоположно точке зрения Тургенева на рассказ и, что важнее всего, идеям, выраженным Тургеневым в самом рассказе. Теглев кончает с собою не для того, чтобы «выдержать роль рокового человека», а потому, что искренне верит в эту свою роль, в свою исключительность. Если самоубийство Теглева Тургенев и считал явлением типичным для современной русской жизни, то самый тип, очерченный в этом рассказе, выходил за рамки исключительно русского общества. В том же письме к А. П. Философовой от 18 (30) августа 1874 г., где дается истолкование рассказа «Стук… стук… стук!..», Тургенев резко отделяет юношей, претендующих на звание «новых людей», но повинных «в скудости мысли, в отсутствии познаний и, главное, в бедности, в нищенской бедности дарований», от «молодых людей с мнениями гораздо более резкими, с формами гораздо более угловатыми», но в которых ощущается «действительное присутствие силы, и таланта, и ума». Утверждение, что Тургенев не признавал возможности подлинно героических характеров и поступков в русском обществе, которое лежит в основе суждения Страхова о рассказе «Стук… стук… стук!..», принадлежит к числу тех неосновательных обвинений русской критики и публики в адрес Тургенева, которые заставили его в том же письме к А. П. Философовой напомнить: «Ни за одну строчку, написанную мною, мне не приходилось краснеть…»
В сентябре 1871 г. Людвиг Пич предложил Тургеневу осуществить перевод «Стук… стук… стук!..» с французского (из «Journal de St. Pétersbourg») на немецкий язык. В ответном письме от середины сентября ст. ст. Тургенев выразил свое удовлетворение французским переводом Э. Дюрана и просил Пича в случае, если его перевод состоится, прислать ему корректуру на просмотр. Пич, очевидно, не осуществил своего намерения. В 1872 г. рассказ появился под названием «Poch, Poch, Poch!» в немецком переводе в «Sonntagsblatt» (1872, №№ 4–6). В том же году немецкий перевод «Стук… стук… стук!..» вышел под заглавием «Fatalist» («Фаталист») – в Вене, в сборнике новелл Тургенева, переведенных Половиновым ( Turgenev. Drei Novellen. Deutsch von W. A. Polowinoff). В сборник новелл Тургенева «Vier Erzählungen» (Leipzig, 1882) рассказ вошел под названием «Tuck! Tuck! Tuck!». Французский перевод появился в сборнике «Etranges histoires» (Paris, 1873, Hetzel) под заглавием: «Toc… toc… toc». В 1874 г. рассказ был напечатан и на датском языке («Fatalisten», Paa Dansk. V. Møller, II Bd. – В кн.: Fortaellinger og Skitser. Kjøbenhavn, 1874).
Марлинский теперь устарел – но в тридцатых годах он гремел… – Сведения об увлечении Марлинским в 1830-х годах, а также подробный анализ творческой истории рассказа «Стук… стук… стук!..» и отзывов критики о нем см.: АлексеевМ. П. Тургенев и Марлинский. – Творч путь Т,с. 167–201. В письме к Л. Н. Толстому от 16 (28), 23 декабря 1856 г. (4 января 1857 г.), характеризуя степень увлечения молодежи 1830-1840-х годов Марлинским, Тургенев признавался: «…знаете ли Вы, что я целовалимя Марлинского на обертке журнала – плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова – и пришел в ужасное негодование, услыхав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку?» Критические выступления Белинского разрушили авторитет Марлинского.
…как лейтенант Белозор «Фрегата Надежды». – Тургенев смешал здесь два произведения Марлинского – «Лейтенант Белозор» (главный герой Белозор) и «Фрегат Надежда» (главный герой Правин). Не исключено, что эта ошибка допущена сознательно, как подтверждение слов Риделя о том, что Марлинского никто не читает.
Вспомнились мне слова шута в «Короле Лире»: «Эта ночь нас всех с ума сведет, наконец…»– «Король Лир» Шекспира, д. III, сцена 4.
…доставить важному лицу, командовавшему тогда всем гвардейским корпусом… – Командиром гвардейского корпуса с 1826 по 1844 г. был великий князь Михаил Павлович. В сокращении «Ваше в-ство» подразумевается: «Ваше высочество». Письменное обращение к великому князю не по форме: «Вот, Ваше в<ысоче>ство» (вместо «Ваше императорское высочество») – было величайшей дерзостью.
Наполеон умер 5-го мая 1825 года. – Дата смерти Наполеона у Теглева неверна: Наполеон умер 5 мая 1821 г.
…не оттого ли он и пошел в артиллеристы? – Наполеон начал свою карьеру офицером артиллерии.