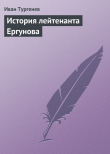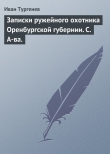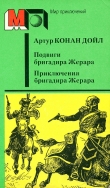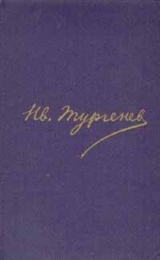
Текст книги "Том 8. Повести и рассказы 1868-1872"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 39 страниц)
Тургенев не сразу решился означить правильной начальной буквой фамилию профессора, пользовавшегося широкой известностью в то время, когда писалась повесть. В черновом и беловом автографах его имя было обозначено буквой «М».
Дает мне пять синеньких в месяц… – Синенькая – ассигнация достоинством в 5 рублей.
…мусикийским орудием… – музыкальным инструментом (мусикия – старинная форма слова «музыка»).
…знаменитая Ф-мольная соната, opus 57.– Соната Бетховена «Аппассионата» (1804).
…и все они перед покойным Фильдом – тьфу! Нуль, зеро!! Das war ein Kerl! Und ein so reines Spiel! – Джон Фильд – преподаватель музыки в Петербурге и Москве, пианист-виртуоз и композитор. Умер в 1837 г.: вкладывая в уста Ратча в 1835 году слова о Фильде как о «покойном», Тургенев допускает анахронизм.
…собрались идти в театр смотреть Щепкина в «Горе от ума». – «Горе от ума» впервые было поставлено 27 ноября 1831 г. в Москве в Малом театре. М. С. Щепкин играл Фамусова.
Мы много хлопали Фамусову, Скалозубу. – Роль Скалозуба в первых спектаклях Малого театра с большим успехом исполнял И. В. Орлов.
Не помню, какой актер исполнял роль Чацкого – как на нашем старом дворецком. – Роль Чацкого исполнял П. С. Мочалов и не имел успеха. Современная критика отмечала: «Г-н Мочалов, казалось, рожденный для роли Чацкого, выполнил ее очень неудовлетворительно. Он представлял не светского человека, отличного от других только своим взглядом на предметы, а чудака, мизантропа, который даже говорит иначе, нежели другие» (Московский телеграф, 1831, № 5, с. 130).
…бал в третьем акте привел нас в восхищение – публика заливалась смехом. – Постановка бала у Фамусова в спектакле «Горе от ума» 1831 г., выдержанная в карикатурно-комедийном стиле, произвела большое впечатление на зрителей (см.: ФилипповВ. А. Ранние постановки «Горя от ума». – Лит Насл,т. 47–48, с. 316).
…пахнет амброй… – О моде на употребление амбры в качестве ароматического и тонизирующего средства во Франции в XVIII в. см. наст. изд., т. 6, с. 419.
Я читала ему французские сочинения прошлого столетия, мемуары Сен-Симона, Мабли, Реналя, Гельвеция, переписку Вольтера, энциклопедистов… – Речь идет о публицистических произведениях деятелей французского Просвещения – прогрессивных философов и литераторов XVIII в. Сен-СимонЛуи де Рувруа – герцог (1675–1755); его мемуары за их антиабсолютистскую направленность были конфискованы при Людовике XV. МаблиГабриель Бонно (1709–1785) – утопический социалист XVIII века, критиковавший феодальные и буржуазно-собственнические отношения. РенальГийом (1713–1796) – историк, близкий к энциклопедистам; резко критиковал церковь и абсолютизм. Наиболее известное его произведение: «Философия и политическая история о заведениях и коммерции европейцев в обеих Индиях» (1770, 6 томов). ГельвецийКлод Адриан (1715–1771) – философ-материалист. Особенно значительны его труды «Об уме» (1758) и «О человеке, его умственных способностях и его воспитании» (1773). Антиклерикализм и материализм произведений Гельвеция, выраженные в них освободительные идеи делали их ненавистными идеологам реакции. Трактат «Об уме» был сожжен рукою палача. ВольтерФрансуа Мари Аруэ (1694–1778) – крупнейший деятель Просвещения, поэт, философ, историк, публицист. Говоря о его переписке, Тургенев разумеет, возможно, «Lettres de M. de Voltaire à ses amis de Parnasse. Avec des notes historiques et critiques». Genève, MD CCLXI.
Энциклопедисты– передовые, либерально или революционно настроенные писатели, философы и ученые, объединившиеся в конце XVIII века вокруг издания «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», предпринятого Д. Дидро. Участие в этом труде принимали: Вольтер, Гельвеций, Гольбах, Ж.-Ж. Руссо. Все перечисленные книги сохранились в родовой библиотеке Тургенева в Спасском-Лутовинове. См.: БогдановыЛ. Я. и Б. В. Родной край в произведениях И. С. Тургенева. М.: Сов. писатель, 1959, с. 41.
…помнил Марию Антуанету, получил приглашение к ней в Трианон… – Мария Антуанетта (1755–1793) – французская королева, жена Людовика XVI; после свержения монархии, в 1793 году, казнена по приговору Революционного трибунала. Безумная роскошь, которой она себя окружала, возбуждала удивление богатых и знатных путешественников и возмущение представителей третьего сословия французского общества. Трианон – павильон в парке загородного дворца французских королей в Версале.
…видел и Мирабо – «en dépit de sa naissance!»– Мирабо Оноре Габриэль Рикетти (1749–1791), граф по происхождению, один из наиболее одаренных ораторов французской революции, противник абсолютизма. Еще в отрочестве Тургенев учился французскому языку по речам Мирабо. Внешний облик Мирабо также прочно вошел в его сознание. Он сравнивал с ним своих современников (см. письма к Н. В. Станкевичу от 15 (27) апреля 1840 г. и Грановскому от 18 (30) мая 1840 г.).
…у герцогини Полиньяк. – Герцогиня Полиньяк Иоланта Мартина Габриела Поластрон – старшая статс-дама Марии Антуанетты.
Digne de M. de Saint-Aulaire! – Сент-Олер Франсуа Жозеф (1643–1742) в шестьдесят лет стал писать стихи, пользовавшиеся большим успехом в аристократической среде. С 1706 г. член Французской академии. Был знаменит как устроитель великосветских празднеств и автор изящных экспромтов.
Дульетка– душегрейка (от франц. douillet). Cyncon– капелька, немножко (от франц. soupçon).
…считал Штейбельта великим гением… – Штейбельт Даниил (1769–1823) – немецкий пианист и весьма посредственный композитор.
…«mon Antigone». – Антигона – дочь царя Эдипа; после самоослепления Эдипа была его поводырем и опорой в изгнании (греческая мифология).
…c’est Montesquieu qui a dit cela dans ses «Lettres Persanes»? – «Персидские письма» Шарля Монтескье (1689–1755) – один из лучших образцов сатирической антифеодальной литературы французского Просвещения XVIII века.
…les théophilantropes ont eu pourtant – Leur fondateur, l’instigateur de cette secte, ce La Reveillère – ils ont du bon! – «Теофилантропия» – религиозно-этическое учение, возникшее во Франции в 1792–1793 годах. Теофилантропы противопоставляли идею «естественного религиозного чувства» человека рационалистическому культу верховного существа, введенному во Франции Робеспьером. Расцвет деятельности теофилантропов приходится на эпоху Директории, когда в Париже, в ряде церквей, происходили их религиозные церемонии и чтения. В 1801 г. деятельность теофилантропов была запрещена. Ла Ревельер-Лепо Луи Мария (1753–1824) – французский политический деятель, ученый и писатель. Как член Конвента голосовал за казнь Людовика XVI. Принципиальный республиканец и антироялист. Будучи последователем Руссо, Ла Ревельер-Лепо высказывался за создание новой религии и стал руководителем и теоретиком теофилантропов.
…покойный фельдмаршал Каменский… – Генерал-фельдмаршал граф М. Ф. Каменский (1738–1809); был убит в своем орловском имении крепостными.
…надеялся получить Александровскую ленту – а ему дали табатерку. – Александровская лента – лента ордена Александра Невского, одного из высших русских орденов. Табакерка– ценный царский подарок, полуофициального характера.
…«исполнитель» (любимое тогдашнее слово), «Аракчеев!»– Аракчеев А. А. (1769–1834) – временщик Александра I; оказывал огромное влияние на все государственные дела, но постоянно декларировал свою личную преданность царю и свою готовность быть лишь «исполнителем» его воли; «исполнителем» называет себя один из персонажей повести Тургенева «Степной король Лир» – отставной армейский офицер «аракчеевской школы» Житков.
Я полюбила Мишеля… – Имя «Мишель» имело для Тургенева, по его собственному признанию, особое значение. В пору, когда вопрос об официальном усыновлении им его побочной дочери Полины не был еще решен, Тургенев предполагал дать ей фамилию «Мишель» (см. письмо Тургенева Полине Виардо от 4 (16) декабря 1850 г.). Имя «Мишель», очевидно, было связано у писателя с воспоминаниями о друге ранней юности Михаиле Фиглеве. Характеризуя Мишеля Фиглева, юный Тургенев утверждал, что его друг «весь создан для этой жизни» (наст. изд., т. 1, с. 403). Однако Михаил Фиглев умер в молодом возрасте.
…играла сонату Вебера… – Вебер Карл Мариа Фридрих Эрнст (1786–1826) – немецкий композитор, романтик, автор многочисленных опер, фортепьянных и инструментальных произведений. Будучи пианистом-виртуозом, он создал концерт и шесть сонат, требующих от исполнителя высокой техники.
…на широком кожаном диване во вкусе «империи»… – Разумеется стиль ампир, получивший распространение во Франции при Наполеоне I. В архитектуре и прикладном искусстве, в частности в мебели, стиль этот характеризовался сочетанием строгих геометрических линий со скульптурой, барельефами и другими богатыми украшениями, характерными для позднеримского искусства.
Я стала расставлять шашки… – В данном случае речь идет о шахматных фигурах. Ср. пояснение слова «шахматы» в словаре Даля: «Игра на шахматной, шашечной доске, тавлее, шашками разного именованья и значенья, и самые шашки эти, от короля до пешки» ( Даль,т. 4, с. 624).
…я не Айвенго; я знаю, что не с леди Ровеной счастье». – Герой романа Вальтера Скотта «Айвенго», молодой рыцарь, предпочел смелой и прекрасной еврейке Ревекке, самоотверженно любившей его, холодную и безличную знатную невесту Ровену.
…и в руках его лист «Инвалида» и там известие о смерти гвардии ротмистра Михаила Колтовского… Исключен из списков. – «Русский инвалид» – газета военного министерства (основана в 1813 г.); в ней печатались официальные известия и приказы по военному ведомству.
…на моем ночном столике очутилось сочинение де Жерандо, развернутое на главе«О вреде страстей». – Французский философ Мари Жозеф Дежерандо (1772–1842) ценился в России с начала XIX века до конца первой его трети как философ, моралист и педагог. Его труды, в частности работа «О моральном усовершенствовании, или О самовоспитании» (1824), служили в некоторых учебных заведениях одним из обязательных пособий при изучении философии. Книга эта находилась в библиотеке Тургенева. Ни одна из глав книги не носит названия «О вреде страстей», но во многих говорится о подчинении чувства рассудку.
…для контенанса(от франц. contenance – осанка, поведение, выдержка) – для вида, для соблюдения внешней выдержки.
«Мы живем среди полей!»– Начальная строка хора цыган из оперы А. Н. Верстовского (либретто М. Н. Загоскина) «Пан Твардовский», впервые поставленной в Москве 24 мая 1828 г. в Большом театре. Эта песня напечатана отдельно в кн.: Драматический альманах для любителей и любительниц театра (СПб., 1828, с. 133–134) и стала очень популярной.
Но и над брошенной могилой… – Тургенев приводит по памяти строфу из середины стихотворения Н. В. Станкевича «На могиле Эмилии», напечатанного в альманахе «Денница» на 1834 год. В подлиннике текст строфы, использованный Тургеневым, имеет следующий вид:
Но над печальною могилой
Не смолкнул голос клеветы,
Она терзает призрак милый
И жжет надгробные цветы.
( СтанкевичН. В. Стихотворения. Трагедия. Проза. М., 1890, с. 41).
Странная история
Источники текста
Черновой автограф. 69 с. Хранится в отделе рукописей Bibl Nat,Slave 76; описание см.: Mazon,p. 78; фотокопия – ИРЛИ,Р. I, оп. 29, № 220.
Беловой автограф. 22 с. Хранится в отделе рукописей Bibl Nat,Slave 76; описание см.: Mazon,p. 78; фотокопия – ИРЛИ,Р. I, оп. 29, № 338.
ВЕ,1870, № 1, с. 66–85.
Т, Соч, 1868–1871,ч. 8, с. 5–32.
Т, Соч, 1874,ч. 7, с. 5–30.
Т, Соч, 1880,т. 8, с. 241–268.
Т, ПСС, 1883,т. 8, с. 256–284.
Впервые опубликовано: ВЕ,1870, № 1, с подписью: Ив. Тургенев.
Печатается по тексту Т, ПСС, 1883со следующими исправлениями по другим источникам:
Стр. 146, строка 9:«решительно ничто не могло» вместо «решительно ничего не могло» (по червовому и беловому автографам, ВЕи Т, Соч, 1868–1871).
Стр. 157, строки 18–19:«Остановить ее силой» вместо «Остановить ее самоё» (по черновому и беловому автографам).
На обложке чернового автографа стоят даты работы автора над рассказом: «Начат в Бадене около 15-го / 3 июля. Кончен в Бадене, в Тиргартенштрассе 3, в четверг 29 / 17-го июля, в 3 часа пополудни». Та же дата окончания работы указана и в конце текста, рядом с подписью писателя.
Быстрота написания рассказа объясняется, по-видимому, тем, что он был задуман значительно раньше: «Странная история» была обещана издателю немецкого журнала «Салон» [192]192
Немецкий журнал «Der Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft».
[Закрыть]еще в конце 1868 г. (см. письмо Тургенева Юлиусу Роденбергу от 26 декабря 1868 г. (7 января 1869 г.). 12 (24) февраля 1869 г. Тургенев об этом же писал Л. Пичу: «…„Салону“ я (к сожалению!) обещал, правда, небольшую повестушку – inédite < …>, но я не написал и первогослова. Когда это будет выполнено – ведает одно только небо!». Вынужденный перерыв в работе над повестью «Степной король Лир» [193]193
См. наст. том, с. 476–477.
[Закрыть]Тургенев использовал для осуществления замысла рассказа «Странная история». Черновая рукопись рассказа помещается в тетради непосредственно вслед за планом названной повести.
Окончив «Странную историю», Тургенев снова пересмотрел текст и внес в него некоторые принципиально важные вставки. Так, на листе 25 рукописи вписан разговор рассказчика с Софи Б., раскрывающий внутренние побуждения, по которым она действовала (в окончательном тексте с. 150, строка 1 и далее); на листе 38 сделана вставка о разрыве Софи с родными и бескорыстно-самоотверженном ее отношении к юродивому (см. с. 157). В конце текста, после завершения работы над рассказом, на полях сделана приписка о судьбе юродивого – своеобразный эпилог жизни Василия (с. 158).
Изучение многочисленных вставок на полях чернового автографа, на оборотах страниц, над строкой дают возможность представить себе, как развивался замысел писателя, углублялись образы произведения. Вся история Софи получила особую четкость и ясность благодаря вставкам и переделкам, которыми изобилует рукопись, отражающая основную работу над рассказом. В начале рассказа писатель включает в текст указание на то, что отец Софи – откупщик, а также иронические замечания о его ростовщической и откупщической деятельности. Эта вставка имела большое значение для объяснения поступка барышни, которая «спасается», «грехи заслуживает» (с. 154) – не свои, а своего отца. Новые штрихи были внесены в описание внешности Софи; писатель особо подчеркнул ее хрупкость, уязвимость. По мере обработки текста в него вводятся детали, говорящие о том, насколько Софи чужда окружающей ее среде и непонятна для провинциально-дворянского общества (в окончательном тексте с. 151–152); расширяется разговор с Софи на бале, во время которого девушка излагает свое credo (с. 149–150), а сравнение ее с другими девушками – революционерками, рвавшими со своим окружением ради того, что они считали «правдой и добром» (черновой вариант), дополняется многозначительным словом «впоследствии», за которым стоит мысль о том, что религиозные искания жаждущих деятельного добра душ характерны для эпохи, предшествовавшей широкому приобщению интеллигенции к революционным идеям. Как итог трагической судьбы героини звучат вписанные на полях листа 38 чернового автографа слова: «Она искала учителя жизни – и нашла его… в ком, боже мой!» (черновой вариант; ср. в окончательном тексте с. 158). Существенны такие, небольшие на первый взгляд, исправления, как, например, замена «незыблемые и неискоренимые мнения» на «незыблемые и неискоренимые убеждения» (с 149).
Детальной обработке подвергся и образ юродивого Василия, причем усилия автора были направлены на то, чтобы показать источники его болезненной психики и раскрыть бесчеловечность стихийного и бессознательного властолюбия, которым он одержим. Именно в связи с этой задачей возникли разработка образа Мастридии и описание ее дома. Постепенно писатель наделяет ее и ухватками торговки, строящей свое благополучие на эксплуатации «богоданных» детей, и чертами сектантки, внушающей своим воспитанникам темные суеверия. В описании внешности Василия на передний план выдвигаются его болезненность и животная бессознательность. Так, возникло сравнение Василия с борзой, преследующей зайца (с. 146), и описание одичалой, оборванной фигуры юродивого (с. 155), с непомерно большой, «как пивной котел», головой (с. 153).
Немалое значение для раскрытия психологических мотивов и социальных причин изображенного происшествия имела и характеристика обстановки действия. Отсюда – тщательность работы над описаниями провинциального быта, трактиров, помещичьего бала и условий путешествия по уездным дорогам, заканчивающимися многозначительной фразой, которая предшествует появлению юродивого и сопровождающей его Софи: «Я < …> предался тем дорожным нерадостным думам, которые слишком знакомы русским людям» (ср. в окончательном тексте с. 152). Следует отметить, однако, что Тургенев, судя по его письму к А. М. Жемчужникову от 5 (17) июня 1870 г., так и не был удовлетворен тем, насколько ему удалось разработать психологические мотивы поступков героев.
По окончании работы над текстом Тургенев переписал рассказ набело и сделал небольшие исправления. Дальнейшая судьба рассказа своеобразна. Отвечая на предложение редактора немецкого журнала «Салон» Юлиуса Роденберга, который просил писателя поддержать издание своим сотрудничеством, Тургенев напечатал рассказ в «Салоне» в немецком переводе – прежде, чем в России в оригинале. 25 сентября (7 октября) 1869 г. он писал И. П. Борисову: «Написал маленький рассказ, который – Вы удивитесь! – появится (или уже появился) в немецком переводе в одной немецкой revue; оригинал будет напечатан в 1-м № „Вестника Европы“. Штучка очень небольшая и зовется „Странная история“. Надо Вам сказать, что я в глазах немцев – у какой писатель! – и столько же меня хвалят здесь, сколько ругают в России». Повесть впервые появилась в переводе на немецкий язык в журнале «Der Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft» в октябре 1869 г. (№ 10, Bd. V, S. 69–86) под заглавием «Eine wunderliche Geschichte».
Выступая в немецком журнале, Тургенев ощущал себя представителем родной литературы, знакомящим с русской жизнью и русскими людьми западного читателя. «Как могли Вы подумать, что я напишу рассказ на другом языке, кроме моего – русского», – писал он 23 февраля (7 марта) 1869 г. Людвигу Пичу, а от редактора «Салона» потребовал, чтобы профессиональный переводчик перевел рассказ на немецкий язык. 25 июля (6 августа) 1869 г. Тургенев писал Ю. Роденбергу: «… посылаю Вам русскую рукопись моей повести, название которой „Странная история“. Разрешите заметить следующее: а.Убедительно прошу прислать мне корректуру перевода – с тем, чтобы я мог ее прочесть до появления повести в „Salon“. Листы я тотчас же верну. б.Будьте так добры вернуть мне русскую рукопись».
Тургенев провел большую и тщательную работу по усовершенствованию перевода, сделанного Л. Кайслером (корректура перевода рассказа была ему прислана 8 (20) сентября 1869 г.). В Институте изучения классиков в Веймаре среди писем Тургенева Ю. Роденбергу хранятся корректурные листы «Странной истории» с обильной правкой Тургенева, которой он занимался 8 (20) сентября 1869 г. Тургенев правил перевод Л. Кайслера, с одной стороны, уничтожая буквализм и добиваясь того, чтобы живым народным языком адекватно передать русскую речь, а с другой – в отдельных случаях, когда изображалось явление, специфичное для русского быта и не известное Западу, отвергая несостоятельные попытки переводчика найти немецкий термин для его обозначения. Так, он отметает обозначения «der Närrische», «ein Glückseliger» (дурак, святой) для юродивого и вводит русское слово в немецкий текст (Jurodiwi), сопровождая его примечанием для немецкого читателя: «Unter Jurodiwi versteht man in Rußland gewisse Fanatiker, die ähnlich den orientalischen Seïdens oder indischen Fakirs die Annehmlichkeiten des Lebens verachtend im Lande umherschweifen. Das Volk betrachtet sie mit frommer Scheu, behandelt sie mit höchster Achtung, hält ihren Eintritt in das Haus für glückbringend und sucht die sinnlosesten Reden dieser Blödsinnigen als göttliche Offenbarungen und Prophezeihungen auszudeuten» («Под „юродивым“ разумеют в России особого рода фанатиков, которые наподобие восточных сеидов или индийских факиров бродят по стране, отрекаясь от благ жизни [194]194
Поясняя немецким читателям роль юродивых в русской народной жизни и уподобляя их индийским факирам, Тургенев мог основываться на рассуждениях на эту же тему Дж. Флетчера, который в своей известной книге «О государстве русском» (1591) сравнил юродивых со странствующими индийскими религиозными философами гимнософистами (об этом см.: ЛихачевД. С., ПанченкоА. М. «Смеховой мир» древней Руси. Л., 1976, с. 178–179).
[Закрыть]. Народ смотрит на них с набожным страхом, относится к ним с глубоким уважением, считает их посещение приносящим счастье и старается толковать бессмысленные речи этих безумцев как божественные откровения и пророчества»). Под этим пояснением стояли буквы: «D. V-r» («Der Verfasser» – автор). Примечаниями сопровождает Тургенев и имя «Васенька», поясняя читателю, что это уменьшительное от «Василий», и поговорку «Риск – благородное дело», объясняя, что это народная пословица, чтобы ироническое замечание о ростовщичестве откупщиков не было понято буквально (с. 138–139 текста).
Готовя немецкий перевод рассказа к печати, Тургенев проявил себя не только как вдумчивый редактор-переводчик и комментатор, но и как неутомимый автор, готовый постоянно работать над текстом, совершенствуя его и учитывая, какому читателю адресована книга. В немецком тексте Тургенев заметил и исправил противоречие, сняв утверждение знакомого рассказчика, что Софи – единственная наследница своего отца, не согласованное с утверждениями В. Г. Б., что Софи хозяйничает в доме и наблюдает за братьями и сестрами. В немецком переводе, вместо неопределенного обозначения места действия в рукописи – губернский город ***, возникает губернский город О. (явно «Орел», название которого писатель не мог точно обозначить в русском издании ввиду того, что происшествие, описанное им, имело место в действительности и некоторые причастные к нему лица могли еще быть живы. В русском тексте место действия было обозначено как город Т… – Тамбов. В немецком переводе рассказчик совершает служебную поездку в «Т…скую <Тульскую или Тамбовскую> губернию», соседнюю с «О…ской <Орловской>» – обе губернии граничили с Орловской («T…sche Gouvernement, welches… an das O…sche Gouvernement anstößt») [195]195
В окончательном тексте рассказчик едет не в «Т…скую», а в «С…кую», т. е. Саратовскую (с. 152) губернию, граничащую с Тамбовской.
[Закрыть].
Некоторые тургеневские исправления перевода могут служить как бы лексическим комментарием к русскому тексту – в том случае, если то или иное выражение в силу своей двусмысленности было неправильно понято переводчиком. Так, например, обращение Ардалиона к «младенцу лет шести» – «мальчуга», переведенное Кайслером как «Junge», исправлено Тургеневым на «Gelbschnabel» («желторотый»), а в другом обращении к нему же «мастеровой» перевод «Geselle» (подмастерье) заменен «braver Arbeiter» («труженик»). Интересно, что дважды употребленный собеседниками в споре на балу термин: «начало» был буквально передан переводчиком, и Тургенев вынужден был в обоих случаях исправить Кайслера, заменив слово бытового словаря философским и придав тем самым должную окраску этому термину: «начало премудрости» – «Weisheitsgrund» (Тургенев) вместо «Der Weisheit Anfang» (Кайслер), «начало веры» – «Der Grund des Glaubens» (Тургенев) вместо «Der Anfang des Glaubens» (Кайслер).
После опубликования перевода в журнале «Салон» Тургенев, получив обратно рукопись, внес в нее ряд дополнений и исправлений и снова переписал ее (этот, вторичный беловой автограф, посланный потом Стасюлевичу, не сохранился). Он снял цифровые (римскими цифрами) обозначения глав, имевшиеся в предыдущих автографах, и кое-где усилил характерность речи героев. Были введены некоторые детали описания обстановки действия, например следующие строки: «Он помолчал, а громадные стенные часы, с лиловой розой на белом циферблате, своим однообразным и сиплым чиканием тоже как бы подтверждали его слова. О…чень! о-чень!“ – щелкали они» (с. 140); слова об отношении губернского общества к религиозным исканиям Софи: «Я, взглянул на наших соседей – ее за такую знают» (с. 150); признание Софи, что она ищет наставника, и презрительный отзыв ее о духовнике-священнике, а также характеристика музыки, сопровождавшей разговор рассказчика с Софи, – строки: «наставника найти – гремели с хоров литавры) (см. с. 150–151). Следует отметить, что после слов этого отрывка: «напоминала мне дорафаэлевских мадонн…» в беловом автографе было: «я предпочитаю мадонн позднейших». Это замечание сохранилось только в первых изданиях, в ВЕи Т, Соч, 1868–1871.В дальнейшем Тургенев, верный своему постоянному стремлению избегать выражения авторских пристрастий, исключил его, и в собраниях сочинений, начиная с 1874 г., его нет. Характеристика юродивого пополнилась новыми чертами. Появилась, например, фраза: «Хохот этот вырывался всякий раз – слышалось негодующее плевание» (с. 153).
Заново выверенный, исправленный и переписанный текст рассказа был послан П. В. Анненкову для передачи М. М. Стасюлевичу (редактору «Вестника Европы»). Двенадцать наиболее существенных дополнений и исправлений вместе с оттиском рассказа из «Салона», 30 октября (11 ноября) 1869 г. были посланы в переводе на немецкий язык также Л. Фридлендеру [196]196
См.: FriedländerL. Erinnerungen, Reden, Studien. Th. I. Strassburg, 1905, S. 197–198.
[Закрыть]и Л. Пичу [197]197
Сообщено доктором Г. Цигенгайстом (ГДР).
[Закрыть]. Совершенно адекватные автографы немецкого перевода дополнений («Zusätze zur „Wunderlichen Geschichte“») хранятся в Парижском архиве Тургенева ( Bibl Nat,Slave 78; описание см.: Mazon,p. 99, фотокопия – ИРЛИ,Р. 1, оп. 29, № 344) и в Немецкой государственной библиотеке в Берлине [198]198
То же.
[Закрыть]. Отсылая своих немецких друзей к страницам оттиска журнала «Salon», Тургенев на отдельных листках дополнял текст перевода рассказа «Странная история» наиболее существенными из вставок, сделанных в беловом автографе. Особый интерес представляет дополнение, которое при переводе на немецкий язык подверглось новой авторской переделке. Беспорядочным, «темным» речам Василия, внесенным в беловой автограф, в немецком переводе придан более ясный и определенный характер, – этот перевод может служить как бы комментарием к русскому тексту. Вместо «Только ты слушай меня – сказывай… чей?» (с. 154) – здесь читаем: «Aber Du – höre! Gieb alles weg! Den Kopf weg! Das letzte Hemd weg! Und wenn man auch darum nicht bittet, gieb es doch! Denn Gott sieht. Er hat dir Mehl gegeben. Also marsch in den Ofen damit. Die ganze Welt soll Brot haben! Sonst glaubst du – Erbraucht viel Zeit um Dir das Dach über den Kopf wegzublasen? Er sieht ja… Er sieht alles! Er si… eht» («Только ты слушай меня! Всё отдай, голову отдай, последнюю рубаху отдай. И просить не будут, а ты отдай. Потому, бог видит. Он тебе муку́ дал! Ну и пеки. У всех должен быть хлеб. А то долго ли ему сдуть крышу над твоей головой? Он видит… Он всё видит. Он видит»). Далее вместо: «Хозяйка украдкой перекрестилась под косынкой» – в немецком тексте «дополнений»: «Die Wirtin wurde etwas bleich und bekreuzte sich heimlich unter ihrem Brusttuch» («Хозяйка несколько побледнела и украдкой перекрестилась под косынкой»).
Таким образом, речи юродивого приобретали характер обличения стяжательства. Образ возмездия – разметанной над головой обидчиков-стяжателей крыши, – нашедший себе затем прямое воплощение в повести «Стенной король Лир», в такой редакции «проповеди» юродивого приобретает особенно большое значение.
Можно предположить, что Тургенев счел нужным подвергнуть такой своеобразной обработке речь юродивого в немецком переводе, чтобы сделать более ясной для немцев свою мысль о религиозном подвижничестве как первобытной, бессознательной форме протеста и социально-нравственных исканий. От включения мотивов социального обличения в речь юродивого в русском тексте Тургенев отказался в силу своего обычного стремления избегать публицистических форм выражения авторской мысли, будучи, видимо, уверен, что русский читатель и без таких пояснений образа Василия правильно воспримет всё богатство ассоциаций, стоящих за рассказанной им «странной историей». Обличение пороков в невнятной, загадочной форме и умерщвление своей плоти было хорошо известной русским читателям «нормой» поведения юродивых (см.: ПанченкоА. М. Смех как зрелище. – В кн.: ЛихачевД. С., ПанченкоА. М. «Смеховой мир» древней Руси, с. 101–103, 123–128, 141–144). Следует отметить, что двенадцатью вставками, перечисленными в «Прибавлениях», не исчерпываются новации, внесенные Тургеневым в текст при его переписывании. Писатель не сообщил, например, что в речь Ардалиона (с. 141) им была внесена фраза: «Сидит каждый у себя на тычке, как „ке́тик“ какой». Слово «ке́тик», которое Тургенев для памяти зафиксировал, в числе других записей, на обложке рукописи «Бригадира», очевидно, было трудно переводимо и стиль фразы почти невозможно было передать на чужом языке.
Воспользовавшись отсутствием конвенции об авторском праве между Германией и Россией, А. А. Краевский без разрешения автора 10 (22) декабря 1869 г. напечатал перевод «Странной истории» с немецкого в той самой газете «Голос» (№ 341, с. 1–3), которая встречала критикой каждое новое произведение писателя. Расчет Краевского был безошибочен: с одной стороны, опубликование нового произведения знаменитого писателя привлекало к его изданию новых читателей и приносило прибыль [199]199
В том же № 341, где напечатан рассказ Тургенева, было помещено объявление о подписке на газету на 1870 г.
[Закрыть]; с другой стороны, представляя Тургенева как немецкого автора, произведения которого появляются в России через посредство переводчика, он как бы подкреплял свое постоянное утверждение, что Тургенев отрекся от России.
Тургенев был возмущен «проделкой» Краевского. Требовательный к себе писатель, специально обсуждавший со своим советчиком П. В. Анненковым такую подробность, как целесообразность введения фразы о бое часов (письмо от 4 (16) декабря 1869 г.), боялся более всего, что неполноценный в литературном отношении текст переводчика из «Голоса» может быть кем-нибудь из читателей принят за его авторский текст (см. письмо от 20 декабря ст. ст. 1869 г. к П. В. Анненкову, от которого Тургенев 19 декабря получил «Голос» с переводом, а также письма М. М. Стасюлевичу от 21 декабря и М. А. Милютиной от 24 декабря ст. ст. 1869 г. Письмо Тургенева к М. М. Стасюлевичу с протестом против опубликования перевода немецкого текста было в сокращенном виде напечатано в «Вестнике Европы» (1870, № 1). В примечании к этому письму Стасюлевич утверждал, что самая поспешность, с которой Краевский напечатал перевод, говорит о том, что издатель «Голоса» признает популярность Тургенева и пытается воспользоваться ею в интересах своей газеты. При этом Стасюлевич, несомненно, рассчитывал на то, что и сам Краевский и читатели вспомнят недавние заявления газеты «Голос» о том, что «Тургенев отшатнулся от России и Россия от него отшатнулась» (Голос, 1869, 19 февраля (3 марта), № 50). В том же номере «Вестника Европы», в котором появилось письмо Тургенева, был напечатан подлинный текст «Странной истории».