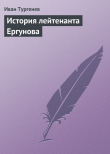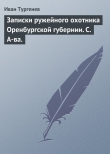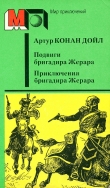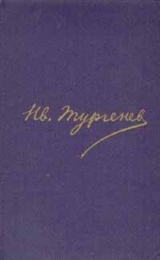
Текст книги "Том 8. Повести и рассказы 1868-1872"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 39 страниц)
В рукопись были внесены и некоторые подробности, более обстоятельно раскрывавшие интригу, которую сплел Семен Колтовской при помощи Ратча вокруг Сусанны. Однако не это дополнение, а политическая характеристика Семена Колтовского, ставшая особенно определенной на этом этапе работы, освещала трагическую судьбу героини светом беспощадного социального обличения.
Раскрывая перед читателем все социальные обстоятельства, погубившие Сусанну, Тургенев вместе с тем уничтожал в беловой рукописи некоторые натуралистические подробности. Так, например, вычеркнуто было описание лица Сусанны в гробу, следовавшее за словами: «на старых-старых образах» (с. 125): «глаза ввалились, губы прилипли к обнажившимся зубам, подбородок ушел в шею».
Переписав повесть, Тургенев снова приступил к ее чтению в кругу друзей и близких знакомых. Прежде чем отослать рукопись П. В. Анненкову, своему постоянному советчику и рецензенту, он 1 (13) октября 1868 г. читал повесть в Баден-Бадене у Милютиных, после чего, выслушав замечания друзей, приступил к новой ее переработке. Писатель утверждал, что намерен внести значительные изменения и что повесть «раньше 10 дней не будет готова» (см. письмо Тургенева к Н. Н. Рашет от 2 (14) октября 1868 г.). 20 октября (1 ноября) 1868 г. Тургенев сообщал М. А. Милютиной, что переписывает заново повесть, многое переделывает, что убрал одно действующее лицо – «драчуна Цилиндрова». Этого последнего писатель «выкинул» по совету К. Д. Кавелина как «лишнее лицо», то есть изъял путем простого вычеркивания эпизодов, относящихся к этому персонажу, а в некоторых необходимых случаях внес вместо зачеркнутых текстов новые связующие отрывки.
Вычеркнутые эпизоды, довольно значительные по объему, расположены в конце повести – в главах XVIII, XX–XXII [185]185
В окончательном тексте соответственно главы XXIV, XXVI–XXVIII.
[Закрыть], которые в беловом автографе до переделок представляли собой законченную редакцию [186]186
Первую редакцию (гл. XXIII–XXVIII) см. в отд. «Приложения» наст. тома.
[Закрыть].
Изъятие и переработка этих мест в корне изменили не только сюжетную сторону эпилога, но и его тональность в целом и даже, отчасти, авторскую концепцию окончания повести. Вычеркнув эти эпизоды и заменив их иным текстом, Тургенев создал новую редакцию конца повести, в которой осталась лишь одна глухая реминисценция, связанная с образом Цилиндрова: «Мой бедный Мишель скончался с моим именем на устах… Мне это сообщил один преданный ему человек, который вместе с ним приезжал в деревню» (с. 118). Этот «преданный человек» – Цилиндров – в первоначальной редакции [187]187
Первая редакция конца повести по беловому автографу опубликована с пропусками и некоторыми неточностями в статье: BackèsJ.-L. Une nouvelle de Turgenev: «L’infortunée». – Revue des études slaves. Paris, 1964. T. 42, № 1–4, p. 54–57.
[Закрыть]был подлинным героем конца повести. Разночинец, бедняк, верный в дружбе и решительно действующий, он противопоставляет «практическому смыслу» Фустова, уверенного в том, что смерть Сусанны надо оставить без последствий, готовность привести в исполнение «заслуженное наказание» Ратча. Писатель не без иронии относится к способу, которым «мужественный» Цилиндров осуществляет свою «аннибаловскую клятву» отомстить губителям несчастной девушки. Однако с этим героем, о котором прямо говорится: «Энтузиаст он был, человек, как говорится, „фатальный“, но малый хороший» – вносился существенный мотив в развязку повести. В тексте окончания содержался даже явный намек на то, что если бы Цилиндров не был вынужден уехать служить в Сибирь, он защитил бы Сусанну.
Образ Меркула Цилиндрова ассоциировался в сознании Тургенева с совершенно определенным типом людей 1830-х – начала 1840-х годов. Именно Цилиндрову Тургенев приписал первоначально подлинные стихи Н. Станкевича на смерть затравленной пошлым обществом девушки, и Цилиндрова он сравнивал с поэтом Красовым, участником кружка Белинского. «Сверх того Цилиндров был поэт < …> и декламировал свои стихи, чуть не захлебываясь и замирая – ни дать ни взять покойный писатель Красов», – писал Тургенев в беловом автографе первой редакции (с. 406).
Образ Цилиндрова – энтузиаста, у которого убеждение перерастает в действие, своеобразного Дон-Кихота, несомненно, стоит в связи с размышлениями Тургенева о разночинцах шестидесятых годов – людях действия, готовых разрубать неразрешимые узлы противоречий современной жизни, и о судьбах подобных характеров в сороковые годы. Изъятие этого образа, не понятого или не принятого друзьями писателя, придало еще более мрачный, безнадежный характер развязке повести. Скандал, учиненный Цилиндровым, мстившим за Сусанну единственно возможным в данных условиях, хотя и диким, способом, был заменен в новой концовке разнузданной и бессмысленной пьяной дракой.
Закончив переделки, связанные с изъятием образа Цилиндрова, Тургенев вторично переписал повесть, произведя в ней «еще много изменений», и отослал эту не дошедшую до нас рукопись П. В. Анненкову вместе с письмом от 3 (15) ноября 1868 г. При этом Тургенев просил Анненкова обсудить «Несчастную» с друзьями, сообщить свое мнение и передать повесть в журнал – «Русский вестник», если Катков не изменил своего намерения печатать ее, или в «Вестник Европы». Тут же он обращался через Анненкова к Н. Х. Кетчеру, прося, чтобы последний «продержал корректуру», «так как в „Несчастной“ попадается множество немецких и французских фраз». 16 (28) декабря 1868 г. Тургенев обращается с этой просьбой непосредственно к Кетчеру и сразу поручает ему вставить в текст повести эпизод спора Колтовского с французским эмигрантом. Это пожелание Тургенева было выполнено, и в «Русском вестнике» повесть появилась с указанными Кетчеру исправлениями, за исключением одного небольшого пропуска: фраза, имевшая в письме следующий вид: «La Reveillière-Lépeaux était un brigand, un bonnet rouge!» («Ла Ревельер Лепо был разбойник, красный колпак» – франц.), в Рус Вестнгласила: «La Reveillière Lépeaux était un bonnet rouge!» («Ла Ревельер Лепо был красный колпак!» – см.: Рус Вестн,1869, № 1, с. 73). Кетчер внес также в корректуру повести ряд мелких исправлений Тургенева, который писал ему 2 (14) января 1869 г.:
«В главе Х-й, в самом начале, где стоит: – „отправился один в дом к г-ну Ратчу, в этот самый дом, столь мне противный“ – выкинь подчеркнутые слова.
В главе VIII-й – при описании наружности молодого Ратча – стоит: „но и в самой этой приятности было что-то противное“ – вместо: „противное“ – поставь: „нехорошее“, а дальше, где стоит: „зубы у него оказались нехорошие“ – поставь: „дурные“.
В главе XIV-й, в последнем прощании Сусанны, – перед словами: „О бедное, бедное мое племя!“ – выкинь: „Мне кажется, я вас вижу в последний раз“.
В главе XV-й, где Сусанна говорит о том, что Иван Матвеич стал слабеть и стереться, во фразе: – „только прибавился оттенок рыцарской вежливости и уважения – не ко мне собственно, а к так называемой представительнице прекрасного пола, уже начинавшей выходить из девического возраста“ – непременно выкинь всё подчеркнутое».
Указывая Кетчеру расположение мест, подлежащих изменению, Тургенев пользуется в данном письме нумерацией глав чернового и белового автографов, в окончательном тексте изменившейся (VIII глава стала X-й, X–XII-й, XIV–XVI-й, XV–XVII-й). Кетчер исполнил пожелания автора (см. варианты белового автографа в изд.: Т, ПСС и П, Сочинения,т. X).
Чрезвычайно довольный работой Кетчера, Тургенев благодарил его 16 (28) февраля 1869 г. «за образцовую корректуру „Несчастной“»: «ни одной почти опечатки».
Тургенев сомневался в успехе своей повести, которая не была одобрена Полиной Виардо и самому ему казалась «мрачнейшей», «непроницаемо черной» (см. его письма к Н. Н. Рашет от 20 сентября (2 октября) и М. Гартману от 29 сентября (11 октября) 1868 г.). Выражая удовлетворение тем, что повесть понравилась Анненкову (см. письма к нему Тургенева от 16 (28) ноября 1868 г. и 24 декабря 1868 г. / 5 января 1869 г.), он вместе с тем пытался узнать мнение о ней И. П. Борисова, А. А. Фета, М. А. Милютиной, Н. Х. Кетчера, В. П. Боткина, Тютчевых и других знакомых. Отзывы, доходившие до него из России, то ободряли писателя («О повести моей, вычищенной и переделанной – доходят до сведения моего из Петербурга благоприятные известия», – пишет он М. А. Милютиной 19, 21 ноября ст. ст. 1868 г.), то тревожили его («В России она понравилась мало», – сообщал он В. П. Боткину 4 (16) марта 1869 г.).
Особенно затронул писателя развернутый критический отзыв в письме к нему Я. П. Полонского. По его совету Тургенев внес в текст несколько мелких изменений. «Из трех твоих упреков – первый показал мне, что я ошибочно вместо слова: „подоконник“ употребил „оконницу“ и напрасно поставил однажды: „под окном“. Это уже исправлено», – писал он Полонскому 27 февраля (11 марта) 1869 г. Исправления эти были сделаны в тексте собрания сочинений 1869 г. Следующие два замечания своего корреспондента Тургенев отвел. Он заявил, что пожелание об изменении языка героини в ее дневнике невыполнимо. Отстаивая необходимость эпизодов, которые Полонский предлагал сократить, а также настаивая на точности и правдивости описаний, Тургенев раскрывал автобиографическую основу ситуаций повести и связь ее проблематики со своими впечатлениями 1840-х – начала 1850-х годов. «Эта девушка действительносидела на окнеу меня в комнате московского дома и действительноцарапала ногтем льдинки. Всё окно было невелико и глубоко– как обыкновенно бывает в старых домах – и я мог без натяжки употребить слово: гнездышко < …> Всё описание „пира“ < …> мне кажется необходимым. Я на поминках Грановского (тому уж давно, как видишь) дал себе слово заклеймить этот гнусный, безобразный обычай». Таким образом, по свидетельству самого Тургенева, сюжет повести отразил разнообразные воспоминания и впечатления молодости автора.
Л. Пич вспоминал, что, написав сцену посещения Сусанны и ее размышлений у окна комнаты Петра Гавриловича, Тургенев впал в тяжелое, подавленное состояние и на вопрос: «Что случилось?» – отвечал, имея в виду свою героиню: «Ах, она должна была отравиться! Ее тело выставлено в открытом гробу в церкви и, как это у нас принято в России, каждый родственник должен целовать мертвую. Я раз присутствовал при таком прощании, а сегодня я должен был описать это, и вот у меня весь день испорчен» [188]188
См.: ПичЛ. Воспоминания. – В кн.: Иностранная критика о Тургеневе. СПб. Изд. 2-е, 1908, с. 84–85.
[Закрыть].
Воспоминания молодости Тургенева, очевидно, были дополнены и отчасти возбуждены рассказом Фета о пережитой им трагедии – гибели любившей его и покинутой им девушки Марии Лазич. Обстоятельства смерти Лазич давали основание предполагать, что она покончила самоубийством. Мотивы повести «Несчастная» перекликаются с реальными коллизиями жизни Фета, а герои ее некоторыми своими чертами близки к характерам молодого Фета и его возлюбленной (см.: ЛотманЛ. М. Тургенев и Фет. – В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 43–45). Сообщая Фету о предстоящей публикации повести «Несчастная», Тургенев стремился предупредить нежелательные ассоциации своего корреспондента. Если в письмах к Полонскому и Борисову от 16 (28) ноября 1868 г. он подчеркивал реальную основу произведения, то в письме к Фету от 13 (25) января 1869 г. утверждал, что повесть написана «горячо и безо всякой задней мысли». Одним из реальных событий, нашедших отражение в повести, было самоубийство дочери музыканта Эмилии Гебель, погибшей в июне 1833 г. Трагическая история Э. Гебель получила широкую огласку среди студентов Московского университета. Участники кружка Станкевича обвиняли в смерти девушки студента Я. Почеку. Н. В. Станкевич горячо отстаивал непричастность Почеки к гибели Эмилии. В письме к Я. М. Неверову от 14 (26) сентября 1833 г. он рассказывал об обстоятельствах жизни, смерти и даже похорон Эмилии (см.: Станкевич, Переписка,с. 245–248). Это письмо Станкевича было опубликовано П. В. Анненковым в его книге: Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография. М., 1857. Переписка, с. 47–50. Тургенев был в курсе работы Анненкова над этой книгой. Летом 1856 г. он, очевидно, в качестве подсобного материала для Анненкова, писавшего биографию Н. В. Станкевича, составил мемуарную заметку о Станкевиче (см. наст. изд., т. 5). В письме Станкевича к Я. Неверову, помимо ряда подробностей трагического происшествия 1833 г., содержалось и сравнение Эмилии с Миньоной – героиней романа Гёте «Годы учения Вильгельма Майстера» («Это новая Миньона») – и утверждение, что Эмилия «мнимая дочь» Гебеля, что судьба этой девушки таинственна. Эта поэтическая интерпретация Станкевичем истории Э. Гебель, очевидно, произвела на Тургенева известное впечатление. Вместе с тем он не ставил, конечно, перед собой цель точно воспроизвести все черты именно этого происшествия и характеры его участников.
Повесть Тургенева, рисовавшая случай более чем тридцатилетней давности, поднимала вопросы, которые хотя и ставились впервые в кружках передовой молодежи и в литературе 1830-1840-х годов, но не утратили своего живого значения и в 1860-х годах. Изображая ситуации, привлекавшие писателей натуральной школы, Тургенев во многом опирался на опыт Достоевского. Он создавал свой вариант истории сироты, с детства брошенной в чуждое и враждебное окружение, ставшей центром сложных, не всегда до конца ясных ей конфликтов – сюжета, разработанного Достоевским в «Неточке Незвановой» и в Униженных и оскорбленных». Многие эпизоды повести о переживаниях девушки, душевно надломленной социальной несправедливостью, напоминают обычные для Достоевского ситуации (ребенок из артистической семьи, раннее сиротство; мать, страдающее, безответное существо; «случайное семейство» и двусмысленное положение незаконнорожденного ребенка в обществе; преследования жестокого и всесильного интригана-барина; скандал во время званого обеда и т. д.).
Достоевский принадлежал к числу писателей, за творчеством которых Тургенев особенно внимательно следил. Пропагандируя русскую литературу, он, по свидетельству Эдуарда Рода, говорил западным писателям, глубоко чтившим его: «Я – ничто, но если бы вы читали Толстого, Гоголя, Достоевского» ( Рус Вестн,1893, № 8, с. 208). В 1866 г. Тургенев читал «Преступление и наказание» и находил, что начало произведения, его «первая часть < …> замечательна», но что патологичность явлений, на которых сосредоточено внимание автора, отрицательно отзывается на романе (см. письма Тургенева к А. А. Фету и П. В. Анненкову от 25 марта (6 апреля) 1866 г.). По мнению Тургенева, и его собственная повесть – «Несчастная» отличалась тем же: «слишком много в ней патологии» (см. письма к Л. Фридлендеру от 10 (22) июля и 21 июля (2 августа) 1869 г.). Именно в болезненности, во внимании к патологическим явлениям общественной физиологии зачастую обвиняли литературу натуральной школы, и в частности молодого Достоевского, в 1840-х и начале 1850-х годов XIX века [189]189
См.: М… З… К… <Ю. Самарин>. О мнениях «Современника», исторических и литературных ( Москв,1847, ч. II, с. 187–205), а также статьи А. Григорьева: «Русская литература в 1851 году» ( Москв,1852, кн. 1, № 3, отд. V, с. 67) и «Русская изящная литература в 1852 году» ( Москв,1853, кн. 1, № 1, отд. V, с. 11–12).
[Закрыть].
Полемика, развернувшаяся вокруг романа «Дым» в 1867–1868 гг., повлияла на восприятие и критическую оценку повести «Несчастная». Появлению ее предшествовал слух, что она – произведение полемическое – и направлена против славянофилов. Тургенев счел необходимым протестовать против такого упрощения мысли своей повести. Узнав, что слух о его выступлении против славянофилов в новой повести нашел отражение в библиографическом обзоре «С.-Петербургских ведомостей» (1868, № 291, 24 октября / 5 ноября), Тургенев просил 16 (28) ноября 1868 г. Анненкова опровергнуть это сообщение в следующих номерах газеты. Опровержения толков о полемичности повести «Несчастная» содержались и в письме к И. П. Борисову от того же числа: «Не знаю, с какой стати распространился слух, будто я в этой повести нападаю на славянофилов; ничего подобного в ней нет». Однако содержавшееся в повести сатирическое изображение носителей идей казенного патриотизма задевало наиболее консервативно настроенных сторонников славянофильской доктрины. Создавая образ лжепатриота – крупного петербургского бюрократа Семена Матвеича Колтовского и «исполнителя» его «предначертаний» – авантюриста Ратча, который сыплет тирадами в духе официальной народности, Тургенев выражал мысль, близкую к той, которая была сжато сформулирована Герценом, писавшим в «Былом и думах»: «Для того, чтоб отрезаться от Европы, от просвещения, от революции, пугавшей его с 14 декабря, Николай, со своей стороны, поднял хоругвь православия, самодержавия и народности,отделанную на манер прусского штандарта и поддерживаемую чем ни попало – дикими романами Загоскина, дикой иконописью, дикой архитектурой, Уваровым, преследованием униат и „Рукой всевышнего отечество спасла“. Встреча московских славянофилов с петербургским славянофильством Николая была для них большим несчастием» ( Герцен,т. 9, с. 137).
Активизация Тургенева как сторонника либерально-западнической доктрины в 1860-х годах заставляла читателей особенно чутко относиться к каждому прямому выражению его политической мысли. Отсюда – обостренный интерес части читателей и критиков к антиславянофильским намекам в повести «Несчастная» и литературные слухи о полемической направленности этого произведения.
Мнения тонких и авторитетных ценителей творчества Тургенева, одобривших повесть «Несчастная», не нашли своего отражения в журнальных и газетных откликах на это произведение. Газета «Голос» предсказывала полный неуспех повести, содержание которой представлялось ее рецензенту сцеплением случайностей, не связанных с основными условиями крепостного права. «… Тургенев отшатнулся от России, и Россия отшатнулась от Тургенева», – злорадно торжествовал рецензент газеты «Голос» (1869, № 50, 19 февраля).
Н. Н. Страхов видел в повести «Несчастная» те же черты, которые отталкивали его от других рассказов писателя, относящихся к 1860-м годам, – преувеличение «грязных» антипоэтических сторон русской жизни, хотя и констатировал мастерское выполнение Тургеневым отдельных фигур повести: Колтовского, Фустова, Ратча, Виктора (Последние произведения Тургенева. – Заря, 1871, № 2. Критика, с. 29). В переписке Достоевского и Страхова мелькают отрицательные суждения о повести «Несчастная»: одна «из самых несовременных» вещей Тургенева, написанных «сентиментально-романтическим» стилем (Н. Н. Страхов); «такая ничтожность, что не приведи господи» ( Достоевский, Письма,т. II, с. 169, 447). Тургенев, очевидно, не ожидал иной реакции на свое произведение со стороны Страхова. Задолго до публикации «Несчастной» в письме к Я. П. Полонскому от 13 (25) января 1868 г. он констатировал свое недоверие к Страхову как литературному критику: «…авторитету Страхова я – виноват! не верю – и не потому, что он меня бранит, а потому, что он славянофил – а эти господа, быть может, в политике орлы, но в эстетике – тупцы № 1».
Впоследствии повесть «Несчастная» привлекла внимание писателей, которые находили в этом произведении материал для размышлений и оценивали его как характерное явление определенного этапа деятельности Тургенева. В. Я. Брюсов в письме к Н. Я. Брюсовой от 9-10 августа 1896 г., разбирая повесть «Несчастная», утверждал, что «мелочность и пошлость Фустова охарактеризована очень выразительно». Он отмечал, что сила Сусанны «в противодействии, в способности не покориться; это пассивная, неактивная сила < …> она изо всех испытаний вынесла свою душу – светлой и чистой. Она не героиня – она несчастная; в этом мораль и смысл повести» (см.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 185). Обратил внимание на повесть «Несчастная» и Ин. Анненский, который указал на то, что в ней отразилась определившаяся в творчестве Тургенева в 1860-х годах тяга к разработке трагедийных психологических мотивов, и сблизил ее в этом плане с повестью «Клара Милич» ( АнненскийИн. Белый экстаз. – В кн.: АнненскийИ. Ф. Книга отражений. М., 1979, с. 141).
Опасаясь за то, как будет воспринята его новая повесть русской публикой, Тургенев еще менее рассчитывал на ее успех у западного читателя. 29 сентября (11 октября) 1868 г. он прямо пишет Морицу Гартману, что не рискнет предложить ее вниманию европейской публики. 31 марта 1869 г. Мериме сообщал г-же Делессер свои впечатления от повести «Несчастная», передавая также своей корреспондентке мнение Тургенева о невозможности ее перевода: «Он прислал мне еще не переведенный рассказ, который, как он утверждает, не должен быть переведен. Рассказ называется „Несчастная“. Нет ничего более ужасного по правдивости. Я его побранил за выбор подобной темы < …> За исключением некоторого излишества в подробностях, этот рассказ кажется мне превосходным, но его не следует читать к ночи» ( Mérimée,II, 8, p. 443). К голосу Мериме, высоко оценившего повесть, присоединились положительные отзывы других крупнейших французских писателей. Так, Мопассан, чрезвычайно высоко ценивший повесть «Несчастная», относил ее к числу шедевров Тургенева [190]190
См.: МопассанГи де. Полн. собр. соч. М., 1958. Т. 11, с. 70.
[Закрыть], а Г. Флобер писал Ж. Санд в мае 1873 г. о повести «Несчастная» и ее авторе: «Я нахожу эту вещь просто возвышенной. „Скиф“ – настоящий колосс» [191]191
ФлоберГ. Собр. соч. М.; Л.: Гослитиздат, 1938. Т. 8, с. 407.
[Закрыть].
К тому времени, когда Мериме, ознакомившись с присланной ему рукописью, писал об отказе Тургенева от перевода «Несчастной», намерения Тургенева изменились. До него стали доходить благоприятные отзывы о его повести, и писатель утвердился в мысли о возможности и желательности ее перевода и публикации за границей. 19 ноября (1 декабря) 1868 г. он писал и М. Гартману и Л. Пичу, что «Несчастная», несмотря на всю свою мрачность, будет переведена.
Французский перевод повести был опубликован в «Le Temps» (7-23 августа 1872 г.) и затем в сборнике произведений Тургенева: «Etranges histoires», Paris, 1873, под заглавием «L’abandonnée» («Покинутая»). 1-е и 2-е изд. – 1873, 3-е изд. – 1874 г.
Перевод «Несчастной» на немецкий язык был осуществлен М. Петцольд в 1869 г. (вышел отдельной книжкой: «Die Unglückliche». Aus dem Russischen übersetzt von M. v. Petzold. Berlin, Janke, 1869; (повторение издания в 1875 г.), 2-е изд. – 1877; 3-е – 1879; 4-е – 1881 и т. д. Повесть «Несчастная» вошла также во II том авторизованного немецкого издания сочинений («Eine Unglückliche. Das Abenteur des Lieutenants Yergunow. Ein Briefswechsel. Assia. Vier Novellen von Iw. Turgenjew». Autorisierte Ausgabe. Mitau, 1869, Bd. 2), а затем появилась в издательстве Ph. Reclam («Eine Unglückliche». Aus dem Russichen übersetzt von Wilhelm Lange. Leipzig, 1873).
Английский перевод повести был напечатан в 1868 г. («The Unhappy only». By Tourguéneff. London, 1868), а шведский – в 1872 г. («Susanna Ivanowna». Iv. Turguenief. Från Ryskam Öfversatt af. Stokholm. Перевод этот был осуществлен Альмквистом (см.: ШарыпкинД. М. Русская литература в Скандинавских странах. Л., 1975, с. 106).
Я с ранних лет пристрастился к шахматам… – Черта автобиографическая. Тургенев в течение многих лет увлекался шахматной игрой. В 1870 г. он участвовал в Международном шахматном конгрессе в Баден-Бадене и был избран его вице-президентом (см.: КоганМ. С. Шахматы в жизни русских писателей. Пушкин, Тургенев, Толстой, Чернышевский. М.; Л., 1933, с. 23–35; РомановИ. Мастер благородного цеха. – Шахматы в СССР, 1963, № 9).
…вы дебютов не знаете. Вам надо книжку почитать, Аллгайера или Петрова. – Разработка дебютов – начала шахматной партии – занимает значительное место в теории шахматной игры. В учебнике Иоганна Алльгайера «Neue theoretisch-praktische Anweisung zum Schachspiel», Wien, 1834 («Новое теоретическое и практическое руководство по шахматной игре»), теория дебютов развита в III разделе; у А. Петрова в книге «Шахматная игра, приведенная в систематический порядок с присовокуплением игор Филидора и примечаний на оные». СПб., тип. Греча, 1824, кн. I–II, она в кн. II, ч. III–IV.
В Спасском, в библиотеке Тургенева, хранится книга Алльгайера (7-е изд., 1841). Пометы Тургенева на ее полях свидетельствуют о том, что он изучал приведенные в ней партии.
…я чех, и родина моя – древняя Прага! – Отвечая на вопрос о национальности Ратча Ю. Шмидту, Тургенев писал 3 (15) декабря 1869 г.: «Что касается Ратча в „Несчастной“, то он ведь уже по одному имени чех, и, кроме того, он сам это говорит. То, что какой-то русский называет его „немецкой собакой“ или „треклятой немчурой“, ровно ничего не доказывает: простые люди в России обзывают так всякого иностранца, к какой бы нации он ни принадлежал. Но в следующем издании я постараюсь резче выдвинуть чешское происхождение Ратча, как Вам это желательно». Однако никаких дополнительных указаний на чешское происхождение Ратча Тургенев в последующих изданиях в текст повести не внес. Ссылка на народную этимологию («немец» – всякий иностранец, говорящий на непонятном языке) в данном случае была не убедительна, так как не только рыбный торговец, но и главный герой повести Фустов выражал мысль о немецком происхождении Ратча (см. с. 67). Теряя самообладание, Ратч начинает говорить с немецким акцентом (см. с. 126). Все эти детали не были уничтожены при переиздании повести. В плане повести национальность Ратча охарактеризована: «Богемец (католик) родом», т. е. чех. В формулярном списке: «родился в Праге от довольно зажиточных родителей». Возможно, что немецкие черты Ратча являлись дополнительным штрихом, указывающим на его готовность приспосабливаться. Ратч – чех, приспособившийся сначала к онемечиванию, а затем готовый служить любому новому хозяину. В лице этого персонажа Тургенев вывел собирательный тип авантюриста – дельца, перебравшегося в Россию с целью наживы. Некоторые стороны биографии и характера Ратча напоминают Греча и Булгарина (например, упоминание о том, что он «В 1812 году < …> шпионил, получил какое-то вознаграждение» (см. формулярный список на с. 391–392 и ср. текст на с. 67).
От немки трое… – Уже в первоначальном плане и формулярном списке действующих лиц Тургенев определенно фиксирует тот факт, что от второго брака у Ратча четверо детей. В характеристике Элеоноры, например: «Четверо ее детей»; в плане – слова Ратча об именах детей: «Коля – 8, Оля – 7, Сашка – 4 и Машка – 2» (с. 390). В черновом и беловом автографах и в окончательном тексте всюду, за исключением данного места, фигурируют четверо детей Ратча от второго брака. Это противоречие не исправлено, однако, ни в одном прижизненном издании.
Я надворная советница – где же бы я могла получить дворянский титул? – По законам того времени получение чина коллежского асессора (VIII класса табели о рангах) давало права потомственного дворянства; Ратч имел чин надворного советника – VII класса, т. е. был уже потомственным дворянином, вместе с женой и детьми. Дворянство, получаемое по чину, сообщалось браком жене и детям.
Сумбека-царица. – Жена последнего казанского царя Сафа-Гирея (по летописи и историческим источникам Сююнбике), один из главных персонажей эпической поэмы М. М. Хераскова «Россиада», которую Тургенев хорошо знал с детства. Образ Сумбеки произвел большое впечатление на читателей и вызвал ряд подражаний: см., например, трагедию С. Н. Глинки «Сумбека, или Падение Казанского царства», которая шла в Петербурге и Москве в начале XIX в.
…где-то у Шекспира говорится о «белом голубе в стае черных воронов»… – «Ромео и Джульетта» Шекспира, акт I, сцена 5. Увидев Джульетту на балу в доме Капулетти, Ромео говорит о ней:
Голубь таков белоснежный средь стаи ворон,
Как она, эта дева, в толпе этих дев, этих жен…
(Перевод Ап. Григорьева, 1864).
…села близ окна,«как Татьяна»… – Намек на следующие строки III главы романа «Евгений Онегин»:
…Скажи, которая Татьяна?
– Да та, которая грустна
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна.
…пушкинский «Онегин» был тогда у каждого из нас в свежей памяти. – «Евгений Онегин» впервые вышел отдельным изданием в 1833 г.
Насладим ушеса честной компании! – В беловой рукописи Тургенев специально подчеркивал неправильность этого выражения Ратча и объяснял природу ошибки своего героя: После слова: «компании» было: «Г-н Ратч воображал, что „ушеса“ такое же славянское слово, как и „очеса“».
…вырывались выражения, подобные тем, которыми испещрены все ультранародные стихотворения князя Вяземского: «дока для всего», вместо «на всё», «здесь нам не обиход», «глядит в угоду, не напоказ». – В стихотворениях П. А. Вяземского, занимавшего в литературной борьбе, начиная с 1840-х годов, реакционную позицию и выступавшего против западничества и натуральной школы, Тургенев усматривал черты официальной народности и стилистические признаки ложновеличавой, псевдопатриотической литературы. В 1862 г. вышло собрание стихотворений Вяземского «В дороге и дома», подводившее итог его поэтической деятельности. Отсюда и цитирует Тургенев: «здесь нам не обиход» – из «Масленицы на чужой стороне» (у Вяземского – «Не место здесь тебе, не обиход»), «глядит в угоду, не напоказ» – из стихотворения «Немецкая природа» (у Вяземского – «Туристам записным в угоду, не напоказ глядит она») (см:. В дороге и дома. Собрание стихотворений князя П. А. Вяземского. М., 1862, с. 109 и 143). Сравнение характерного для Вяземского словоупотребления с псевдорусским стилем речи Ратча содержалось уже в формулярном списке героев. Тургенев, обычно уничтожавший в тексте своих художественных произведений прямые выражения своих литературных симпатий и антипатий, в данном случае нашел нужным сохранить полемический выпад против Вяземского.
…от Ленгольда ноты… – К. П. Ленгольд издавал ноты в Москве, с 1799 г. по 1822 г. с Г. Н. Рейнсдорпом, с 1830 г. – единолично.
Попурри из «Роберта-Дьявола» ~ …из той новой оперы, о которой теперь все так кричат. – Популярность оперы Д. Мейербера «Роберт-Дьявол» побудила многих издателей выпускать попурри на ее темы, переложения для фортепьяно и т. д. Впервые в России эта опера была поставлена в 1834 г. на сцене Большого театра в Петербурге (см.: ГозенпудА. Музыкальный театр в России от истоков до Глинки. Очерк. Л.: Музгиз, 1959, с. 736, а также: Вольф, Хроника,ч. II, с. 37 и след.).
Я принялся перелистывать последний № «Телескопа». – «Телескоп» – двухнедельный журнал, издававшийся в 1831–1836 годах Н. И. Надеждиным. Журнал этот пользовался популярностью в среде прогрессивно настроенной молодежи. В 1835–1836 годах в «Телескопе» постоянно печатал свои статьи и рецензии Белинский.
Виктор принялся говорить – о новом профессоре Р. – Каждую лекцию с переклички начинает, а еще либералом считается! – Виктор – студент Московского университета, очевидно юридического факультета («Мы были оба студентами, но находились на разных факультетах» – с. 75; «…я только что перешел со второго на третий курс „словесного“ факультета ~ в Московском университете» – с. 61). Новый профессор Р. – скорее всего П. Г. Редкин (1808–1891), занимавший должность профессора на юридическом факультете Московского университета с 1835 г. и читавший энциклопедию законов. Гегельянец, человек близкий к кружку Грановского и Герцена, Редкин увлекал молодежь красноречивым изложением либеральных, антикрепостнических идей, защитой политической свободы (см.: АшевскийС. Из истории Московского университета. – Мир божий, 1905, № 5, с. 132, а также: СеменовД. П. Г. Редкин. – Рус Ст,1891, № 8, с. 313, 326). «Помню только, что лекции Редкина о разных формах правления, о значении и формах конституционного устройства были и живы, и любопытны, и либеральны. Этим последним качеством (либерализмом) отличались, впрочем, все его лекции, и это-то особенно располагало нас в его пользу», – вспоминал А. Н. Афанасьев ( Рус Ст,1886, № 8, с. 366). Лекции Редкина зачастую сопровождались аплодисментами (см.: ПолонскийЯ. П. Мои студенческие воспоминания. – Нива. Ежемесячное литературное приложение, 1898, XII, с. 652). То обстоятельство, что Виктор Ратч пропускает лекции Редкина, является тонким и выразительным штрихом, характеризующим его как человека, чуждого самым благородным увлечениям университетской молодежи. «Строгий формалист» «в жизни», по отзыву того же Афанасьева, Редкин был беспощаден к ленивым и неспособным студентам (ср.: ЧичеринБ. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 37).