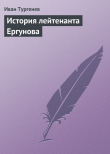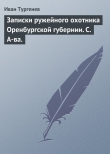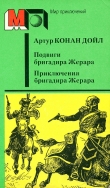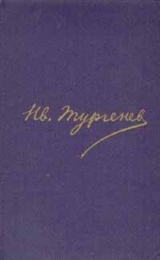
Текст книги "Том 8. Повести и рассказы 1868-1872"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 39 страниц)
Степной король Лир
Список действующих лицДействие в деревне – 1840 г.
р. 1772. Мартын Петрович Харлов [Матусов] – 68 лет.
р. 1817. Анна Мартыновна Слёткина – 23 лет
р. 1820. Евлампия Мартыновна Харлова – 20 лет } его дочери
р. 1812. Януарий Васильевич Слёткин – 28 лет.
р. 1794. [154]154
1801
[Закрыть]Филипп [155]155
а. Малахай б.Гавриил
[Закрыть]Кузьмич Житков – 46 лет.
р. 1826 [156]156
1825
[Закрыть]. Казачок Максимка – 14 лет.
Бывшая жена Харлова Маргарита Тимофеевна (Бычкова), род. 1800 [157]157
1806
[Закрыть], умерла в 1825 [158]158
а.1830 б.1832 в.1829
[Закрыть]. В<ышла> зам <уж> 1816 [159]159
1822
[Закрыть].
р. 1790. Наталья Николаевна *** – 50 лет.
р. 1795. Управляющий Квицинский – 45 лет.
р. 1824. Рассказчик – 16 [160]160
17
[Закрыть]лет.
р. 1790. «Сувенир» – Бычков, брат Маргариты – 50 лет.
Формулярный список лиц нового рассказаКарлсруэ, февраль 1869
1. Мартын Петрович Харлов.
Николай Сем<енович> Протасов – огромный толстый, голова как пивной котел, шеи нет, желто-седые волосы как копна, лицо красное с белыми чешуйками, нос багровый, шишковатый, небольшой, кривой растресканный рот, одного цвета с лицом, глаза крошечные, серо-голубые, голос сиплый и невнятный, как железные полосы, словно через овраг в сильный ветер кричит, руки темно-сизые, сила геркулесовская. В сером казакине, смазных сапогах, подпоясан ремешком. Ездит он на беговых дрожках – высокая, худая, гнедая кобыла – казачок тщедушный сзади. Хозяин порядочный, не пьяница, не злой, но совершенный дикарь, своевольный, не без тайного чувства своего дворянского рода, никакого образования – нигде не служил [161]161
После этого зачеркнуто:Прикончил французских солдат в лесу (он был в ополчении)
[Закрыть], был однако в ополчении – и медальку медную носит, французов не видел, но укокошил [162]162
приколотил
[Закрыть]каких-то мародеров [163]163
каких-то пленных
[Закрыть]в лесу. Рассказывает всё те же два-три анекдота, вообще говорит почти всё одно и то же, и то как-то обрядно – «благодетельнице нашей» и т. д.
Состояние: 34 души, земля хорошая, усадьба порядочная. Женился уже немолодым на воспитаннице матушки – женщине крохотной, которую он, говорят, в свой дом на ладони внес – употреблением загнал ее в чахотку. Считает матушку Н. Н. своей благодетельницей – она ему точно помогает, а он раз ее спас – удержал карету на краю пропасти. Анекдоты о нем: как с медведем встретился, телегу с мужиком и лошадью через плетень бросил и т. д. – Сдвинул биллиард с петлей долой. Страшная стихийная сила. Только может подписывать фамилию и для этого [164]164
Начато: вынимает из
[Закрыть]в доме у него водятся железные очки (раз привез их в деревню к нам, акт подписывать). У самого в конторе всё гвоздями прибито. Всегда ему жарко. Галстуха никогда не бывало – да и негде было бы его привязать. Спина – даже страшно что-то смотреть на нее. Швы несколько полопались. Уши, как калачи, оттопыренные щеками. Пахнет от него всегда дегтем и землей. Маленький картуз на вершине головы с заломанным козырьком. Так раз загаркал за зайцем, что у меня стон и звон целый день в ушах стоял [165]165
что я заболел
[Закрыть]. Ненавидит попов и в церковь ходит редко. Вообще многое презирает и по-своему страшно самолюбив. Считает себя потомком шведа Карла, который в княжение Ивана Васильевича Темного сделан русским дворянином за то, что не захотел быть чухонским графом. Спор по этому случаю с Сувениром. Откидывает по временам голову и выдвигает подбородок с тем вызывающим выражением, которое я вижу на человеке, что попадается мне на Фридрихплаце.
Походка странно не тяжелая, скорей, крадучись.
2. Владимир [166]166
Януарий
[Закрыть]Васильевич Слёткин.
Воспитанник матушки. Сирота – сын бывшего стряпчего, поверенного по делам. Фигурой похож на Е. К., только красивее. Мат<ушка> его звала в шутку жиденком. Очень бел, глаза черные сладкие, волосы курчавые, манеры вкрадчивые и мягкие, но при этом очень настойчив [167]167
После: настойчив – зачеркнуто: резок
[Закрыть], может раздражаться и даже из себя выходить, где затрагивает его выгоды. Тут даже до слез дело [168]168
дело вписано.
[Закрыть]доходит, – безнравственнейший, из него мог бы выйти убийца. В сущности ни перед чем не отступает, хищный и вполне бессовестный. Голосок крикливый и, как только не смеется, презловещее выражение в лице.
Сперва находился в роли казачка у м<атушк>и, был в уездном училище, потом в контору попал, – потом записали его на службу по магазинам. 23-х лет соблазнил старшую дочь Харлова и женился на ней. – Взять несколько черт из Л. И. Беккера, кэтика.
Скуп и расчетлив до невероятности, трудиться любит особенно и исключительно для себя: двадцать раз яйца перечтет, перемеряет холст. Грязновато одет; любит с ружьем таскаться, что-нибудь подтибрить («отправляйся ко мнев ягдташ»).
3. Анна Мартыновна Слёткина.
Фигура и лицо как у той женщины, которую я однажды видел в Кадном: бледно-смуглая, темно-русая, а глаза фаянсово-голубого цвета, нос прямой, тонкие губы и всё лицо злое и приятное в одно и то же время; маленькая, живая; руки крошечные. Умна и проницательна.
Очень строгая хозяйка – сошлась с мужем характером. – Голосок очень приятный и несколько жалобный [169]169
и несколько жалобный вписано.
[Закрыть], как у всех хищных птиц. Одета просто и чисто; на отца ни малейше не походит, на мать несколько [170]170
больше на мать.
[Закрыть]. Не любит выезжать и к матушке на поклон редко является. Бездетна. Как вспылит – злюка страшная: никак унять себя не может. В случае нужды даже была бы способна на преступление. Очень возбудительна [171]171
Далее зачеркнуто: физич<ески>
[Закрыть]для мужчин. Походка легкая, быстрая. – Получила по протекции матушки кое-какое воспитание в губернском пансионе; по-французски немножко говорит и на фортепьянах бренчит слегка, но без удовольствия.
4. Евлампия Мартыновна Харлова.
Эта похожа на отца, хоть и не дурна собой. Довольно высока, белокура; лицо ровно розового цвета, глаза огромные, выпуклые, стеклярусного вида, губы небольшие, но выпуклые тоже, нос с горбиной. Натура страстная до безумия – не злая, но способная на всяческие увлечения. Воспитания даже такого, как сестра, не получила; ленива, никакого расположения к хозяйству, к порядку, поет недурно, но дико. Совершенно довольствуется прозябаньем в деревенской сфере – не скучает; но, полюбив Слёткина, совсем отдалась ему – и тоже ничего не пожалеет. – Любит отца, который и ее любит, и, не будь Слёткина, не оскорбила бы его. Руки, ноги большие; неловка, но со всем тем возбудительна и она: грудь и плечи удивительные.
5. Гаврила Федулыч [172]172
Филиппыч
[Закрыть]Житков.
Кадетина, армейщина, дослужился до майора. Покровительствуем маменьк<ой>, перед которой он – один трепет! Глуп донельзя; велик ростом, нескладен; лицо какое-то лошадиное, оброс пыльно-белокурыми волосами – щеки все заросли. Сосед по имению матушки: втайне желал бы быть ее управляющим, а он беден и груб. Мужиков бьет по зубам. Это он понимает. – Ходит в мундирном сюртуке – перетянут. – Ужасный охотник до женских прелестей, но по глупости успевает мало. Хохот у него совершенное ржание. Вечно покрыт потом, как росинками.
6. Сувенир Бычков.
Настоящее имя его неизвестно. Прозван так матушкой, с которой он вместе вырос. Приживальщик (брат жены Харлова). Худенький, желтенький, с крошечным личиком – весь дряблый и развинченный, вроде Вейдбрехта. Смеется как-то жидко, точно бутылку полощут. Никакого чувства достоинства или стыда: меланхолически-тревожное подобострастие перед матушкой, а впрочем чистый оболтус. Поесть, посмеяться, выспаться – вот и всё. Пьет только по праздникам, и то дрянно. Вечно торчит где-нибудь в девичьей, у попов [173]173
Далее начато: у двор<овых?>
[Закрыть], у приказчика или в конторе. Одет в темно-серый сюртучок, такие же брюки и башмаки, на шее [174]174
Далее зачеркнуто: розовенькая
[Закрыть]старая косынка; должен до некоторой степени быть опрятным, особенно вечером, когда с матушкой в карты играет. – Сплетник, любопытен, как сорока. Непосед. Бывал бит, но переносил.
С одной стороны рта зубов нет, так что все лицо несколько скривилось. Очень презираем. Любимая поговорка: «А вот позвольте я сичас, сичас… да что сичас? [175]175
Далее зачеркнуто: Я сичас?
[Закрыть](руки назад)… как прикажете».
Трус естественный.
Меня взял с собою, когда послал его Харлов.
7. Г-н Квицинский.
Поляк управляющий. Фигура вроде К-го. Хитрец и делец, и матушку в руки забрал, и карман себе набьет. Деспотически-резкая натура.
8. Н-я Н-а.
Матушка.
9. Казачок Максимка.
Худосочный дворовый паренек, приплюснутый постоянным сиденьем за спиной Харлова. В замасленном казакине и парусиновых портках, ноги голые, которыми он, заткнув их назад, опирается в откосы беговых дрожек.
Примечания
Условные сокращения [176]176
В настоящем списке раскрываются условные сокращения, вводимые впервые.
[Закрыть]
Гончаров– Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми т. М.: Гослитиздат, 1952–1955.
Даль– Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 1–4.
Звенья– Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV–XX вв. / Под ред. В. Д. Бонч-Бруевича, А. В. Луначарского и др., т. I–VI, Academia; т. VIII–IX, Госкультпросветиздат. М.; Л., 1932–1951.
Mérimée– Mérimée Prosper. Correspondance générale. Etablie et annotée par Maurice Parturier. I série, tt. 1–6. Paris, «Le Divan», II série, t. 1–9. Toulouse, Privat.
Список иллюстраций
И. С. Тургенев. Фотография Тиссье, 1871 г. Фронтиспис.
«Бригадир». Обложка автографа с перенесенными на нее записями 1850-1860-х годов. Национальная библиотека, Париж
«Несчастная». Страница автографа формулярного списка действующих лиц. Национальная библиотека, Париж
«Степной король Лир». Страница чернового автографа. Национальная библиотека, Париж
«Несчастная». Черновой автограф окончания повести. Национальная библиотека, Париж
«Вешние воды». Первая страница наборной рукописи. Национальная библиотека, Париж
«Формулярный список лиц нового рассказа» («Степной король Лир»). Национальная библиотека, Париж
История лейтенанта Ергунова
Источники текста
Черновой автограф (глава I – середина VII). 7 с. Хранится в отделе рукописей Bibl Nat,Slave 75; описание см.: Mazon,p. 71; фотокопия – ИРЛИ,Р. I, оп. 29, № 329.
Беловой автограф. 54 с. Хранится в отделе рукописей Bibl Nat,Slave 84; описание см.: Mazon,p. 70; фотокопия – ИРЛИ,Р. I, оп. 29, № 312.
Рус Вестн,1868, № 1, с. 241–271.
Т, Соч, 1869,ч. 6, с. 211–250.
Т, Соч, 1874,ч. 6, с. 211–249.
Т, Соч, 1880,т. 8, с. 79–118.
Т, ПСС, 1883,т. 8, с. 76–119.
Впервые опубликовано: Рус Вестн,1868, № 1, с подписью: Ив. Тургенев.
Печатается по тексту Т, ПСС, 1883со следующими исправлениями по другим источникам:
Стр. 15, строка 11:«офицеру и дворянину» вместо «офицеру или дворянину» (по беловому автографу).
Стр. 33, строка 7:«влезать вслед за этим мальчиком» вместо «влезать за этим мальчиком» (по всем источникам до Т, Соч, 1880).
К работе над рассказом Тургенев приступил весной 1866 г. На обложке беловой рукописи помета: «Начат в течение 1866 года». 9 (21) апреля 1866 г. Тургенев сообщал Людвигу Пичу: «… я начал небольшую повесть – идет кое-как, капля по капле». Сюжетом рассказа Тургенев поделился с Полиной Виардо, и лишь в начале 1867 г. работа над ним завершилась. Писатель отмечал, что в это время у него возник ряд замыслов. 26 января (7 февраля) 1867 г. он писал П. Виардо: «Я каждое утро работаю, как негр, над тем маленьким рассказом, о котором я вам говорил; если так будет продолжаться, я окончу его ко дню отъезда и мне удастся прочесть его вам в Берлине < …> Сегодня утром я опять работал, но не так хорошо. Я стал немного похож на вас; в голове целый рой замыслов < …> Но я буду упорствовать и не возьмусь ни за что, пока первый не будет окончательно разработан…». Замысел произведения расширялся, в рассказ включались новые и новые эпизоды. Тургенев вспоминал в письме к Я. П. Полонскому от 6 (18) марта 1868 г.: «… я ни над одной вещью так не бился, три раза переписал ее, подлую!» Особенно много и продуктивно трудился он 1 (13) февраля 1867 г.
В пометах Тургенева, фиксирующих время окончания работы над рассказом, отразилось исключительное творческое напряжение, которым сопровождалось завершение этого произведения. «Кончен в Баден-Бадене, Schillerstraße, в четверг 2 / 14 фев<раля> 1867 г. (NB. Последние 22 страницы написаны в один день)» – стоит на обложке белового автографа. В конце рукописи л. 52 значится «Баден-Баден. Schillerstraße, 277, в ночь с 1 / 13 на 2 / 14 февраля, с середы на четверг в 3 / 4 1-го». На следующий день писатель сообщал П. Виардо: «Пользуюсь моим небольшим досугом и работаю с ожесточением; вчера провел 11 часов, – повторяю: одиннадцать часов, – за писанием. Я написал тот причудливый рассказ, о котором вам говорил и который принял более значительные размеры, нежели я предполагал сначала».
Тургенев неоднократно отмечал, что работал над рассказом с подъемом: «Я всё это время работал так, что сам на себя удивляюсь. Я сгораю от нетерпения прочесть Вам, что я сделал», – писал он П. Виардо 6 (18) февраля 1867 г., а 8 (20) февраля извещал уже своих адресатов П. В. Анненкова и Н. Н. Рашет о том, что рассказ «окончен и переписан». Дошедшая до нас часть чернового автографа рассказа свидетельствует об относительной легкости и быстроте работы над ним автора (сравнительно небольшое количество вставок и исправлений, небрежная скоропись почерка). Впрочем, не исключена возможность, что этот черновой автограф представляет уже копию с предшествовавшего ему варианта. Тургенев вписывает на полях рукописи дополнения, характеризующие рассказ Ергунова (см. главу I, с. 7 – «со всеми ее подробностями – недомолвки и пропуски») и самого Ергунова. Например, в III главе: «Начальство выдало ему, как надежному [177]177
В черновом автографе – первоначально – «благонадежному».
[Закрыть]и благоразумному офицеру, довольно значительную сумму» (ср. с. 8). Дополнения характеристики Ергунова сводились к тому, чтобы возможно более подчеркнуть его «благонадежную» ограниченность и прозаическую серость. Так, в качестве вставки на полях появились слова о Ергунове: «Книг он никаким образом читать не мог, потому что от них у него тотчас делались приливы к голове. Он очень был полнокровного расположения и даже каждую весну принимал по этому случаю особый декокт». В переделанном виде это вошло и в окончательный текст (ср. с. 8). В целом же образ Ергунова, данный в привычных для Тургенева еще со времен его работы над «Записками охотника» «гоголевских тонах», легко и сразу складывался в повести.
Гораздо больше колебаний и поисков, дополнений и зачеркиваний можно отметить в эпизодах, рисующих Эмилию и ее окружение. На полях чернового автографа появились такие существенные элементы ее характеристики, как немецкое слово, вставленное в ее речь, разговор ее с Ергуновым, дающий первый сигнал о ее корыстных умыслах: «– Что же, у вас большое жалование? – Нет, не очень» (ср. в окончательном тексте с. 13). На полях рукописи находятся и другие слова Эмилии, свидетельствующие о ее склонности вымогать подарки: «А у меня есть гитара, только струны порваны. Надо будет купить. Вы мне дадите денег?» (ср. в окончательном тексте с. 14). Следует отметить также, что Тургенев не сразу стал делить свой рассказ на главы. Лишь затем – и сначала на полях – появились номера глав. IV глава уже обозначена в тексте.
В беловой рукописи, начало которой (листы 1-19) почти не содержит исправлений, Тургенев затем стал производить обычные для него поправки и вписывания. Характерно, что в этих новых исправлениях он шел по тому же пути, что и в процессе работы над черновой рукописью рассказа. Наибольшей доработки потребовали эпизоды, рисующие свидания Ергунова с девушками в притоне авантюристов (XI, XIV, XV, XVI и XX главы окончательного текста). Разрабатывая образы Эмилии и Колибри, а также эпизоды, рисующие пребывание Ергунова в доме Фритче, Тургенев обогащал и разнообразил лексику своего рассказа. Рукописи «Истории лейтенанта Ергунова» отражают процесс формирования языковых характеристик героев и дают возможность проследить, как писатель добивается в данном рассказе эффекта использования иноязычных речений для воссоздания облика многонациональной среды [178]178
См.: ЦейтлинА. Г. Мастерство Тургенева-романиста. М., 1958, с. 328–335; АлексеевМ. П. Письма И. С. Тургенева. – Т, ПСС и П, Письма,т. I, с. 68.
[Закрыть]. Главы, содержащие изображение бреда Ергунова, которые сам Тургенев считал средоточием смысла рассказа (см. его письмо М. В. Авдееву от 13 (25) января 1870 г.), в беловой рукописи совершенно не подверглись исправлениям. Можно предположить, что и на первоначальной стадии работы писатель создал их легко, без большой стилистической правки, так как они входят в те «последние двадцать две страницы» рассказа, которые были написаны в течение одного дня.
Работа Тургенева над текстом рассказа в беловой рукописи, а также и при включении его в собрание сочинений, сводилась к внесению дополнительных подробностей в характеристику Эмилии, значительных новых черт в портрет Колибри, в эпизоды свиданий Ергунова с нею, а также в описания жилища девушек. Отметим, что некоторые уточнения, содержащиеся в тексте белового автографа, были затем изъяты автором по разным соображениям. Следовавшие за фразой: «Влюбчивый лейтенант сблизился с Эмилией» – слова: «вступил с ней в самые короткие отношения» (вариант к с. 17) – были исключены автором, по-видимому, после того, как друзья, слушавшие рассказ в его чтении, нашли некоторые его ситуации «рискованными». По соображениям автоцензуры, возможно, были выброшены и слова, следовавшие за фразой «… Кузьма Васильевич не прекращал своих посещений, а, напротив, учащал их»: «внутренне он – в качестве дворянина и офицера – возмущался неоднократно, а на деле утешался тем, что главной цели достиг, денег не тратил…» (вариант к с. 17).
15 (27) февраля 1867 г. Тургенев сообщал В. П. Боткину как об окончании «Дыма», так и о завершении работы над «Ергуновым» и выражал намерение лично привезти эти произведения в Петербург, с тем чтобы прочесть «литературной – или нет – критической братье».
Сразу по возвращении на родину – 26 февраля (10 марта) 1867 г. Тургенев прочел свой рассказ в Петербурге, в критическом «ареопаге» знакомых литераторов. Присутствовавшие – В. П. Боткин, П. В. Анненков, Б. М. Маркевич и В. А. Соллогуб одобрили рассказ, хотя и сделали автору некоторые замечания.
В Москве Тургенев читал «Историю лейтенанта Ергунова» у М. Н. Каткова и кн. Е. А. Черкасской. Чтения эти, особенно первое, имели своей целью главным образом ускорение публикации рассказа. Достигнув договоренности по этому вопросу с Катковым, Тургенев воспринимал ее как «компенсацию» за неприятную ему необходимость общаться с консервативной аудиторией, самые похвалы которой вызывали у него не чувство удовлетворения, а сомнения в достоинствах произведения. Именно эти ноты звучат в письме к П. Виардо от 20 марта (1 апреля) 1867 г.: «Вчера вечером мне пришлось читать мою новую маленькую повесть у Каткова. Было много малосимпатичной публики < …> Безделица моя, кажется, понравилась. Катков просил меня оставить ее для своего журнала, это главное». Любопытно, что 26 марта 1867 г. на 233 публичном заседании «Общества любителей российской словесности» Г. В. Кугушев прочел «Историю лейтенанта Ергунова» – по рукописи (см.: Общество любителей российской словесности… Историческая записка и материалы за сто лет. М., 1911. Приложения, с. 121).
Очевидно, после чтений в Петербурге и Москве рассказ был еще раз переписан, так как в это время на полях белового автографа была сделана вставка в роман «Дым» (см. примечания к роману – наст. изд., т. 7, с. 523). 6 мая 1867 г. за восемь месяцев до публикации рассказа, на поля белового автографа был также перенесен текст письма для «Бригадира» (см. примечания к этому рассказу). Таким образом, уже в первые месяцы 1867 г. писатель перестал рассматривать эту рукопись как источник для публикации «Истории лейтенанта Ергунова».
Расхождение Тургенева с Катковым, заставившее писателя впоследствии пренебречь высокими гонорарами «Русского вестника» и полностью отказаться от участия в этом издании, еще только наметилось.
На следующий день – 21 марта (2 апреля) – Тургенев сообщал П. В. Анненкову о чтении и договоренности своей с Катковым относительно печатания рассказа, но ни словом не упомянул об успехе его. Очевидно, вещь эта встретила и сопротивление ряда лиц, слышавших ее чтение в Москве, так как Тургенев утверждал впоследствии, что «о ее безнравственности заранее раструбили в публике», и сомневался в том, что Катков остается при своем намерении печатать рассказ (см. письмо Тургенева к Анненкову от 23 сентября (5 октября) 1867 г.).
Только вновь выяснив намерения редактора «Русского вестника», Тургенев выслал рассказ в Москву. При этом он внес изменения в свое произведение, учитывающие критику слушателей, и сообщал Каткову, что рассказ несколько переделан, «сглажен» (письмо от 19 ноября (1 декабря) 1867 г.).
31 декабря 1867 г. (12 января 1868 г.) Тургенев обращается к Кетчеру с просьбой держать корректуру рассказа в «Русском вестнике», замечая: «…рукопись моя на этот раз написана мною особенно старательно и четко».
В письме к Каткову от 17 (29) января 1868 г. писатель выражал уверенность, что рукопись его получена в редакции «Русского вестника», и просил напечатать двенадцать отдельных оттисков. 12 (24) февраля 1868 г., уже получив номер журнала с рассказом, Тургенев повторяет Каткову просьбу о присылке оттисков, отмечая попутно, что рассказ напечатан «очень исправно, без опечаток». Включая рассказ в Собрание сочинений в 1869 г., Тургенев внес в его текст некоторые изменения стилистического характера. В письме к В. Рольстону от 21 июля (2 августа) 1869 г. он предупреждал, что в собрании сочинений «История лейтенанта Ергунова» появится «с небольшими добавлениями и исправлениями». Это предупреждение было необходимо ввиду того, что переводы «Истории лейтенанта Ергунова» делались в значительной части случаев по журнальным публикациям (Рольстон переводил произведения Тургенева на английский язык).
Сразу после окончания рассказа Тургенев перевел его на французский язык для П. Виардо (см. его письмо певице от 27 февраля (11 марта) 1867 г.). Затем этот перевод был отредактирован – по-видимому, с помощью Л. Виардо – и напечатан в «Revue des Deux Mondes», 1868, 1 апреля под заглавием: «L’Aventure du lieutenant Yergounof». Тургенев сам держал корректуру (см. его письмо П. В. Анненкову от 5 (17) марта 1868 г.). Ввиду отсутствия в Париже Мериме, который в этот период редактировал переводы его произведений на французский язык, Тургенев просил просмотреть первую корректуру (гранки) перевода М. Дюкана (см.: письмо от 16 февраля 1868 г.). 28 марта (9 апреля) 1868 г. Тургенев сообщал Анненкову о французской публикации своего рассказа, расценивая появление его в столь авторитетном издании как свидетельство своей европейской популярности: «честь, которая < …> досталась, кроме меня, одному Г. Гейне».
Ознакомившись с «Историей лейтенанта Ергунова» в «Revue des Deux Mondes», П. Мериме выражал сожаление, что Тургенев не поручил ему просмотреть перевод, который, по его мнению, следовало бы лучше отредактировать (см. письмо Мериме Тургеневу от 29 апреля 1868 г. – Mérimée,II, 8, p. 121). Этим замечанием Мериме Тургенев воспользовался, когда принял решение издать на французском языке сборник своих рассказов. Во время пребывания в Париже Мериме, по просьбе Тургенева, просмотрел корректуру французского перевода «Истории лейтенанта Ергунова» и отослал ее издателю Ж. Этцелю (см. письмо Мериме Тургеневу от 1 (13) мая 1869 г. – там же, с. 489, 491).
В текст перевода были внесены при этом небольшие исправления. «История лейтенанта Ергунова», вместе с другими рассказами Тургенева («Ася», «Бригадир» и др.), появилась в сборнике «Nouvelles moscovites». J. Hetzel, Paris, <1869> в переводе автора, под названием: «Histoire du lieutenant Yergounof» [179]179
См.: ГороховаР. М. К истории издания сборника Тургенева «Nouvelles moscovites». – Т сб,вып. 1, с. 257–260, 267–269.
[Закрыть]. Тургенев сам правил корректуру. 18 (30) мая 1869 г., после ознакомления с готовой книгой, он сообщил Ж. Этцелю об обнаруженной им анекдотической опечатке. В середине июня 1868 г. П. Виардо выслала Л. Пичу для Ю. Шмидта французский перевод «Истории лейтенанта Ергунова», напечатанный в «Revue des Deux Mondes», для осуществления перевода рассказа на немецкий язык. Перевод этот, сделанный Ю. Шмидтом, был отредактирован Л. Пичем и опубликован в немецком собрании сочинений Тургенева, выходившем в Митаве (Iwan Turgénjew’s Ausgewählte Werke. Autorisierte Ausgabe. Mitau, Behre’s Verlag, 1869. Bd. II, 2 изд. 1881).
Верный своему договору с издателем Бере, Тургенев авторизовал немецкий перевод, прочтя его корректуру и исправив его («обнаружены только 3 ошибки», – писал он Л. Пичу 20 мая (1 июня) 1869 г.). Л. Пич оказался одним из немногих почитателей Тургенева, отозвавшихся об «Истории лейтенанта Ергунова» с похвалой: «Я рад, что вам понравились „Fumée“ и бесенок в „Лейтенанте“», – писал ему Тургенев 15 (27) мая 1868 г. [180]180
О немецких переводах этой новеллы и других произведений Тургенева 60-х – 70-х гг. см.: DornacherKlaus. Bibliographie der deutschsprachigen Buchausgaben der Werke I. S. Turgenevs 1854–1900. – Pädagogische Hochschule «Karl Liebknecht». Potsdam, 1975, Heft 2, S. 285–292.
[Закрыть]
«История лейтенанта Ергунова» была переведена на шведский язык и опубликована в 1876 г., затем последовали новые ее переводы: Гельсингфорс, 1885; Стокгольм, 1889. Произведение это обратило на себя внимание шведских читателей и литераторов. Хеннинг Бергер, известный шведский прозаик, в начале своего творческого пути создал повесть «Исаиль» («Isail», 1905), представляющую собою подражание Тургеневу. Он заимствовал сюжет и ряд характеров из «Истории лейтенанта Ергунова», но перенес действие в Чикаго (см.: LagerstedtS. Drömmaren från Norrlandsgatan. En studie i Henning Bergers liv och författarskap. Stockholm, 1963, s. 212, 283; ШаpыпкинД. М. Русская литература в Скандинавских странах. Л., 1975, с. 129).
Отзывы русской критики своей малочисленностью, беглостью и нарочитой небрежностью глубоко огорчали писателя. Именно таков был отзыв газеты «Голос», издававшейся А. А. Краевским (1868, 16 (28) февраля, № 47). Газета считала, что в произведении Тургенева передана «одна из самых обыкновенных историй», и, называя его «очерком», весь его интерес усматривала в сказе, которым ведется повествование об этом «незатейливом случае».
Критику «Голоса» вторил критик газеты «Русский инвалид». В «Журнальных и библиографических заметках» он писал: «Г-н Тургенев, кажется, возвращается назад, судя по двум новым его произведениям: „Бригадир“ (в 1-й кн. „Вестника Европы“) и „История лейтенанта Ергунова“ (1-я кн. „Русского вестника“). В изложении – прежнее мастерство, и это единственное достоинство этих рассказов; между тем как от г. Тургенева мы привыкли ожидать не пустых и старых анекдотов, как „История лейтенанта Ергунова“ < …> история, быть может, действительно случившаяся, ибо ее рассказывают даже няньки и мамки» (Русский инвалид, 1868, № 52, 24 февраля (7 марта)).
На основании подобных отзывов писатель считал, что рассказ потерпел фиаско: «Не без уныния, но и не без философической твердости узнал я о судьбе, постигшей „Историю лейтенанта“, которая < …> провалилась», – писал он П. В. Анненкову 28 марта (9 апреля) 1868 г. Не могли утешить Тургенева и утверждения большинства критиков, что рассказ написан с обычным для него мастерством, поскольку за этими рассуждениями как подтекст стояла мысль о ничтожестве содержания его рассказа. Так, например, газета «С.-Петербургские ведомости» заявляла, что лишь «такой тонкий художник, как г. Тургенев, мог из столь пустенького сюжета сделать такую артистически-изящную литературную вещицу». Внимание публики к рассказам Тургенева, в частности к «Истории лейтенанта Ергунова», критик «С.-Петербургских ведомостей» объяснял былой славой писателя: «Счастлив писатель, ставший любимцем публики. Каждая строка такого писателя ценится публикою < …>, каждый рассказец его, будь он даже в две с половиною странички, привлекает к себе общее внимание, возбуждает толки и сопровождается похвалами. Всё это пришло мне на мысль по прочтении нового рассказа г. Тургенева в январской книжке „Русского вестника“» ( СПб Вед,1868, 24 февраля (7 марта), № 53).
Не все читатели и критики произведений Тургенева признавали даже чисто литературные достоинства рассказа «История лейтенанта Ергунова». Критик П. М. Ковалевский заявлял, что рассказ написан Тургеневым «впопыхах и фельетонно». Это мнение, сообщенное Тургеневу Полонским, поразило писателя своей несправедливостью. В письмах к М. В. Авдееву от 18 (30) апреля 1868 г. и 13 (25) января 1870 г. он защищал свое произведение от этих нападок и раскрывал те психологические задачи, которые ставил перед собой, создавая его. Особенное српротивление вызывали у него попытки мистического истолкования рассказа. «…что собственно мистическогов „Ергунове“, я понять не могу – ибо хотел только представить незаметностьперехода из действительности в сон, что всякий на себе испытал; но могу Вас уверить, что меня исключительно интересует одно: физиономия жизни и правдивая ее передача; а к мистицизму во всех его формах я совершенно равнодушен…», – писал Тургенев М. В. Авдееву 13 (25) января 1870 г.
…в тогда еще новом городе Николаеве… – Николаев был основан в 1789 г.