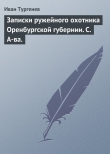Текст книги "Том 8. Повести и рассказы 1868-1872"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 39 страниц)
– Как так?
– Да так же. О хлыстах-раскольниках – вот что без попов живут – небось слыхали?
– Слыхал.
– Ну вот тут их главная матка обретается.
– Женщина?
– Да, матка; богородица по-ихнему.
– Что вы?!
– Я ж вам говорю. Строгая, говорят, такая… Командирша! Тысячами ворочает! Взял бы я да всех этих богородиц… Да что толковать!
Он позвал своего Пегашку, удивительную собаку, с превосходным чутьем, но без всякого понятия о стойке. Викулов принужден был подвязывать ей заднюю лапу, чтоб она не так неистово бегала.
Слова его запали мне в память. Я, бывало, нарочно сворачивал в сторону, чтобы пройти мимо таинственного дома. Вот однажды поравнялся я с ним, как вдруг – о чудо! засов загремел за воротами, ключ завизжал в замке, потом самые ворота тихонько растворились – показалась могучая лошадиная голова с заплетенной челкой под расписной дугой – и не спеша выкатила на дорогу небольшая тележка вроде тех, в которых ездят барышники и наездники из купцов. На кожаной подушке тележки, ближе ко мне, сидел мужчина лет тридцати, замечательно красивой и благообразной наружности, в опрятном черном армяке и низко на лоб надетом черном картузе; он степенно правил откормленным, как печь широким конем; а рядом с мужчиной, по ту сторону тележки, сидела женщина высокого роста, прямая как стрела. Голову ее покрывала дорогая черная шаль; одета она была в короткий бархатный шушун оливкового цвета и темно-синюю мериносовую юбку; белые руки, чинно сложенные у груди, поддерживали друг дружку. Тележка завернула по дороге налево – и женщина очутилась в двух шагах от меня; она слегка повела головою, и я узнал Евлампию Харлову. Я узнал ее немедленно, я ни единого мгновения не колебался, да и нельзя было колебаться; таких глаз, как у ней – и особенно такого склада губ, надменного и чувственного, – я ни у кого не видывал. Лицо ее стало длиннее и суше, кожа потемнела, кой-где виднелись морщины; но особенно изменилось выражение этого лица! Трудно передать словами, до чего оно стало самоуверенно, строго, горделиво! Не простым спокойствием власти – пресыщением власти дышала каждая черта; в небрежном взоре, который она на меня уронила, сказывалась давнишняя, застарелая привычка встречать одну благоговейную, безответную покорность. Эта женщина, очевидно, жила, окруженная не поклонниками – а рабами; она, очевидно, даже забыла то время, когда какое-либо ее повеление или желание не было тотчас исполнено! Я громко назвал ее по имени и по отчеству; она чуть-чуть дрогнула, вторично посмотрела на меня – не с испугом, а с презрительным гневом: кто, мол, смеет меня беспокоить? – и, едва раскрыв губы, произнесла повелительное слово. Сидевший рядом с ней мужчина встрепенулся, с размаха ударил вожжой по лошади, та двинулась вперед шибкой и крупной рысью – и телега скрылась.
С тех пор я не встречал более Евлампии. Каким образом дочь Мартына Петровича попала в хлыстовские богородицы – я и представить себе не могу; но кто знает, быть может, она основала толк, который назовется или уже теперь называется по ее имени – евлампиевщиной? Всё бывает, всё случается.
И вот что я имел сказать вам о моем степном короле Лире, о семействе его и поступках его».
Рассказчик умолк – а мы потолковали немного да и разошлись восвояси.
Стук… стук… стук!
Студия
I
…Мы все уселись в кружок – и Александр Васильевич Ридель, наш хороший знакомый (фамилия у него была немецкая, но он был коренной русак), – Александр Васильевич начал так:
– Я расскажу вам, господа, историю, случившуюся со мной в тридцатых годах… лет сорок тому назад, как видите. Я буду краток, а вы не прерывайте меня.
Я жил тогда в Петербурге – и только что вышел из университета. Мой брат служил в конной гвардейской артиллерии прапорщиком. Батарея его стояла в Красном Селе – дело было летом. Брат квартировал собственно не в Красном Селе, а в одной из окрестных деревушек; я не раз гостил у него и перезнакомился со всеми его товарищами. Он помещался в довольно опрятной избе вместе с другим офицером его батареи. Звали этого офицера Теглевым, Ильей Степанычем. С ним я особенно сблизился.
Марлинский теперь устарел – никто его не читает и даже над именем его глумятся; но в тридцатых годах он гремел * , как никто, – и Пушкин, по понятию тогдашней молодежи, не мог идти в сравнение с ним. Он не только пользовался славой первого русского писателя; он даже – что гораздо труднее и реже встречается – до некоторой степени наложил свою печать на современное ему поколение. Герои à la Марлинский попадались везде, особенно в провинции и особенно между армейцами и артиллеристами; они разговаривали, переписывались его языком; в обществе держались сумрачно, сдержанно – «с бурей в душе и пламенем в крови», как лейтенант Белозор «Фрегата Надежды» * . Женские сердца «пожирались» ими. Про них сложилось тогда прозвище: «фатальный». Тип этот, как известно, сохранялся долго, до времен Печорина. Чего-чего не было в этом типе? И байронизм, и романтизм; воспоминания о французской революции, о декабристах – и обожание Наполеона; вера в судьбу, в звезду, в силу характера, поза и фраза – и тоска пустоты; тревожные волнения мелкого самолюбия – и действительная сила и отвага; благородные стремленья – и плохое воспитание, невежество; аристократические замашки – и щеголяние игрушками… Но, однако, довольно философствовать… Я обещался рассказывать.
II
Подпоручик Теглев принадлежал к числу именно таких «фатальных» людей, хотя и не обладал наружностью, обыкновенно этим личностям присвояемой: он, например, нисколько не походил на лермонтовского «фаталиста». Это был человек среднего роста, довольно плотный, сутуловатый, белокурый, почти белобрысый; лицо имел круглое, свежее, краснощекое, вздернутый нос, низкий, на висках заросший лоб и крупные, правильные, вечно неподвижные губы: он никогда не смеялся, не улыбался даже. Лишь изредка, когда он уставал и задыхался, выказывались четырехугольные зубы, белые, как сахар. Та же искусственная неподвижность была распространена по всем его чертам: не будь ее, они бы являли вид добродушный. Во всем его лице не совсем обыкновенны были только глаза, небольшие, с зелеными зрачками и желтыми ресницами: правый глаз был чуть-чуть выше левого, и на левом глазу века поднималась меньше, чем на правом, что придавало его взору какую-то разность, и странность, и сонливость. Физиономия Теглева, не лишенная, впрочем, некоторой приятности, почти постоянно выражала неудовольствие с примесью недоумения: точно он следил внутри себя за невеселой мыслию, которую никак уловить не мог. Со всем тем он не производил впечатления гордеца: его скорей можно было принять за обиженного, чем за гордого человека. Говорил он очень мало, с запинками, сиплым голосом, без нужды повторяя слова. В противность большей части фаталистов, он особенно вычурных выражений не употреблял – и прибегал к ним только на письме; почерк имел совершенно детский. Начальство считало его офицером – «так себе», не слишком способным и не довольно усердным. «Есть пунктуальность, но аккуратности нет», – говорил о нем бригадный генерал немецкого происхождения. И для солдат Теглев был «так себе» – ни рыба ни мясо. Жил он скромно, по состоянию. Девяти лет от роду он остался круглым сиротою: отец и мать его утонули весною, в половодье, переправляясь на пароме через Оку. Он получил воспитание в частном пансионе, где считался одним из самых тупых и самых смирных учеников; поступил, по собственному настоятельному желанию и по рекомендации двоюродного дяди, человека влиятельного, юнкером в гвардейскую конную артиллерию – и, хотя с трудом, однако выдержал экзамен сперва на прапорщика, потом на подпоручика. С другими офицерами он находился в отношениях натянутых. Его не любили, посещали его редко – и сам он почти ни к кому, не ходил. Присутствие посторонних людей его стесняло; он тотчас становился неестественным, неловким… в нем не было ничего товарищеского – и ни с кем он не «тыкался». Но его уважали; и уважали его не за его характер или ум и образованность, а потому, что признавали на нем ту особенную печать, которою отмечены «фатальные» люди. «Теглев сделает карьеру, Теглев чем-нибудь отличится» – этого никто из его сослуживцев не ожидал; но «Теглев выкинет какую-нибудь необыкновенную штуку» или «Теглев возьмет да вдруг выйдет в Наполеоны» – это не считалось невозможным. Потому, тут действует «звезда» – и человек он с «предопределением», как бывают люди «со вздохом» и «со слезою».
III
Два случая, ознаменовавшие самое начало его офицерской службы, много способствовали к упрочению за ним его фатальной репутации. А именно:
В самый первый день его производства – около половины марта месяца – он, вместе с другими, только что выпущенными офицерами, шел в полной парадной форме по набережной. В тот год весна наступила рано, Нева вскрылась; большие льдины уже прошли, но всю реку запрудил мелкий, сплошной, пропитанный водою лед. Молодые люди разговаривали, смеялись… Вдруг один из них остановился: он увидал на медленно двигавшейся поверхности реки, шагах в двадцати от берега, небольшую собачку. Взобравшись на выдававшуюся льдину, она дрожала всем телом и визжала. «А ведь она погибнет», – проговорил офицер сквозь зубы. Собачку тихонько проносило мимо одного из спусков, устроенных вдоль набережной. Вдруг Теглев, ни слова не говоря, сбежал по этому самому спуску – и, перепрыгивая по тонкому льду, проваливаясь и выскакивая, добрался до собачки, схватил ее за шиворот и, благополучно вернувшись на берег, бросил ее на мостовую. Опасность, которой подвергался Теглев, была так велика, поступок его был так неожидан, что товарищи его словно окаменели – и только тогда заговорили все разом, когда он подозвал извозчика, чтобы ехать к себе домой; весь мундир на нем был мокр. В ответ на их восклицания Теглев равнодушно промолвил, что кому что на роду написано, тот того не минует, – и велел извозчику ехать.
– Да ты собаку-то возьми с собой на память, – крикнул один из офицеров. Но Теглев только рукой махнул – и товарищи его переглянулись в молчаливом изумлении.
Другой случай произошел несколько дней спустя, на карточном вечере у батарейного командира. Теглев сидел в углу и не участвовал в игре. «Эх, кабы мне, как в пушкинской „Пиковой даме“, бабушка наперед сказала, какие карты должны выиграть!» – воскликнул один прапорщик, спускавший свою третью тысячу. Теглев молча приблизился к столу, взял колоду, снял и, проговорив: «Шестерка бубен!» – перевернул колоду: внизу была шестерка бубен. «Туз треф!» – провозгласил он и снял опять: снизу оказался туз треф. «Король бубен!» – промолвил он в третий раз сердитым шёпотом, сквозь стиснутые зубы – отгадал в третий раз… и вдруг весь покраснел. Вероятно, он сам этого не ожидал. «Отличный фокус! Покажите-ка еще», – заметил батарейный командир. «Я фокусами не занимаюсь», – сухо ответил Теглев и вышел в другую комнату. Каким образом это так случилось, что он заранее отгадывал карту, – я растолковать не берусь; но видел я это собственными глазами. После него многие из присутствовавших игроков пытались сделать то же самое – и никому оно не удалось: однукарту еще иной и угадает; но уже две сряду – никак. А у Теглева вышло целых три! Этот случай еще более утвердил за ним репутацию таинственного, фатального человека. Мне после часто приходило на ум, что не удайся ему фокус с картами – кто знает, какой бы она приняла оборот и как бы он сам взглянул на себя; но эта неожиданная удача окончательно решила дело.
IV
Понятно, что Теглев тотчас ухватился за эту репутацию. Она придавала ему особое значение, особый колорит… «Cela le posait» [82]82
Это давало ему положение (франц.).
[Закрыть], как выражаются французы, – и при небольшом его уме, незначительных познаниях и громадном самолюбии такая репутация приходилась ему как раз под руку. Заслужить ее было трудно, а поддержать ее – ничего не значило: стоило только молчать и дичиться. Но не в силу этой репутации я сошелся с Теглевым и, можно сказать, полюбил его. Полюбил я его, во-первых, потому, что сам был порядочный дичок и видел в нем собрата; а во-вторых, и потому, что человек он был добрый и в сущности очень простосердечный. Он внушал мне нечто вроде сожаления; мне казалось, что, помимо его напускной фатальности, над ним действительно тяготеет трагическая судьба, которой он сам не подозревает. Разумеется, этогочувства я ему не высказывал: внушать сожаление – может ли быть обида хуже для «фатального» человека? И Теглев чувствовал расположение ко мне: со мной было ему легко, со мной он разговаривал – в моем присутствии он решался покидать тот странный пьедестал, на который не то попал, не то взобрался. Мучительно, болезненно самолюбивый, он, вероятно, все-таки сознавал в глубине души своей, что ничем не оправдывает своего самолюбия – и что другие, пожалуй, могут смотреть на него свысока… а я, девятнадцатилетний мальчик, не стеснял его; страх сказать что-нибудь неумное, неуместное при мне не сжимал его вечно настороженного сердца. Он даже иногда впадал в болтливость; и благо ему, что никто, кроме меня, не слыхал его речей! Его репутация недолго бы удержалась. Он не только знал очень мало – он почти ничего не читал и ограничивался тем, что набирался подходящих анекдотов и историй. Он верил в предчувствия, предсказания, приметы, встречи, в счастливые и несчастные дни, в преследование или благоволение судьбы, в значительность жизни, одним словом. Он даже верил в какие-то «климатерические» годы, о которых кто-то упомянул при нем и значение которых он сам не понимал хорошенько. Фатальным людям настоящего закала не следует выказывать подобные верованья: они должны внушать их другим… Но Теглева с этойстороны знал я один.
V
Однажды, помнится, в самый Ильин день, 20 июля, я поехал гостить к брату – и не застал его: на целую неделю куда-то его откомандировали. Вернуться в Петербург я не хотел; потаскался с ружьем по окрестным болотцам, убил парочку бекасов, а вечер провел с Теглевым под навесом пустого сарая, в котором он устроил, как он выражался, летнюю свою резиденцию. Мы покалякали кой о чем, а впрочем, большей частью пили чай, курили трубки и разговаривали то с хозяином, обрусевшим чухонцем, то с мотавшимся около батареи разносчиком, продавцом «пельцинов, лимонов хоро-о-ших», милым человеком и балагуром, который, кроме других талантов, умел играть на гитаре и рассказывал нам о несчастной любви, которую он в «младости» питал к дочери хожалого. Войдя в лета, этот Дон-Жуан в александрийской рубахе уже не знал несчастных привязанностей. Перед воротами нашего сарая расстилалась, постепенно углубляясь, широкая равнина; маленькая речка блистала местами в извилинах ложбин; дальше, на небосклоне виднелись низкие леса. Ночь приближалась, и мы остались одни. Вместе с ночью спускался на землю тонкий сырой пар, который, всё более и более разрастаясь, превратился, наконец, в густой туман. На небо взошел месяц: весь туман проникнулся насквозь и как бы позлатился его сиянием. Всё странно передвинулось, закуталось и смешалось; далекое казалось близким, близкое далеким, большое малым, малое большим… Всё стало светло и неясно. Мы словно перенеслись в сказочное царство, в царство бело-золотистой мглы, тишины глубокой, чуткого сна… И как таинственно, какими серебристыми искорками сквозили сверху звезды! Мы оба умолкли. Фантастический облик этой ночи подействовал на нас: он настроил нас на фантастическое.
VI
Теглев первый заговорил, с обычными запинками, недомолвками и повторениями, о предчувствиях… о привидениях. В такую точно ночь, по его словам, один его знакомый студент, только что поступивший в гувернеры к двум сиротам и помещенный с ними в павильоне, в саду, – увидал женскую фигуру, наклоненную над их постелями, и на следующий день узнал эту фигуру в не замеченном им до тех пор портрете, изображавшем мать этих самых сирот. Потом Теглев рассказал мне, будто родителям его, за несколько дней до их гибели, всё чудился шум воды; будто дедушка его в бородинском сражении избавился от смерти тем, что, увидав на земле простой серый голыш, внезапно нагнулся и поднял его, – а в это самое мгновенье картечь пролетела над его головою и сломила его длинный черный султан. Теглев даже обещался показать мне этот самый голыш, спасший его деда и вделанный им в медальон. Потом он упомянул о призвании каждого человека и о своем в особенности и прибавил, что он доселе в него верит и что если в нем когда-нибудь на этот счет возникнут сомнения, то он сумеет разделаться с ними и с жизнью, ибо жизнь тогда потеряет для него всякое значение. «Вы, может быть, полагаете, – промолвил он, искоса глянув на меня, – что на это у меня не хватит духа? Вы меня не знаете… У меня воля железная!»
«Хорошо сказано», – подумал я про себя.
Теглев задумался, глубоко вздохнул и, выпустив из руки чубук, объявил мне, что нынешний день для него очень важный.
– Нынче Ильин день – я именинник… Это… это для меня всегда тяжелая пора.
Я ничего не отвечал и только глядел на него, как он сидел передо мною, согнутый, сутулый, неповоротливый, с уставленным на землю сонливым и пасмурным взором.
– Сегодня, – продолжал он, – одна старушка нищая (Теглев не пропускал ни одного нищего, не подав ему милостыни) сказала мне, что она о моей душеньке помолится… Разве это не странно?
«Охота же человеку всё с собою возиться!» – подумал я опять. Я должен, однако, прибавить, что в последнее время я стал замечать необычное выражение заботы и тревоги на лице Теглева, и не «фатальная» то была меланхолия: его что-то действительно грызло и мучило. И в этот раз меня поразила унылость, распространенная по его чертам. Уж не начинали ли возникать в нем те сомненья, о которых он мне говорил? Мне сказывали товарищи Теглева, что он незадолго перед тем подавал начальству проект о каких-то переформированиях «по лафетной части» и что этот проект был ему возвращен с «надписью», то есть с выговором. Зная его характер, я не сомневался в том, что подобное пренебрежение начальства глубоко его оскорбило. Но то, что мне чудилось в Теглеве, походило более на грусть, имело более личный оттенок.
– Однако сыро становится, – промолвил он вдруг и повел плечами. – Пойдемте в избу – да и спать пора. – У него была привычка поводить плечами и поворачивать голову со стороны на сторону, точно ему галстух становился тесным, причем он брался правой рукою за горло. Характер Теглева выражался – так по крайней мере мне казалось – в этом тоскливом и нервическом движении. Ему тоже было тесно на свете.
Мы вернулись в избу и легли, каждый на лавке, он в красном углу, я в переднем, на постланном сене.
VII
Теглев долго ворочался на своей лавке, и я не мог заснуть. Рассказы ли его взволновали мои нервы, странная ли эта ночь раздражала мою кровь – не знаю; только я заснуть не мог. Всякое даже желание сна исчезло наконец, и я лежал с раскрытыми глазами да думал, напряженно думал, бог знает о чем, о самых бессмысленных пустяках, – как это всегда бывает во время бессонницы. Переворачиваясь с боку на бок, я протянул руку… Палец мой ударился об одно из бревен стены. Раздался слабый, но гулкий и как бы протяжный звук… Я, должно быть, попал на пустое место.
Я вторично ударил пальцем… уже нарочно. Звук повторился. Я еще… Вдруг Теглев приподнял голову.
– Ридель, – промолвил он, – слышите, кто-то стучит под окном.
Я притворился спящим. Мне вдруг пришла охота потрунить над моим фатальным товарищем. Всё равно мне не спалось.
Он опустил голову на подушку. Я подождал немного и опять постучал три раза сряду.
Теглев опять приподнялся и стал прислушиваться.
Я постучал опять. Я лежал к нему лицом, но мою руку он не мог видеть… я ее назад закинул, под одеяло.
– Ридель! – крикнул Теглев. Я не отозвался.
– Ридель! – повторил он громко. – Ридель!
– А? Что такое? – проговорил я, словно спросонья.
– Вы не слышите, кто-то всё стучит под окном. В избу, что ли, просится.
– Прохожий… – пролепетал я.
– Так надо его впустить или узнать, что за человек?
Но я уже не отвечал и снова притворился спящим.
Прошло несколько минут… Я опять за свое…
«Стук… стук… стук!..»
Теглев тотчас выпрямился и стал слушать.
«Стук… стук… стук! Стук… стук… стук!»
Сквозь полузакрытые веки, при белесоватом свете ночи, я хорошо мог видеть все его движенья. Он обращал лицо то к окну, то к двери. Действительно, трудно было понять, откуда шел звук: он словно облетал комнату, словно скользил вдоль стен. Я случайно попал на акустическую жилку.
«Стук… стук… стук!..»
– Ридель! – закричал наконец Теглев. – Ридель! Ридель!
– Да что такое? – промолвил я зевая.
– Неужели вы ничего не слышите? Стучит кто-то.
– Ну, бог с ним! – ответил я и опять показал вид, что заснул, захрапел даже…
Теглев успокоился.
«Стук… стук… стук!..»
– Кто там? – закричал Теглев. – Войди!
Никто, разумеется, не отвечал.
«Стук… стук… стук!»
Теглев вскочил с постели, открыл окно и, высунув голову наружу, диким голосом спросил: «Кто там? Кто стучит?» Потом он отворил дверь и повторил свой вопрос. В отдаленье проржала лошадь – и только.
Он вернулся к своей постели…
«Стук… стук… стук!»
Теглев мгновенно перевернулся и сел.
«Стук… стук… стук!»
Теглев проворно надел сапоги, накинул шинель на плечи и, отцепив со стены саблю, вышел из избы. Я слышал, как он два раза обошел ее кругом и всё спрашивал: «Кто тут? Кто тут ходит? Кто стучит?» Потом он вдруг умолк, постоял на одном месте на улице, недалеко от угла, где я лежал, и, уже ни слова больше не говоря, вернулся в избу и лег, не раздеваясь.
«Стук… стук… стук!» – начал я снова. «Стук… стук… стук!»
Но Теглев не шевелился, не спрашивал, кто стучит, а только подпер голову рукою.
Видя, что этобольше не действует, я спустя немного времени притворился, что просыпаюсь, и, вглядевшись в Теглева, принял удивленный вид.
– Вы разве куда ходили? – спросил я.
– Да, – равнодушно отвечал он.
– Вы всё продолжали слышать стук?
– Да.
– И никого не встретили?
– Нет.
– И стук прекратился?
– Не знаю. Теперь мне всё равно.
– Теперь? Почему же именно теперь?
Теглев не отвечал.
Мне стало немножко совестно и немножко досадно на него. Сознаться в своей шалости я, однако, не решался.
– Знаете ли что? – начал я. – Я убежден, что всё это – одно ваше воображение.
Теглев нахмурился.
– А, вы полагаете!
– Вы говорите: вы слышали стук…
– Я не один стук слышал, – перебил он меня.
– Что же еще?
Теглев качнулся вперед – и закусил губы. Он, видимо, колебался…
– Меня звали! – промолвил он наконец вполголоса и отвернул лицо.
– Вас звали? Кто же вас звал?
– Одна… – Теглев продолжал глядеть в сторону. – Одно существо, про которое я до сих пор только полагал, что оно умерло… а теперь я это наверное знаю.
– Клянусь вам, Илья Степаныч, – воскликнул я, – это всё одно воображение!
– Воображение? – повторил он. – Хотите сами убедиться на деле?
– Хочу.
– Ну, так выйдемте на улицу.
VIII
Я наскоро оделся и вместе с Теглевым вышел из избы. Против нее, по ту сторону улицы, не было домов, а тянулся низкий, местами сломанный плетень, за которым начинался довольно крутой спуск на равнину. Туман по-прежнему окутывал все предметы – и за двадцать шагов почти ничего не было видно. Мы с Теглевым дошли до плетня и остановились.
– Вот здесь, – промолвил он и понурил голову. – Стойте, молчите – и слушайте! – Я, так же как он, приник ухом – и, кроме обычного, до крайности слабого, но повсеместного ночного гула, этого дыханья ночи, не услышал ничего. Изредка переглядываясь друг с другом, простояли мы неподвижно несколько минут – и уже собирались идти дальше…
«Илюша!» – почудился мне шёпот из-за плетня.
Я глянул на Теглева – но он, казалось, ничего не слыхал – и по-прежнему держал голову понуро.
«Илюша… а Илюша…» – раздалось явственнее прежнего – настолько явственно, что можно было понять: эти слова произнесла женщина.
Мы оба разом вздрогнули – и уставились друг на друга.
– Что? – спросил меня шёпотом Теглев. – Теперь не будете сомневаться?
– Постойте, – отвечал я ему так же тихо, – это еще ничего не доказывает. Надо посмотреть, нет ли кого? Какой-нибудь шутник…
Я перескочил через плетень – и пошел по тому направлению, откуда, сколько я мог судить, принесся голос.
Под ногами я почувствовал мягкую, рыхлую землю; длинные полосы гряд пропадали в тумане. Я находился в огороде. Но ничего не шевелилось ни вокруг меня, ни впереди. Всё как бы замерло в онемении сна. Я сделал еще несколько шагов.
– Кто тут? – закричал я не хуже Теглева.
Прррр! – вспугнутый перепел выскочил из-под самых ног моих и полетел прочь, прямо, как пуля. Я невольно пошатнулся… Что за глупость!
Я глянул назад. Теглев виднелся на том же самом месте, где я его оставил. Я приблизился к нему.
– Напрасно вы будете звать, – промолвил он. – Этот голос дошел до нас… до меня… издалека.
Он провел рукой по лицу – и тихими шагами направился через улицу домой. Но я не хотел так скоро сдаться и вернулся в огород. Что действительно кто-то три раза кликнул «Илюшу» – в этом я никак сомневаться не мог; что в этом зове было что-то жалобное и таинственное – в этом я тоже должен был самому себе признаться… Но кто знает, быть может, всё это только казалось непонятным, а на деле объяснялось так же просто, как и тот стук, который взволновал Теглева?
Я отправился вдоль плетня, от времени до времени останавливаясь и посматривая кругом. Подле самого плетня, в недальнем расстоянии от нашей избы, росла старая кудрявая ветла; большим черным пятном выдавалась она среди общей белизны тумана, той тусклой белизны, которая хуже темноты слепит и притупляет взор. Вдруг мне почудилось, будто что-то, довольно крупное, живое, ворохнулось на земле возле той ветлы. С восклицанием: «Стой! Кто это?» – бросился я вперед. Послышались легкие, словно заячьи шаги; мимо меня быстро шмыгнула скорченная фигура, мужская ли, женская ли – я разобрать не мог… Я хотел схватить ее, но не успел, споткнулся, упал и обжег лицо о крапиву. Приподнимаясь и опираясь на землю, я почувствовал что-то жесткое под рукою: то был резной медный гребешок на шнурке, вроде тех, которые наши крестьяне носят на поясе.
Дальнейшие мои разыскания остались тщетными – и я с гребешком в руке и с остреканными щеками вернулся в избу.
IX
Я застал Теглева сидящим на лавке. Перед ним на столе горела свечка – и он что-то записывал в небольшой альбомчик, который постоянно носил с собою. Увидав меня, он проворно сунул альбомчик в карман и принялся набивать трубку.
– Вот, батюшка, – начал я, – какой трофей я из моего похода принес! – Я показал ему гребешок и рассказал, что со мной случилось около ветлы. – Я, должно быть, вора вспугнул, – прибавил я. – Вы слышали, вчера у нашего соседа украли лошадь?
Теглев холодно улыбнулся и закурил трубку. Я уселся возле него.
– И вы всё по-прежнему уверены, Илья Степаныч, – промолвил я, – что голос, который мы слышали, прилетел из тех неведомых стран…
Он остановил меня повелительным движением руки.
– Ридель, – начал он, – мне не до шуток, и потому прошу вас также не шутить.
Теглеву действительно было не до шуток. Лицо его изменилось. Оно казалось бледнее, выразительнее – и длиннее. Его странные, «разные» глаза тихо блуждали.
– Не думал я, – заговорил он снова, – что я когда-нибудь сообщу другому… другому человеку то, что вы сейчас услышите и что должно было умереть… да, умереть в груди моей; но, видно, так нужно – да и выбору мне нет. Судьба! Слушайте.
И он сообщил мне целую историю.
Я уже сказал вам, господа, что повествователь он был плохой; но не одним неумением передавать случившиеся с ним самим события поразил он меня в ту ночь; самый звук его голоса, его взгляды, движения, которые он производил пальцами, руками – всё в нем, одним словом, казалось неестественным, ненужным, фальшью наконец. Я был еще очень молод и неопытен тогда – и не знал, что привычка риторически выражаться, ложность интонаций и манер до того может въесться в человека, что он уже никак не в состоянии отделаться от нее: это своего рода проклятие. В последствии времени мне случилось встретиться с одной дамой, которая таким напыщенным языком, с такими театральными жестами, с таким мелодраматическим трясением головы и закатыванием глаз рассказывала мне о впечатлении, произведенном на нее смертью ее сына – об ее «неизмеримом» горе, об ее страхе за собственный рассудок, что я подумал про себя: «Как эта барыня врет и ломается! Она своего сына вовсе не любила!» А неделю спустя я узнал, что бедная женщина действительно с ума сошла. С тех пор я стал гораздо осторожнее в своих суждениях и гораздо меньше доверял собственным впечатлениям.
X
История, которую рассказал мне Теглев, была вкратце следующая. У него в Петербурге, кроме сановного дяди, жила тетка, женщина не сановная, но с состоянием. Будучи бездетной, она взяла к себе в приемыши девочку, сиротку, из мещанского сословия, дала ей приличное воспитание и обращалась с ней как с дочерью. Звали ее Машей. Теглев виделся с нею чуть не каждый день. Кончилось тем, что они оба друг в друга влюбились, и Маша отдалась ему. Это вышло наружу. Тетка Теглева страшно рассердилась, с позором прогнала несчастную девушку из своего дома и переехала в Москву, где взяла барышню из благородных к себе в воспитанницы и наследницы. Вернувшись к прежним родственникам, людям бедным и пьяным, Маша терпела участь горькую. Теглев обещался жениться на ней – и не исполнил своего обещания. В последнее свое свидание с нею он принужден был высказаться: она хотела узнать правду – и добилась ее. «Ну, – промолвила она, – коли мне не быть твоей женою, так я знаю, что мне остается сделать». С этого последнего свиданья прошло недели две с лишком.
– Я ни на минуту не обманывался насчет значения ее последних слов, – прибавил Теглев, – я уверен, что она покончила с жизнью, и… и что это был ееголос, что это оназвала меня туда… за собою… Я узналее голос… Что ж, один конец!
– Но отчего же вы не женились на ней, Илья Степаныч? – спросил я. – Вы её разлюбили?
– Нет; я до сих пор люблю ее страстно!
Тут я, господа, уставился на Теглева. Вспомнился мне другой мой знакомый, человек очень смышленый, который, обладая весьма некрасивой, неумной и небогатой женой и будучи очень несчастлив в супружестве, на сделанный ему при мне вопрос: почему же он женился? вероятно, по любви? – отвечал: «Вовсе не по любви! А так!» А тут Теглев любит страстно девушку и не женится. Что ж, и это тоже – так?!
– Отчего же вы не женитесь? – спросил я вторично. Сонливо-странные глаза Теглева забегали по столу.
– Этого… в немногих словах… не скажешь, – начал он запинаясь. – Были причины… Да притом она… мещанка. Ну и дядя… я должен был принять и его в соображение.