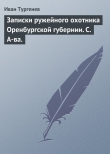Текст книги "Том 8. Повести и рассказы 1868-1872"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 39 страниц)
– Да, я женюсь.
– На ком? На иностранке?
– Да.
– Вы недавно с ней познакомились? Во Франкфурте?
– Точно так.
– И кто она такая? Можно узнать?
– Можно. Она дочь кондитера.
Марья Николаевна широко раскрыла глаза и подняла брови.
– Да ведь это прелесть, – проговорила она медлительным голосом, – это чудо! Я уже полагала, что таких молодых людей, как вы, на свете больше не встречается. Дочь кондитера!
– Вас это, я вижу, удивляет, – заметил не без достоинства Санин, – но, во-первых, у меня вовсе нет тех предрассудков…
– Во-первых,это меня нисколько не удивляет, – перебила Марья Николаевна, – предрассудков и у меня нет. Я сама дочь мужика. А? что, взяли? Меня удивляет и радует то, что вот человек не боится любить. Ведь вы ее любите?
– Да.
– Она очень хороша собою?
Санина слегка покоробило от этого последнего вопроса… Однако отступать уже не приходилось.
– Вы знаете, Марья Николаевна, – начал он, – всякому человеку лицо его возлюбленной кажется лучше всех других; но моя невеста – действительно красавица.
– В самом деле? В каком роде? итальянском? античном?
– Да; у ней очень правильные черты.
– С вами нет ее портрета?
– Нет. (В то время о фотографиях еще помину не было. Дагерротипы едва стали распространяться. * )
– Как ее зовут?
– Ее имя – Джемма.
– А ваше – как?
– Димитрий.
– По отчеству?
– Павлович.
– Знаете что, – проговорила Марья Николаевна всё тем же медлительным голосом, – вы мне очень нравитесь, Дмитрий Павлович. Вы, должно быть, хороший человек. Дайте-ка мне вашу руку. Будемте приятелями.
Она крепко пожала его руку своими красивыми, белыми, сильными пальцами. Ее рука была немногим меньше его руки – но гораздо теплей и глаже, и мягче, и жизненней.
– Только знаете, что мне приходит в голову?
– Что?
– Вы не рассердитесь? Нет? Она, вы говорите, ваша невеста. Но разве… разве это непременно было нужно?
Санин нахмурился.
– Я вас не понимаю, Марья Николаевна.
Марья Николаевна засмеялась тихохонько и, встряхнув головою, откинула назад падавшие ей на щеки волосы.
– Решительно – он прелесть, – промолвила она не то задумчиво, не то рассеянно. – Рыцарь! Подите верьте после этого людям, которые утверждают, что идеалисты все перевелись!
Марья Николаевна всё время говорила по-русски удивительно чистым, прямо московским языком – народного, не дворянского пошиба.
– Вы, наверное, дома воспитывались, в старозаветном, богобоязненном семействе? – спросила она. – Вы какой губернии?
– Тульской.
– Ну, так мы однокорытники. Мой отец… Ведь вам известно, кто был мой отец?
– Да, известно.
– Он в Туле родился… Туляк был. Ну, хорошо… (Это «хорошо» Марья Николаевна уже с намерением выговорила совсем по-мещанскому – вот так: хершо́о.) Ну давайте же теперь за дело примемся.
– То есть… как же это так за дело приняться? Что вам угодно этим сказать?
Марья Николаевна прищурилась.
– Да вы зачем сюда приехали? (Когда она щурила глаза, выражение их становилось очень ласковым и немного насмешливым; когда же она раскрывала их во всю величину – в их светлом, почти холодном блеске проступало что-то недоброе… что-то угрожающее. Особенную красоту придавали ее глазам ее брови, густые, немного надвинутые, настоящие соболиные.) Вы хотите, чтобы я у вас купила имение? Вам нужны деньги для вашего бракосочетания? Не так ли?
– Да, нужны.
– И много вам их требуется?
– На первый случай я бы удовольствовался несколькими тысячами франков. Вашему супругу мое имение известно. Вы можете посоветоваться с ним, – а я бы взял цену недорогую.
Марья Николаевна повела головою направо и налево.
– Во-первых, – начала она с расстановкой, ударяя концами пальцев по обшлагу санинского сюртука, – я не имею привычки советоваться с мужем, разве вот насчет туалета – он на это у меня молодец; а во-вторых,зачем вы говорите, что вы цену назначите недорогую? Я не хочу воспользоваться тем, что вы теперь очень влюблены и готовы на всякие жертвы… Я никаких жертв от вас не приму. Как? Вместо того чтобы поощрять в вас… ну, как бы это сказать получше?.. благородные чувства, что ли? я вас стану обдирать как липку? Это не в моих привычках. Когда случится, я людей не щажу – только не таким манером.
Санин никак не мог понять, что она – смеется ли над ним, или говорит серьезно? а только думал про себя: «О, да с тобой держи ухо востро!»
Слуга вошел с русским самоваром, чайным прибором, сливками, сухарями и т. п. на большом подносе, расставил всю эту благодать на столе между Саниным и г-жою Полозовой – и удалился.
Она налила ему чашку чаю.
– Вы не брезгаете? – спросила она, накладывая ему сахар в чашку пальцами… а щипчики лежали тут же.
– Помилуйте!.. От такой прекрасной руки…
Он не закончил фразы и чуть не поперхнулся глотком чаю, а она внимательно и ясно глядела на него.
– Я потому упомянул о недорогой цене моего имения, – продолжал он, – что так как вы теперь находитесь за границей, то я не могу предполагать у вас много свободных денег и наконец я сам чувствую, что продажа… или покупка имения при подобных условиях есть нечто ненормальное, и я должен взять это в соображение.
Санин путался и сбивался, а Марья Николаевна тихонько отклонилась на спинку кресла, скрестила руки и глядела на него тем же внимательным и ясным взглядом. Он наконец умолк.
– Ничего, говорите, говорите, – промолвила она, как бы приходя ему на помощь, – я вас слушаю – мне приятно вас слушать; говорите.
Санин принялся описывать свое имение, сколько в нем десятин, и где оно находится, и каковы в нем хозяйственные угодья, и какие можно извлечь из него выгоды… упомянул даже о живописном местоположении усадьбы; а Марья Николаевна всё глядела да глядела на него – всё светлее и пристальнее, и губы ее чуть-чуть двигались, без улыбки: она покусывала их. Ему стало неловко наконец; он замолчал вторично.
– Дмитрий Павлович, – начала Марья Николаевна – и задумалась… – Дмитрий Павлович, – повторила она… – Знаете что: я уверена, что покупка вашего имения – очень выгодная для меня афера и что мы сойдемся; но вы должны мне дать… два дня – да, два дня сроку. Ведь вы в состоянии на два дня расстаться с вашей невестой? Дольше я вас не продержу, против вашей воли – даю вам честное слово. Но если вам нужны теперь же пять, шесть тысяч франков, я с великим удовольствием готова предложить вам их взаймы – а там мы сочтемся.
Санин поднялся.
– Я должен благодарить вас, Марья Николаевна, за вашу радушную и любезную готовность услужить человеку, почти совсем вам незнакомому… Но если уже вам непременно так угодно, то я предпочту дождаться вашего решения насчет моего имения – останусь здесь два дня.
– Да; мне так угодно, Дмитрий Павлович. А вам будет очень тяжело? Очень? Скажите.
– Я люблю свою невесту, Марья Николаевна, и разлука с ней мне не легка.
– Ах, вы золотой человек! – со вздохом промолвила Марья Николаевна. – Обещаюсь не слишком томить вас. Вы ухо́дите?
– Уже поздно, – заметил Санин.
– А вам надо отдохнуть от дороги – и от игры в дурачки с моим мужем. Скажите – вы Ипполиту Сидорычу, моему мужу, большой приятель?
– Мы воспитывались в одном пансионе.
– И он уже тогда был такой?
– Какой «такой»? – спросил Санин.
Марья Николаевна вдруг засмеялась, засмеялась до красноты всего лица, поднесла платок к губам, встала с кресла и, покачиваясь, как усталая, подошла к Санину и протянула ему руку.
Он раскланялся и направился к двери.
– Извольте завтра пораньше явиться – слышите? – крикнула она ему вслед.
Он глянул назад, уходя из комнаты, и увидел, что она опять опустилась в кресло и закинула обе руки за голову. Широкие рукава блузы скатились почти до самых плеч – и нельзя было не сознаться, что поза этих рук, что вся эта фигура была обаятельно прекрасна.
XXXVI
Далеко за полночь горела лампа в комнате Санина. Он сидел за столом и писал «своей Джемме». Рассказал ей всё; описал ей Полозовых, мужа и жену – впрочем, больше распространялся насчет собственных чувств – и кончил тем, что назначил ей свидание через три дня!!! (с тремя восклицательными знаками). Утром рано он отнес это письмо на почту и пошел прогуляться по саду Кургауза, где уже играла музыка. Народу было еще мало; он постоял перед беседкой, в которой помещался оркестр, прослушал попурри из «Роберта-Дьявола» * и, напившись кофе, отправился в боковую, уединенную аллею, присел на лавочку – и задумался.
Ручка зонтика проворно – и довольно крепко – постучала по его плечу. Он встрепенулся… Перед ним, в легком, серо-зеленом барежевом платье, в белой тюлевой шляпке, в шведских перчатках, свежая и розовая, как летнее утро, но с не исчезнувшей еще негой безмятежного сна в движениях и во взорах, стояла Марья Николаевна.
– Здравствуйте, – промолвила она. – Я сегодня посылала за вами, да вы уже ушли. Я только что отпила свой второй стакан – меня, вы знаете, заставляют здесь воду пить, бог ведает зачем… уж я ли не здорова? И вот я должна гулять целый час. Хотите вы быть моим спутником? А там мы кофе напьемся.
– Я уже пил, – промолвил Санин, вставая, – но я очень рад гулять с вами.
– Ну так дайте же мне вашу руку… Не бойтесь: вашей невесты здесь нет – она вас не увидит.
Санин принужденно улыбнулся. Он испытывал ощущение неприятное всякий раз, когда Марья Николаевна упоминала о Джемме. Однако он поспешно и послушно наклонился… Рука Марьи Николаевны медленно и мягко опустилась на его руку, и скользнула по ней, и как бы прильнула к ней.
– Пойдемте – вот сюда, – сказала она ему, закинув раскрытый зонтик за плечо. – Я в здешнем парке как дома: поведу вас по хорошим местам. И знаете что (она часто употребляла эти два слова): мы с вами не будем говорить теперь об этой покупке; мы о ней после завтрака хорошенько потолкуем; а вы должны мне теперь рассказать о себе… чтобы я знала, с кем я имею дело. А после, если хотите, я вам о себе порасскажу. Согласны?
– Но, Марья Николаевна, что может быть для вас интересного…
– Постойте, постойте. Вы не так меня поняли. Я с вами не кокетничать хочу. – Марья Николаевна пожала плечами. – У него невеста, как древняя статуя, а я буду с ним кокетничать?! Но у вас товар – а я купец. Я и хочу знать, каков у вас товар. Ну-ка, показывайте – каков он? Я хочу знать не только, что я покупаю, но и у кого я покупаю. Это было правило моего батюшки. Ну, начинайте… Ну, хоть не с детства – ну вот – давно ли вы за границей? И где вы были до сих пор? Только идите тише – нам некуда спешить.
– Я сюда прибыл из Италии, где я пробыл несколько месяцев.
– А у вас, видно, особое влечение ко всему итальянскому? Странно, что вы не тамнашли свой предмет. Вы любите художества? Картины? или больше – музыку?
– Я люблю искусство… Я всё прекрасное люблю.
– И музыку?
– И музыку тоже.
– А я ее совсем не люблю. Нравятся мне одни русские песни – и то в деревне, и то весной – с пляской, знаете… Красные кумачи, поднизи * , на выгоне молоденькая травка, дымком попахивает… чудесно! Но не обо мне речь. Говорите же, рассказывайте.
Марья Николаевна сама шла, а сама то и дело взглядывала на Санина. Она была высокого роста – ее лицо приходилось почти в уровень с его лицом.
Он принялся рассказывать – сначала неохотно, неумело, а потом разговорился, разболтался даже. Марья Николаевна очень умно слушала; да к тому же она сама казалась до того откровенной, что невольно и других вызывала на откровенность. Она обладала тем великим даром «обиходности» – le terrible don de la familiarité, о котором упоминает кардинал Ретц * . Санин говорил о своих путешествиях, о житье в Петербурге, о своей молодости… Будь Марья Николаевна светской дамой, с утонченными манерами – он никогда бы так не распустился; но она сама называла себя добрым малым, не терпящим никаких церемоний; она именно так отрекомендовала себя Санину. И в то же время этот «добрый малый» шел рядом с ним кошачьей походкой, слегка прислоняясь к нему, и заглядывал ему в лицо; и шел он в образе молодого женского существа, от которого так и веяло тем разбирающим и томящим, тихим и жгучим соблазном, каким способны донимать нашего брата – грешного, слабого мужчину, одни – и то некоторые и то не чистые, а с надлежащей помесью – славянские натуры!
Прогулка Санина с Марьей Николаевной, беседа Санина с Марьей Николаевной продолжалась час с лишком. И ни разу они не останавливались – всё шли да шли по бесконечным аллеям парка, то поднимаясь в гору и на ходу любуясь видом, то спускаясь в долину и укрываясь в непроницаемую тень – и всё рука с рукой. Временами Санину даже досадно становилось: он с Джеммой, с своей милой Джеммой никогда так долго не гулял… а тут эта барыня завладела им – и баста!
– Не устали ли вы? – спрашивал он ее не однажды.
– Я никогда не устаю, – отвечала она.
Изредка им попадались гуляющие; почти все ей кланялись – иные почтительно, другие даже подобострастно. Одному из них, весьма красивому, щегольски одетому брюнету она крикнула издали, с самым лучшим парижским акцентом: «Comte, vous savez, il ne faut pas venir me voir – ni aujourd’hui, ni demain» [121]121
«Знаете, граф, ни сегодня, ни завтра ко мне нельзя приходить» (франц.).
[Закрыть]. Тот снял молча шляпу и отвесил низкий поклон.
– Кто это? – спросил Санин, по дурной привычке «любопытствовать», свойственной всем русским.
– Это? Один французик – их здесь много вертится… За мной ухаживает – тоже. Однако пора кофе пить. Пойдемте домой; вы, чай, успели проголодаться. Мой благоверный, должно быть, теперь глаза продрал.
«Благоверный! Глаза продрал!!» – повторил про себя Санин… «И говорит так отлично по-французски… Что за чудачка!»
Марья Николаевна не ошиблась. Когда она вместе с Саниным вернулась в гостиницу – «благоверный», или «пышка», сидел уже, с неизменной феской на голове, перед накрытым столом.
– А я тебя прождался! – воскликнул он, скорчив кислую мину. – Хотел уже кофе без тебя пить.
– Ничего, ничего, – весело возразила Марья Николаевна. – Ты сердился? Это тебе здорово: а то ты совсем застынешь. Я вот гостя привела. Звони скорее! Давайте пить кофе, кофе – самый лучший кофе – в саксонских чашках, на белоснежной скатерти!
Она скинула шляпу, перчатки – и захлопала в ладоши.
Полозов глянул на нее исподлобья.
– Что это вы сегодня так расскакались, Марья Николаевна? – проговорил он вполголоса.
– А не ваше дело, Ипполит Сидорыч! Звони! Дмитрий Павлович, садитесь – и пейте кофе во второй раз! Ах, как весело приказывать! Другого удовольствия на свете нет!
– Когда слушаются, – проворчал опять супруг.
– Именно, когда слушаются! Оттого-то мне и весело. Особенно с тобою. Не правда ли, пышка? А вот и кофе.
На громадном подносе, с которым появился кельнер, находилась также и театральная афишка. Марья Николаевна тотчас ухватилась за нее.
– Драма! – произнесла она с негодованием, – немецкая драма. Всё равно: лучше, чем немецкая комедия. Велите мне взять ложу – бенуар – или нет… лучше Fremden-Loge [122]122
ложу для иностранцев (нем.).
[Закрыть], – обратилась она к кельнеру. – Слышите ли: непременно Fremden-Loge!
– Но если Fremden-Loge уже взята его превосходительством, директором города (seine Excellenz der Herr Stadt-Director), – осмелился доложить кельнер.
– Дайте его превосходительству десять талеров, – а чтоб ложа у меня была! Слышите!
Кельнер покорно и печально наклонил голову.
– Дмитрий Павлович, вы поедете со мной в театр? немецкие актеры ужасны, но вы поедете… Да? Да! Какой вы любезный! Пышка, а ты не пойдешь?
– Как прикажешь, – проговорил Полозов в чашку, которую поднес ко рту.
– Знаешь что: останься. Ты в театре всё спишь – да и по-немецки ты понимаешь плохо. Ты лучше вот что сделай: напиши ответ управляющему – помнишь, насчет нашей мельницы… насчет крестьянского помо́лу. Скажи ему, что я не хочу, не хочу и не хочу! Вот тебе и занятие на целый вечер.
– Слушаю, – ответил Полозов.
– Ну, вот и прекрасно. Ты у меня умница. А теперь, господа, благо мы заговорили об управляющем, будемте толковать о главном нашем деле. Вот как только кельнер уберет со стола, вы нам всё расскажете, Дмитрий Павлович, о своем имении – как, что, за какую цену продаете, сколько хотите задатку вперед, – словом, всё! («Наконец-то, – подумал Санин, – слава богу!») Вы уж мне кое-что сообщили, сад свой, помнится, чудесно описали, да «пышки» при этом не было… Пусть он послушает – всё что-нибудь пробуркнет! Мне очень приятно думать, что я могу помочь вам жениться, да я же обещала вам, что после завтрака займусь вами; а я всегда держу свои обещания; не правда ли, Ипполит Сидорыч?
Полозов потер себе лицо ладонью.
– Что правда, то правда, вы никого не обманываете.
– Никогда! И никогда никого не обману. Ну, Дмитрий Павлович, излагайте дело, как мы выражаемся в сенате.
XXXVII
Санин принялся «излагать дело», то есть опять, во второй раз, описывать свое имение, но уже не касаясь красот природы и от времени до времени ссылаясь на Полозова, для подтверждения приводимых «фактов и цифр». Но Полозов только хмыкал и головой покачивал – одобрительно ли, или неодобрительно – этого, кажется, сам чёрт бы не разобрал. Впрочем, Марья Николаевна и не нуждалась в его участии. Она выказывала такие коммерческие и административные способности, что оставалось только изумляться! Вся подноготная хозяйства была ей отлично известна; она обо всем аккуратно расспрашивала, во всё входила; каждое ее слово попадало в цель, ставило точку прямо на i. Санин не ожидал подобного экзамена: он не приготовился. И продолжался этот экзамен целых полтора часа. Санин испытывал все ощущения подсудимого, сидящего на узенькой скамеечке перед строгим и проницательным судьею. «Да это допрос!» – тоскливо шептал он про себя. Марья Николаевна всё время посмеивалась, словно шутила, но от этого Санину не было легче; а когда в течение «допроса» оказалось, что он не совсем ясно понимал значение слов: «передел» и «запашка» * – так его даже пот прошиб.
– Ну, хорошо! – решила наконец Марья Николаевна. – Ваше имение я теперь знаю… не хуже вас. Какую же цену вы положите за душу? (В то время цены имениям, как известно, определялись по душам.)
– Да… я полагаю… меньше пятисот рублей взять нельзя, – с трудом проговорил Санин. (О, Панталеоне, Панталеоне, где ты? Вот бы когда тебе пришлось снова воскликнуть: Barbari!)
Марья Николаевна взвела глаза к небу, как бы соображая.
– Что ж? – промолвила она наконец. – Эта цена мне кажется безобидной. Но я выговорила себе два дня сроку – и вы должны подождать до завтра. Я полагаю, что мы сойдемся, и тогда вы скажете, сколько вам потребуется задатку. А теперь basta così! [123]123
довольно! (итал.).
[Закрыть]– подхватила она, заметив, что Санин хотел что-то возразить. – Довольно мы занимались презренным металлом… à demain les affaires! [124]124
дела на завтра! (франц.).
[Закрыть]Знаете что: я теперь отпускаю вас (она глянула на эмалевые часики, заткнутые у ней за поясом)… до трех часов… Надо ж дать вам отдохнуть. Ступайте поиграйте в рулетку. *
– Я никогда в азартные игры не играю, – заметил Санин.
– В самом деле? Да вы совершенство. Впрочем, и я не играю. Глупо бросать деньги на ветер – наверняка. Но подите в игорную залу, посмотрите на физиономии. Попадаются презабавные. Старуха есть там одна, с фероньеркой и с усами – чудо! Наш князь там один – тоже хорош. Фигура величественная, нос как у орла, а поставит талер – и крестится украдкой под жилеткой. Читайте журналы, гуляйте, – словом, делайте что хотите… А в три часа я вас ожидаю… de pied ferme [125]125
непременно (франц.).
[Закрыть]. Надо будет пораньше пообедать. Театр у этих смешных немцев начинается в половине седьмого. – Она протянула руку. – Sans rancune, n’est-ce pas? [126]126
Забудем старые обиды, не правда ли? (франц.).
[Закрыть]
– Помилуйте, Марья Николаевна, за что я буду на вас досадовать?
– А за то, что я вас мучила. Погодите, я вас еще не так, – прибавила она, прищурив глаза, и все ее ямочки разом выступили на заалевшихся щеках. – До свидания!
Санин поклонился и вышел. Веселый смех раздался вслед за ним – и в зеркале, мимо которого он проходил в это мгновенье, отразилась следующая сцена: Марья Николаевна надвинула своему супругу его феску на глаза, а он бессильно барахтался обеими руками.
XXXVIII
О, как глубоко и радостно вздохнулось Санину, как только он очутился у себя в комнате! Точно: Марья Николаевна правду сказала – ему следовало отдохнуть, отдохнуть от всех этих новых знакомств, столкновений, разговоров, от этого чада, который забрался ему в голову, в душу – от этого негаданного, непрошенного сближения с женщиной, столь чуждой ему! И когда же всё это совершается? Чуть не на другой день после того, как он узнал, что Джемма его любит, как он стал ее женихом! Да ведь это святотатство! Тысячу раз просил он мысленно прощенья у своей чистой, непорочной голубицы, хотя он собственно ни в чем обвинить себя не мог; тысячу раз целовал данный ею крестик. Не имей он надежды скоро и благополучно окончить дело, за которым приехал в Висбаден, опрометью бросился бы он оттуда назад – в милый Франкфурт, в тот дорогой, теперь уже родственный ему дом, к ней, к возлюбленным ее ногам… Но делать нечего! Надо испить фиал до дна, надо одеться, идти обедать – а оттуда в театр… Хоть бы завтра она его поскорей отпустила!
Еще одно его смущало, его сердило: он с любовью, с умилением, с благодарным восторгом думал о Джемме, о жизни с нею вдвоем, о счастии, которое его ожидало в будущем, – и между тем эта странная женщина, эта госпожа Полозова неотступно носилась… нет! не носилась – торчала… так именно, с особым злорадством выразился Санин – торчалаперед его глазами, – и не мог он отделаться от ее образа, не мог не слышать ее голоса, не вспоминать ее речей, не мог не ощущать даже того особенного запаха, тонкого, свежего и пронзительного, как запах желтых лилий, которым веяло от ее одежд. Эта барыня явно дурачит его, и так и сяк к нему подъезжает… Зачем это? что ей надо? Неужели же это одна прихоть избалованной, богатой и едва ли не безнравственной женщины? И этот муж?! Что это за существо? Какие его отношения к ней? И к чему лезут эти вопросы в голову ему, Санину, которому собственно нет никакого дела ни до г-на Полозова, ни до его супруги? Почему не может он прогнать этот неотвязный образ даже тогда, когда обращается всей душою к другому, светлому и ясному, как божий день? Как смеют – сквозь те, почти божественные черты – сквозить эти?И они не только сквозят – они ухмыляются дерзостно. Эти серые хищные глаза, эти ямочки на щеках, эти змеевидные косы – да неужели же это всё словно прилипло к нему, и он стряхнуть, отбросить прочь всё это не в силах, не может?
Вздор! вздор! Завтра же это всё исчезнет без следа… Но отпустит ли она его завтра?
Да… Все эти вопросы он себе ставил, а стало время пододвигаться к трем часам – и надел он черный фрак да, погулявши немного по парку, отправился к Полозовым.
Он застал у них в гостиной секретаря посольства из немцев, длинного-длинного, белокурого, с лошадиным профилем и пробором сзади (тогда это было еще внове) и… о чудо! кого еще? Фон Дӧнгофа, того самого офицера, с которым дрался несколько дней тому назад! Он никак не ожидал встретить его именно тут – и невольно смутился, однако раскланялся с ним.
– Вы знакомы? – спросила Марья Николаевна, от которой не ускользнуло смущение Санина.
– Да… я имел уже честь, – промолвил Дӧнгоф и, наклонившись слегка в сторону Марьи Николаевны, прибавил вполголоса, с улыбкой: – Тот самый… Ваш соотечественник… русский…
– Не может быть! – воскликнула она также вполголоса, погрозила ему пальцем и тотчас же стала прощаться – и с ним и с длинным секретарем, который, по всем признакам, был смертельно в нее влюблен, ибо даже рот раскрывал всякий раз, когда на нее взглядывал. Дӧнгоф удалился немедленно, с любезной покорностью, как друг дома, который с полуслова понимает, чего от него требуют; секретарь заартачился было, но Марья Николаевна выпроводила его без всяких церемоний.
– Ступайте к вашей владетельной особе, – сказала она ему (тогда в Висбадене проживала некая принчипесса ди Монако, изумительно смахивавшая на плохую лоретку) * , – что вам сидеть у такой плебейки, как я?
– Помилуйте, сударыня, – уверял злополучный секретарь, – все принчипессы в мире…
Но Марья Николаевна была безжалостна – и секретарь ушел вместе со своим пробором.
Марья Николаевна в тот день принарядилась очень к своему «авантажу», как говаривали наши бабушки. На ней было шёлковое розовое платье глясэ * , с рукавами à la Fontanges * , и по крупному бриллианту в каждом ухе. Глаза ее блистали не хуже тех бриллиантов: она казалась в духе и в ударе.
Она усадила Санина возле себя и начала говорить ему о Париже, куда собиралась ехать через несколько дней, о том, что немцы ей надоели, что они глупы, когда умничают, и некстати умны, когда глупят; да вдруг, как говорится, в упор – à brule pourpoint – спросила его, правда ли, что он вот с этим самым офицером, который сейчас тут сидел, на днях дрался из-за одной дамы?
– Вам это почему известно? – пробормотал изумленный Санин.
– Слухом земля полнится, Дмитрий Павлович; но, впрочем, я знаю, что вы были правы, тысячу раз правы – и вели себя как рыцарь. Скажите – эта дама была ваша невеста?
Санин слегка наморщил брови…
– Ну, не буду, не буду, – поспешно проговорила Марья Николаевна. – Вам это неприятно, простите меня, не буду! не сердитесь! – Полозов появился из соседней комнаты с листом газеты в руках. – Что ты? или обед готов?
– Обед сейчас подают, а ты посмотри-ка, что я в «Северной пчеле» * вычитал… Князь Громобой умер.
Марья Николаевна подняла голову.
– А! царство ему небесное! Он мне каждый год, – обратилась она к Санину, – в феврале, ко дню моего рождения, все комнаты убирал камелиями. Но для этого еще не стоит жить в Петербурге зимой. Что, ему, пожалуй, за семьдесят лет было? – спросила она мужа.
– Было. Похороны его в газете описывают. Весь двор присутствовал. Вот и стихи князя Коврижкина по этому случаю.
– Ну и чудесно.
– Хочешь, прочту? Князь его называет мужем совета.
– Нет, не хочу. Какой он был муж совета! Он просто был муж Татьяны Юрьевны. * Пойдемте обедать. Живой живое думает. Дмитрий Павлович, вашу руку.
Обед был, по-вчерашнему, удивительный и прошел весьма оживленно. Марья Николаевна умела рассказывать… редкий дар в женщине, да еще в русской! Она не стеснялась в выражениях; особенно доставалось от нее соотечественницам. Санину не раз пришлось расхохотаться от иного бойкого и меткого словца. Пуще всего Марья Николаевна не терпела ханжества, фразы и лжи… Она находила ее почти повсюду. Она словно щеголяла и хвасталась той низменной средою, в которой началась ее жизнь; сообщала довольно странные анекдоты о своих родных из времени своего детства; называла себя лапотницей, не хуже Натальи Кирилловны Нарышкиной. * Санину стало очевидным, что она испытала на своем веку гораздо больше, чем многое множество ее сверстниц.
А Полозов кушал обдуманно, пил внимательно и только изредка вскидывал то на жену, то на Санина свои белесоватые, с виду слепые, в сущности очень зрячие глаза.
– Какой ты у меня умница! – воскликнула Марья Николаевна, обратившись к нему, – как ты все мои комиссии во Франкфурте исполнил! Поцеловала бы я тебя в лобик, да ты у меня за этим не гоняешься.
– Не гоняюсь, – отвечал Полозов и взрезал ананас серебряным ножом.
Марья Николаевна посмотрела на него и постучала пальцами по столу.
– Так идет наше пари? – промолвила она значительно.
– Идет.
– Ладно. Ты проиграешь.
Полозов выставил подбородок вперед.
– Ну, на этот раз, как ты на себя ни надейся, Марья Николаевна, а я полагаю, что проиграешь-то ты.
– О чем пари? Можно узнать? – спросил Санин.
– Нет… нельзя теперь, – ответила Марья Николаевна – и засмеялась.
Пробило семь часов. Кельнер доложил, что карета готова. Полозов проводил жену и тотчас же поплелся назад к своему креслу.
– Смотри же! Не забудь письма к управляющему! – крикнула ему Марья Николаевна из передней.
– Напишу, не беспокойся. Я человек аккуратный.
XXXIX
В 1840 году театр в Висбадене был и по наружности плох, а труппа его, по фразистой и мизерной посредственности, по старательной и пошлой рутине, ни на волос не возвышалась над тем уровнем, который до сих пор можно считать нормальным для всех германских театров и совершенство которого в последнее время представляла труппа в Карлсруэ, под «знаменитым» управлением г-на Девриента * . Позади ложи, взятой для «ее светлости г-жи фон Полозо́в» (бог ведает, как умудрился кельнер ее достать – не подкупил же он штадт-директора в самом деле!) – позади этой ложи находилась небольшая комнатка, обставленная диванчиками; прежде чем войти в нее, Марья Николаевна попросила Санина поднять ширмочки, отделявшие ложу от театра.
– Я не хочу, чтобы меня видели, – сказала она, – а то ведь сейчас полезут.
Она и его посадила возле себя, спиною к зале, так, чтобы ложа казалась пустою.
Оркестр проиграл увертюру из «Свадьбы Фигаро»… * Занавес поднялся: пьеса началась.
То было одно из многочисленных доморощенных произведений, в которых начитанные, но бездарные авторы отборным, но мертвенным языком, прилежно, но неуклюже проводили какую-нибудь «глубокую» или «животрепещущую» идею, представляли так называемый трагический конфликт и наводили скуку… азиатскую, как бывает азиатская холера. Марья Николаевна терпеливо выслушала половину акта, но когда первый любовник, узнав об измене своей возлюбленной (одет он был в коричневый сюртук с «буфами» и плисовым воротником, полосатый жилет с перламутровыми пуговицами, зеленые панталоны со штрипками из лакированной кожи и белые замшевые перчатки), когда этот любовник, уперев оба кулака в грудь и оттопырив локти вперед, под острым углом, завыл уже прямо по-собачьи – Марья Николаевна не выдержала.
– Последний французский актер в последнем провинциальном городишке естественнее и лучше играет, чем первая немецкая знаменитость, – с негодованием воскликнула она и пересела в заднюю комнатку. – Подите сюда, – сказала она Санину, постукивая рукою возле себя по дивану. – Будемте болтать.
Санин повиновался.
Марья Николаевна глянула на него.
– А вы, я вижу, шелковый! Вашей жене будет с вами легко. Этот шут, – продолжала она, указывая концом веера на завывавшего актера (он исполнял роль домашнего учителя), – напомнил мне мою молодость: я тоже была влюблена в учителя. Это была моя первая… нет, моя вторая пассия. В первый раз я влюбилась в служку Донского монастыря. Мне было двенадцать лет. Я видала его только по воскресеньям. Он носил бархатный подрясник, душился оделаваном, пробираясь в толпе с кадилом, говорил дамам по-французски: «пардон, экскюзѐ» – и никогде не поднимал глаз, а ресницы у него были вот какие! – Марья Николаевна отделила ногтем большого пальца целую половину своего мизинца и показала Санину. – Учителя моего звали – monsieur Gaston! Надо вам сказать, что он был ужасно ученый и престрогий человек, из швейцарцев – и с таким энергическим лицом! Бакенбарды черные, как смоль, греческий профиль – и губы как из железа вылитые! Я его боялась! Я во всей моей жизни только одного этого человека и боялась. Он был гувернером моего брата, который потом умер… утонул. Одна цыганка и мне предсказала насильственную смерть, но это вздор. Я этому не верю. Представьте вы себе Ипполита Сидорыча с кинжалом?!.