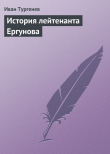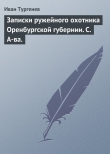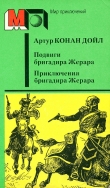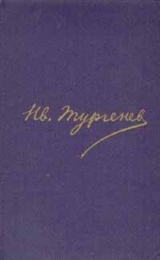
Текст книги "Том 8. Повести и рассказы 1868-1872"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 39 страниц)
Вскоре после появления рассказа в России, в начале 1870 г., П. Мериме перевел его на французский язык. 29 января (10 февраля) 1870 г. он пишет об этом переводе как о законченной работе: «Я только что перевел для „Revue“ одну новеллу Тургенева – она появится в ближайшем месяце» ( Mérimée,II, 9, p. 34). В мартовской книге «Revue des Deux Mondes» за 1870 г. «Странная история» появилась в переводе Мериме. Английский перевод рассказа, озаглавленный «The Idiot», осуществил постоянный корреспондент Тургенева В. Рольстон. Перевод напечатан в «Temple Bar» (1870, vol. XXIX).
«Странная история» вошла в сборник «Etranges histoires» Тургенева на французском языке («Etrange histoire. Le roi Lear de la steppe. Toc… toc… toc… L’abandonnée». Par J. Tourguéneff. Paris, Hetzel, изд. 1-е и 2-е – 1873, 3-е – 1874). Два немецких перевода рассказа (помимо перевода в «Салоне») появились также при жизни писателя: «Eine seltsame Geschichte». Übersetzt von A. Gerstmann. I. Turgenjew. Erzählungen eines alten Mannes. Berlin, Janke, 1878 (интересна попытка объединить повести 60-70-х гг. в своеобразный цикл «рассказов старого человека»); «Sonderbare Geschichte». Übersetzt von E. St
Рассказ был переведен также на датский и шведский языки: «En sällsam historia». Öfversattung från franskan. Stockholm; «En besynderlig Historie». Paa Dansk ved Møller. I Bd. – В кн.: M. Tortaellingerag Skitser. Kjøbenhavn, 1873.
Рассказ не вызвал сколько-нибудь развернутого обсуждения в критике. Даже среди друзей Тургенева почти не оказалось людей, достойно оценивших это произведение. 5 (17) июня 1870 г. Тургенев писал А. М. Жемчужникову: «Вы едва ли не единственный человек, помянувший добрым словом мою „Странную историю“». С одним из своих друзей и корреспондентов – беллетристом М. В. Авдеевым – Тургенев вынужден был вступать в полемику по поводу образа главной героини рассказа. Намекая, что в «Странной истории» повторяются картины «Записок охотника» и что образ героини не актуален, Авдеев писал: «Она („Странная история“) мне очень понравилась и идет к картинам русской жизни, которых Вы дали много, но самый конец Вы осветили, по-моему, неверно < …> В основании всякого фанатизма лежит сила, но сила глупая, и Софи во мне, кроме презрительного сожаления, никакого участия не шевельнула < …> Ваша Софи устарела» ( Т сб,вып. 1, с. 430–431). Отвечая Авдееву 13 (25) января 1870 г., Тургенев прежде всего дает понять своему корреспонденту, что тот упрощенно понимает требование современности, что и повествование о далеком прошлом может быть проникнуто современной мыслью: «… неужели вы до того потонули в „современности“, что не допускаете никаких не современныхтипов? Я „отстал“ с своей Софи:еще бы! Да я, пожалуй, еще дальше назад хвачу; Софи не возбуждает ничего, кроме „презрительного сожаления“;и этого, по-моему, еще много. Неужели каждый характер должен непременно быть чем-то вроде прописи: вот, мол, как надо или не надо поступать? Подобные лица жили, стало быть, имеют право на воспроизведение искусством. Другого бессмертия я не допускаю, а это бессмертие, бессмертие человеческой жизни – в глазах искусства и истории – лежит в основании всей нашей деятельности». Тургенев подчеркивал, что образ Софи исторически достоверен, что он имеет реальный прототип, что в странной судьбе изображенной им девушки воплотились некоторые характерные черты жизни русского общества на определенном этапе его развития.
Аргументация Тургенева, очевидно, произвела впечатление на Авдеева. Впоследствии, в работе «Наше общество в героях и героинях литературы» он попытался показать исторические истоки образа Софи, его связь с Татьяной Пушкина и Лизой из «Дворянского гнезда», а также объяснить особенности религиозных исканий героини воздействием на нее темных сторон народного сознания (см.: АвдеевМ. В. Наше общество в героях и героинях литературы. Изд. 2-е. СПб., 1907, с. 206–207).
Отклики на появление «Странной истории» поместили «Московские ведомости» (1870, № 9, 13 января) и «Новое время» (1870, № 23, 24 января). Обе газеты бегло и неодобрительно отозвались о новом произведении писателя. Критик «Московских ведомостей» признавал художественные достоинства «Странной истории», но писал, что «повесть довольно ничтожна по содержанию». Рецензент «Нового времени» утверждал даже, что перевод с немецкого перевода, напечатанный Краевским в «Голосе», мог бы читателям заменить подлинник. Характерна нота, прозвучавшая в высшей степени недоброжелательной по отношению к Тургеневу заметке «Нового времени». «Нечего сказать, хорошо же вы знакомите немецкую публику с русской жизнью, если показываете ей такие картинки, как ваша „Странная история“», – поучала газета писателя.
Реакционные круги русского общества, крайне озлобленные появлением романа «Дым», восприняли «Странную историю» как продолжение начатого, по их мнению, писателем в романе холодного обличения своей родины. П. Мериме сообщал Тургеневу 13 (25) марта 1870 г. о беседах с русскими обитателями Ниццы по поводу «Странной истории»: «Как кажется, Ваш последний рассказ привел их в ярость. Они говорят, что Вы ожесточенный враг России и что хотите видеть однитолько ее теневые стороны. Я спросил у одной дамы, которая казалась очень возмущенной, в чем теневая сторона в Вашем рассказе. Ответ: – Всюду. – Имеются ли юродивые в России? – Конечно. – А крайне набожные и восторженные девицы? – Безусловно. – На что же вы тогда жалуетесь? – Не нужно говорить об этом иностранцам. – Я передаю вам этот отзыв так, как я его слышал. Лакейский патриотизм повсюду один и тот же: я не знаю ничего более глупого» ( Mérimée,II, 9, p. 74).
В споре с Авдеевым Тургенев также ссылался на реальность и типичность случая, составившего основу фабулы его рассказа. Самому ему приходилось наблюдать подобные происшествия. Сохранилось свидетельство, что героиня Тургенева имела реальный прототип. Л. Фридлендер, ссылаясь на признание самого Тургенева, заявлял: «„Странная история“ взята из жизни. Молодая мечтательница, бросающая родительский дом для того, чтобы сопровождать в качестве служанки юродивого, была дочь директора одной казенной зеркальной фабрики. Своим поступком она хотела загладить грехи отца, который грабил казну. Впрочем, молодая девушка вернулась в родительский дом и даже вышла замуж» ( ВЕ,1906, № 10, с. 831). Сам Тургенев в письме к И. П. Борисову от 23 декабря 1869 г. (4 января 1870 г.) также вспоминал, что рассказ «Странная история» составился у него «из двух анекдотов», из которых один он «слышал, а другой сам пережил». Случаи, подобные рассказанному Тургеневым в «Странной истории», были не столь уж редки. Я. П. Полонский сообщает о подобном случае, с которым столкнулся Л. Н. Толстой: «Видел граф и одну раскольничью богородицу и в ее работнице нашел, к немалому своему изумлению, очень подвижную, грациозную и поэтическую девушку, бледно-худощавую, с маленькими белыми руками и тонкими пальцами» ( ПолонскийЯ. П. И. С. Тургенев у себя, в его последний приезд на родину. – Нива, 1884, № 5, с. 115).
Реальную основу рассказа «Странная история» подчеркивал и Н. С. Лесков, утверждавший в 1869 г. в статье «Русские общественные заметки»: «Содержание ее вполне не вымышленное, а истинное: это давняя история жившего в тридцатых годах в городе Орле „блаженного Васи“ и одной орловской же девицы, отрекшейся от света и пошедшей „угождать юродивому“» ( ЛесковН. С. Собрание сочинений. М.: Гослитиздат, 1958. Т. 10, с. 85). Не видя в «Странной истории» ничего, кроме «самым обыкновенным образом рассказанного анекдота, к которому в Орле давно уже приснащены были разные подробности, упущенные г. Тургеневым или вовсе ему неизвестные», Лесков говорил о незначительности не только этого произведения, но и других рассказов и повестей 60-х годов, считая, что «„Собака“, „Лейтенант Ергунов“, „Бригадир“ и „Несчастная“ < …> просто неудачные абрисы, которые можно было бросить, но можно было, пожалуй, и напечатать, когда пристают да просят: „Дайте, дескать, нам что-нибудь бога ради!“» (там же, с. 86).
Из «Заметок» Лескова мы узнаем также, что рассказ возбудил оживленное обсуждение среди литераторов и читателей, что по его поводу ставили вопрос о «зарубежничестве» Тургенева, о его праве описывать темные явления русской жизни, находясь вне пределов родины, о допустимости для русского литератора писать или печатать свои произведения на других языках, об идеях и взглядах героини «Странной истории», о естественнонаучном объяснении таинственных явлений психики, описанных в рассказе. Высказав свое мнение по этим вопросам, Лесков заканчивал статью утверждением, что повести и рассказы Тургенева последних лет лишь беглые этюды, подготавливающие, возможно, новый серьезный труд писателя, и выражением надежды, что в этом труде Тургенев решительно отмежуется от нигилистов, откажется от попыток найти с ними общий язык. Капитальный труд Тургенева, в некоторых отношениях действительно подготовлявшийся повестями шестидесятых годов, – «Новь», как известно, не оправдал этих надежд Лескова.
В. Я. Брюсов, оценивавший содержание «Странной истории» через двадцать шесть лет после ее появления, почувствовал ее новизну и актуальность в бо́льшей мере, чем современники Тургенева. В письме к Н. Я. Брюсовой он утверждал: «Василий и Софи́ два новых типа у Тургенева. В те годы софи́ только что стали появляться в русской жизни. Тургенев перенес этот тип на 15 лет назад и сообразно с этим изменил обстановку. Основная черта этого типа – жажда подвига, желание „душу свою положить ради идеи“. Центр<альное> место расск<аза> – разговор на балу» (см.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 185). В отличие от Брюсова, считавшего главным достоинством рассказа историческую достоверность изображенных в нем характеров людей, стремящихся служить идее, Ин. Анненский усмотрел в образе Софи извечное экстатическое стремление к мистическому идеалу духовного совершенства и страдания ( АнненскийИ. Ф. Белый экстаз. – Книга отражений. М., 1979, с. 141–146).
…в губернском городе Т… – Место действия рассказа условно. Реальный случай, послуживший основой сюжета произведения, очевидно, произошел в Орле. Однако Тургенев, после некоторого колебания, обозначил как место действия город Т… и «С…кую губернию, находящуюся, как известно, рядом с губернией Т…ской» (с. 152), т. е. Тамбов и граничившую с Тамбовской (смежной также с Орловской) губернией Саратовскую губернию (см. выше творческую историю произведения – наст. том, с. 468).
По духу, батюшка, по духу! – Эти и другие слова Мастридии, тайна, которой сопровождается посещение ее дома, а также некоторые речи Василия дали основание Н. Л. Бродскому считать Мастридию, все ее окружение, а в конечном счете и Софью Владимировну Б. – сектантами (см.: БродскийН. Л. И. С. Тургенев и русские сектанты. М., 1922, с. 25–38).
…я остановился, наконец, на – французе, бывшем моем гувернере. – Тургенев дважды до «Странной истории» и еще один раз после написания этого рассказа пытался создать образ гувернера эмигранта Дессёра. В списке действующих лиц не дошедшей до нас пьесы «Компаньонка» (1850) значится «M-r Dessert, бывший учитель Званова – 60 лет». Присутствует это лицо и в плане романа «Два поколения» (1852–1853). Здесь оно зафиксировано как «M-r Dessert, 60 лет, француз, бывший гувернер Д<митрия Петровича>». С. Т. Аксаков, читавший впоследствии уничтоженный текст романа «Два поколения», утверждал, что француз – лучший образ среди наиболее удачных второстепенных лиц произведения (см. его письмо Тургеневу от 4 августа 1853 г. – Рус Обозр,1894, № 10, с. 482), В 1881 г. Тургенев включил в перечень лиц рассказа «Учителя и гувернеры», который по его замыслу должен был войти в задуманный им цикл «Отрывки из воспоминаний – своих и чужих», персонаж: «Дессёр старик. – Эмигрант».
Богоугодность тут ни к чему – подчинения воли одного человека воле другого… – Проблемы «магнетизма», гипноза и разных непонятных и необъяснимых форм воздействия воли одного человека на другого занимали умы в особенности с начала 50-х годов XIX века. Наряду с мистическими и идеалистическими толкованиями загадочных психических явлений в 1850-х, а также в 1860-80-х годах делались попытки их объяснения в духе естественнонаучного эмпиризма и позитивистской, вульгарно-материалистической философии. Относя действие рассказа к середине 1850-х годов («Лет пятнадцать тому назад», – начинается рассказ, напечатанный в 1870 г.), Тургенев соблюдает историческую точность, когда наделяет рассказчика естественнонаучными, хотя и «сбивчивыми», взглядами на явления гипноза и внушения, обсуждавшиеся в эти годы очень широко. Ряд исследователей связывает сюжеты «таинственных повестей» Тургенева, и в том числе эпизод с гипнотическим внушением в «Странной истории», с естественнонаучными интересами Тургенева (см.: БялыйГ. Тургенев и русский реализм. М.; Л.: Советский писатель, 1962, с. 208–217).
…у кого на одно горчишное семя веры, тот может горы поднимать с места? – Софи пересказывает евангельский текст (от Матфея, гл. 17, ст. 20). Самоотречение Софи, ее готовность всем пожертвовать ради служения тому, что она считает своим нравственным долгом, сближает ее в сознании Тургенева с девушками, ушедшими в революцию. Противопоставляя революционной «вере в чудо» больших общественных сдвигов свои либеральные надежды на постепенный прогресс, Тургенев употреблял почти те же выражения, какими пользовались участники спора о «чуде» в «Странной истории». 22 февраля (6 марта) 1875 г. он писал А. П. Философовой: «Пора у нас в России бросить мысль о „сдвигании гор с места“ – о крупных, громких и красивых результатах < …> мы умрем – и ничего громадного не увидим».
Своим детским лицом – она напоминала мне дорафаэлевских мадонн… – Итальянские художники раннего Возрождения, предшественники Рафаэля – Лоренцо Джерини, Фра Анджелико да Фьезоле, Антонио Росселино и другие придавали лицам своих мадонн выражение наивной веры. Скованность фигур на их картинах, отсутствие разработанного фона и перспективы – черты, характерные для средневековой живописи, – усиливали впечатление духовной, религиозной отрешенности образов их произведений.
…я не осуждал ее, как не осуждал впоследствии других девушек – видели свое призвание. – Сопоставление Софи с девушками-революционерками раскрывает в значительной степени источник интереса писателя к этой героине. В рассказе Тургенев показал типичное, как ему казалось, для русской жизни определенного периода заблуждение женщин с сильным характером, самоотверженным сердцем и несколько догматическим направлением ума. Сопоставляя Софи и девушек-революционерок, писатель проводит вместе с тем определенную грань между ними: он говорит о своем непонимании поступка Софи, выражает сожаление, что «Софи пошла именно этимпутем», – ничего подобного не говорится о революционерках. Стремление Тургенева выразить сочувствие «нигилистам» нашло наиболее полное воплощение в очерке «По поводу „Отцов и детей“», который был задуман в пору работы над рассказом «Странная история». На обложке рукописи этого рассказа записан черновой план «Литературных воспоминаний», в который включена статья «По поводу „Отцов и детей“».
Степной король Лир
Источники текста
Черновой автограф. 94 с. Хранится в отделе рукописей Bibl Nat,Slave 85; описание см.: Mazon,p. 75; фотокопия – ИРЛИ,Р. I, оп. 29, № 318.
Беловой автограф. 70 с. Хранится в отделе рукописей Bibl Nat,Slave 76–77 – 78–86; описание см.: Mazon,p. 79; фотокопия – ИРЛИ,Р. I, оп. 29, № 217.
ВЕ,1870, № 10, с. 441–507.
Т, Соч, 1868–1871,ч. 8, с. 61–148.
Т, Соч, 1874,ч. 7, с. 57–140.
Т, Соч, 1880,т. 8, с. 269–355.
Т, ПСС, 1883,т. 8, с. 285–381.
Впервые опубликовано: ВЕ,1870, № 10, с подписью: Ив. Тургенев.
Печатается по тексту Т, ПСС, 1883со следующими исправлениями по другим источникам:
Стр. 170, строка 36:«он поступил в „вотчинную контору“» вместо «он поступил в „вотчинскую контору“» (по всем другим источникам).
Стр. 175, строка 42:«Когда это ты успел» вместо «Когда ты это успел» (по всем другим источникам).
Стр. 191, строки 31–32:«как худые кузнечные меха» вместо «как кузнечные меха» (по всем другим источникам).
Стр. 196, строка 24:«приятно, что „встрелся“ с вами» вместо «приятно, что „встретился“ с вами» (по всем источникам до Т, Соч, 1880).
Стр. 207, строка 38:«Оттого я и к вам» вместо «Оттого я к вам» (по всем другим источникам).
На обложке черновой рукописи повести «Степной король Лир» записана авторская помета о времени, месте и ходе работы над нею: «Начат в Карлсруэ, Hôtel Prinz Max, в субботу 27 / 15-го февр. 1869. Кончен в Веймаре, Hôtel de Russie, в субботу, 2 апр. / 21-го марта 1870. (Писано с огромным, 10-месячным промежутком.)».
Первоначальный список действующих лиц произведения занесен в тетрадь, на которой сделана помета: «Эта тетрадка мною взята у Фредро 19 / 7 февраля 1869, в Баден-Бадене». Вслед за тем, в феврале же, писатель создал подробные и обширные характеристики действующих лиц, написав их в отдельной тетрадке (Формулярный список лиц нового рассказа). Однако далее работа над повестью была приостановлена, и Тургенев обратился к разработке нового сюжета. В тетради, в которой был первоначальный план повести, Тургенев пишет рассказ «Странная история». Вероятно, работа над повестью задержалась оттого, что у писателя не было некоторых фактических сведений и юридических данных для оформления его замысла. 27 февраля (11 марта) 1869 г. он запрашивал своего управляющего Н. А. Кишинского о юридических условиях передачи имения при жизни владельца. Из этого письма ясно, что сюжет в общих чертах писателем был уже продуман. «Я начал повесть, в которой главное действующее лицо, старик-помещик, задумал при жизни своей передать свое родовое имение двум своим дочерям. (Дело происходит в 40-м году.) Мне нужно знать в подробности,как это делается или делалось, кому, в какое место подавалась просьба, как составлялся акт, как он приводился в исполнение, кто при этом должен был присутствовать в качестве свидетелей, какие полицейские или административные лица (исправник, дворянский предводитель? и т. д.). Всё это потрудитесь написать мне самым обстоятельным, деловым образом. Даже, если это Вас не затруднит, приложите образчики просьбы, акта (дарственной записи) и т. д. Отца, положим, зовут Мартын Петрович Харлов; старшая дочь, Анна, замужем за неслужащим дворянином Васильем Васильевым Слёткиным; вторая дочь, Евлампия – девица…», – писал Тургенев, излагая основные ситуации будущей повести.
Н. А. Кишинский, очевидно, выполнил просьбу Тургенева. Во всяком случае в Парижском архиве писателя хранятся выписки из гражданских законов: «Правила из узаконений. Дарение», «Выдел и приданое», «Духовные завещания» ( Bibl Nat,Slave 76, фотокопия – ИРЛИ,Р. I, оп. 29, № 229).
Работа над повестью продолжалась, то прерываясь, то возобновляясь. 10 (22) мая 1869 г. Тургенев писал Кишинскому: «Я работаю усиленно…», а 5 (17) июня 1869 г. сообщал М. М. Стасюлевичу, что написал около трети повести, и обещал выслать ее своевременно для опубликования в январской-февральской книжке «Вестника Европы».
Вынужденный (вследствие болезни) отказ от поездки в Россию на лето 1869 г., видимо, отрицательно сказывался на работе над повестью. 10 (22) сентября писатель жаловался П. В. Анненкову, что работает вяло и туго. 2 (14) января 1870 г. он сообщал редактору «Вестника Европы», что работа над повестью близится к завершению: «Повесть, о которой я Вам писал, Вы получите через месяц – наверное заглавие ее: „Степной король Лир“» (впервые в своей корреспонденции Тургенев сообщает название повести). Однако в марте-апреле 1870 г. писатель обращался к своим русским корреспондентам с просьбой сообщить новые необходимые сведения. Спрашивая о том, как называются части крыши, он замечал: «Не говорят же плотники: первый, второй трехугольник…». Н. А. Кишинского и И. П. Борисова он просил ответить на эти вопросы как можно скорее, а 12 (24) апреля 1870 г. благодарил первого из них «за сообщение» и извещал, что «узнал всё, что хотел». Таким образом, работа над повестью, в основном оконченной 2 апреля (в конце чернового автографа помета: «Веймар. Hôtel de Russie. Суббота, 2-го апреля / 21-го марта 1870, 3 / 4 12-го пополудни»), продолжалась. Доделки осуществлялись, очевидно, в ходе переписки рукописи (см. письмо И. П. Борисову от 1 (13) апреля 1870 г.). Летний приезд в Россию Тургенев использовал для чтений повести русским слушателям, советов с друзьями и дополнительной обработки текста. Живя проездом в Петербурге, он знакомит с повестью П. В. Анненкова и читает ее в доме А. К. Толстого. Эти чтения навели писателя на мысль «произвести значительные исправления», необходимость которых, как ему казалось, вызвана тем, что он работал вне России. Оказавшись в Спасском, писатель снова углубляется в работу, по собственному признанию, погружаясь «с головою в волны давно < …> уже покинутой русской жизни» (см. письма: А. М. Жемчужникову от 5 (17) июня 1870 г. и П. В. Анненкову от 15 (27) июня 1870 г.).
16 (28) июня 1870 г., сообщая Полонскому из Спасского, что он переправляет и перепахивает повесть, Тургенев добавляет: «…теперь, слава богу, кончил…» В Спасском, очевидно, и были произведены те исправления, дополнения и сокращения, которые мы видим в беловой рукописи (первой копии), за которой, по всей вероятности, последовала вторая копия – наборная рукопись, до нас не дошедшая. Первый список действующих лиц говорит о том, что писатель стремился с самого начала точно определить хронологию событий повести, возраст героев, место и время действия. Он исправляет даты рождения некоторых лиц, время событий и имена. Автор ищет имена, которые были бы выразительны, но не слишком в лоб передавали свойства героя. Уже за пределами данной рукописи, при работе над формулярным списком действующих лиц повести, Януарий Слёткин превращается сначала в Андрея, затем во Владимира. Имя Януарий – от древнеримского двуликого Януса – слишком определенно говорило о двуличии героя. Дважды меняет Тургенев в первоначальном списке действующих лиц имя Житкова Малахай на Гавриила, затем на Филиппа, а в формулярном списке снова – Гаврила, первоначально с отчеством: Филиппов. Имя Малахай было сразу отброшено, видимо, как слишком прямая характеристика. Интересны колебания писателя между именами Гавриил и Филипп (по-гречески любитель лошадей); в списке действующих лиц сравнение с лошадью составляет существенный элемент характеристики Житкова. «Формулярный список лиц нового рассказа» отражает процесс проникновения писателя в сущность характеров, которым предстояло действовать в его произведении. Характеристика внешности героев, случаи и анекдоты из их жизни, содержащиеся в этом списке, в большинстве своем вошли в произведение, составив его описательную часть, но не определив собою сюжет.
Черновая рукопись свидетельствует о том, что до приезда писателя в Россию и переделки повести в Спасском ее текст отличался от окончательного прежде всего композиционно. Повесть была разбита на более крупные главы, в ней не было сцены свидания Слёткина и Евлампии в лесу; зато тщательно был разработан эпизод ухода Евлампии из родного дома. Вместо краткого сообщения об уходе Евлампии (см. окончательный текст, с. 223: «Несколько дней спустя – взявши только несколько сот рублей») в черновом, а затем и в беловом автографах была тщательно разработана сцена встречи рассказчика с Евлампией: «В течение ночи, последовавшей за днем похорон, выпала первая пороша; как только настало утро, я отправился с ружьем выслеживать зайцев. На дороге в Еськово (мне в моих поисках несколько раз пришлось ее пересекать) я увидел женщину в подпоясанном капоте с котомкой за плечами, с платком на голове. Она шла большими шагами, слегка подпираясь палкой. Я ее принял сперва за богомолку и, только поравнявшись с нею, узнал в ней Евлампию. Я узнал ее по глазам, которые она быстро вскинула на меня: лоб и нижняя часть лица были закрыты. Не печаль и не горе выражали эти глаза – напротив, в их взгляде более чем когда-либо высказывалось то надменное и почти дикое „не тронь меня“, которое всегда меня в них поражало. Место, где я ее встретил, было недалеко от того места, где я в первый раз увидал ее с Слёткиным; вспомнилась мне ее удалая песенка, вспомнился венок из васильков на ее голове, и жаркий день, и золотистый блеск лазурного неба, на котором так стройно рисовался ее образ; и вот теперь спешит она, вся темная, закутанная – по мертвому белому снегу… Куда? Я не смог спросить ее, да она бы и не ответила мне».
Работа над образами Харлова и его дочерей, несомненно, связанная с учетом замечаний русских друзей и с решением писателя отсечь конец повести (обсуждение рассказанного слушателями), органически продолжала творческий процесс, начало которого отражено в списках действующих лиц [200]200
Варианты белового автографа см.: Т, ПСС и П, Сочинения,т. X, с. 380–405; варианты чернового автографа см.: Т сб,вып. 5, с. 147–207.
[Закрыть]. Уже на самой ранней стадии разработки образа Харлова Тургенев отмечал народность своего героя-богатыря, участника партизанской войны 1812 года, пользующегося неограниченным уважением крестьян за физическую силу, твердый характер и безупречную честность. «Страшная стихийная сила» – записывает о нем Тургенев в формулярном списке. В беловом автографе к этой характеристике добавляется сравнение внешности Харлова с чертами Кромвеля. Вместе с тем на первой стадии работы над повестью писатель нагнетал бытовые детали, всячески заземляя образ Харлова, подчеркивая в нем черты «степного» помещика. На полях черновой рукописи Тургенев вписывает, например, важную причину расположения «матушки» к Харлову, тщательно отрабатывая фразы. Так возникли варианты: а.она видела в нем какого-то преданного великана, который за нее один на целое село пойдет; б.она видела в нем преданного великана, который за нее готов пойти один на ватагу крестьян (ср. окончательный текст, с. 163).
Исправления, которые произвел Тургенев в тексте повести в России, не изменили характеристику Харлова – властного хозяина, феодала, но внесли существенные коррективы в отношения между ним и его подчиненными в момент, изображенный в повести. О казачке Максимке, например, первоначально было известно лишь, что он сопровождал Харлова во всех поездках, еле помещаясь с ним рядом на дрожках, а затем был отнят у хозяина Слёткиным и отдан в ученье. В беловом автографе он делается постоянным чтецом Харлова. Работая над сценой бунта Харлова (разорение дома и гибель героя), Тургенев внес в этот и в последующие эпизоды много новых моментов, которые должны были подчеркнуть народность образа героя, поднять его над провинциально-помещичьей средой и выдвинуть в нем народные черты. В беловом автографе были вписаны эпизоды, рисующие сочувствие народа Харлову и презрение его к Слёткину, и дополнительно обработаны реплики крестьян, не желающих принимать участия в „усмирении“ Харлова (см. с. 217). Таким образом, Харлов выступает не как «усмиритель» крестьян, а как мститель, озлобление которого понятно и близко крестьянам.
На полях рукописи в главе, рисующей «бунт» Харлова, Тургенев сделал запись «Максим». Затем там же в текст был внесен эпизод появления Максимки, обращение к нему Харлова: «Максимушка, друг! < …> Полезай ко мне, Максимушка, товарищ верный, станем вдвоем отбиваться от лихих татарских людей», – обращение, в корне меняющее представление о взаимоотношениях Харлова и его казачка, который отделился «от толпы крестьян», чтобы помочь хозяину (см. в окончательном тексте с. 219).
Уже на первом этапе работы Тургенев тщательно разрабатывал восклицания, которыми встречал Харлов своих «усмирителей» и которым соответствует окончательный текст на с. 219. На полях чернового автографа Тургенев вписал: «Я хозяин строгий, не в пору гостей не люблю». Затем он намеревался заменить «не в пору» на «не в духе», но эта замена не состоялась. Писатель явно хотел особо подчеркнуть не самодурство своего героя («не в духе… не люблю»), а присущее ему чувство собственного достоинства. Реплика «Я хозяин строгий» и т. д. в окружении эпизодов, рисующих сочувствие крестьян Харлову, рядом с упоминанием о былых боях против «лихих татарских людей» ассоциируется с участием Харлова в Отечественной войне и по своей народной форме, лаконизму, юмору напоминает подписи под лубочными картинками 1812 года.
Мысль о литературном «прототипе» повести, о соотношении рассказанной в ней истории с трагедией Шекспира, не оставлявшая писателя с самого начала оформления замысла до завершения повести на первоначальной стадии, когда создавался черновой автограф, выражалась в стремлении низвести трагедийные ситуации, близкие к Шекспиру, до уровня захолустного быта русской крепостной деревни. Создав весь основной текст повести, Тургенев на этой стадии как бы закрыл все пути к просветлению, к трагедийному разрешению изображенных конфликтов. Сатирическая окраска образов превалировала. Все светлые начала человеческих характеров шекспировского оригинала не находили себе соответствия в его степной «копии». Отсутствие Корделии, Кента, Глостера, Эдгара, превращение резкого, но глубоко преданного королю и правдивого мудреца-шута в мелкого и гадкого завистника Сувенира, не охраняющего, а стремящегося всячески уязвить Харлова, соответствовали характеру центрального героя, лишенного многих тонких оттенков, позже внесенных автором в текст.
Работая над беловым автографом, Тургенев был озабочен тем, чтобы сделать более ощутимыми черты сходства рассказанной им истории с трагедией Шекспира.
15 (27) июня 1870 г. он сообщал Анненкову из Спасского: «… мотивация, внесенная мною в „Короля Лира“, относится к его решению поделить имение; разорение должно быть следствием вспышки и так и осталось». Тургенев не внес в текст повести новых сколько-нибудь значительных мотивировок поступка Харлова, но углубление и развитие характера героя и его дочерей сделало более объяснимым его внезапный порыв к самоотречению, к тому, чтобы испытать, испробовать пределы своей власти и своего влияния на окружающих.
В беловой автограф вписываются: целая глава (IV в окончательном тексте), а затем еще один отрывок (конец XV главы) о смутных философских раздумьях героя, о неосознанном его стремлении к познанию тайн жизни и смерти, о его наивных, темных рассуждениях, в которых своеобразно преломились рационалистические и мистические теории конца XVIII века. Подобно многим другим героям рассказов и повестей Тургенева, написанных в 1860-х годах, Харлов «человек XVIII века». Отсюда его вольнодумство, уживающееся с мистическими толками о тайнах загробной жизни и силе страстей человеческих. Благодаря этим новым элементам характеристики Харлова его отказ от имущества выступает как результат сложных стихийных нравственных исканий, а не как прихоть самодура.