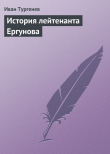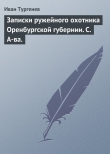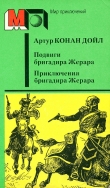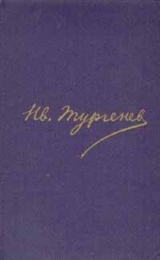
Текст книги "Том 8. Повести и рассказы 1868-1872"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 39 страниц)
Александра Васильича-то? – помню, маленький был, живой старичок. – В жизнеописании Суворова, вышедшем незадолго до работы Тургенева над рассказом «Бригадир», о поведении Суворова во время войны в Польше читаем: «Суворов не старелся. Ему было тогда 64 года, но, как живой и бодрый юноша, он изумлял своей неутомимостью» (Русские люди. Жизнеописание соотечественников. СПб., М.: Изд. Вольфа, 1866. Т. 1, с. 251).
В Варшаву-то на казачьей лошади въехал; сам весь в бралиантах… – После боя за Прагу и овладения ею Суворов въехал в сдавшуюся Варшаву во главе русских войск. Он ехал «на казацкой лошади в виц-мундире, без орденов, кроме георгиевской звезды…» (там же, с. 258). На следующий день Суворов «в полном мундире, украшенном бриллиантовыми эполетами и бриллиантовою петлицею на шляпе, во всех орденах своих, при шпаге, осыпанной бриллиантами, сопровождаемый своими генералами и чиновниками русского посольства, отправился посетить короля Станислава» (там же, с. 258). Таким образом, в воспоминаниях Гуськова слились два события, свидетелем которых он был.
«Нету у меня часов, в Питере забыл, нету, нету!»– Гуськов вспоминает один из многочисленных рассказов об остроумных, ставших крылатыми выражениями и передававшихся из уст в уста в армии, ответах Суворова. Суворов никогда не носил часов. В Польшу он отправился из действующей армии, через Брест, не заезжая в Петербург.
…а они-то: «Виват! виват!»– Милость Суворова, проявившего после взятия Праги готовность гарантировать безопасность жителей Варшавы, была неожиданна и произвела огромное впечатление на варшавян. Суворов отпускал, разоружив, многих пленных. Так, например, на просьбу короля Станислава об освобождении одного пленного офицера он ответил освобождением пятисот польских офицеров и солдат.
…с английским милордом Гузе-Гузом на шпантонах дрался… – Шпантон (эспантон) – длинная тяжелая шпага. Гузе-Гуз – искажение какой-то английской или другой иностранной фамилии. В таком произношении представляет собою каламбур – дважды повторенное английское название птицы «гусь» (goose). Рассказывая устами Наркиза о бое своего героя – бригадира Гуськова с англичанином по фамилии «Гусь», Тургенев вводил юмористический пассаж в стиле Гоголя. Смешение сурового трагизма с юмористическим началом (в частности, в фамилии главного героя) заметил и не одобрил П. Мериме (см.: Mérimée,II, 8, p. 169).
«Вот где проявился Вертер!»– Вертер – герой романа Гёте «Страдания юного Вертера» (1774), романтический юноша, готовый на любые жертвы во имя своей любви; кончил жизнь самоубийством, когда оказался перед необходимостью расстаться со своей возлюбленной.
Странное имя для «Шарлотты» – Аграфена! – Шарлотта (Лотта) – героиня романа Гёте «Страдания юного Вертера», предмет пламенного поклонения романтического возлюбленного.
«Милостивая государыня! – Василий Гуськов, бригадир и кавалер». – Письмо, включенное в рассказ «Бригадир», представляет собой художественно обработанный подлинный документ, хранившийся в архиве В. П. Тургеневой – матери писателя (см. выше, с. 435).
В письме Тургенева к Н. А. Кишинскому от 3 (15) апреля 1867 г. есть описание этого документа: «Это письмо, написанное старинным почерком на большом листе серо-синей бумаги». Здесь же дается указание на время, когда оно писалось: «…письмо это было написано к моей матери в 19 или 20 году одним отставным бригадиром, который рассказывал свою связь с лутовиновским семейством и просил приюта». Копируя подлинное письмо прототипа героя своего рассказа, Тургенев первоначально опустил все содержавшиеся в нем даты, затем, переписывая письмо после литературной его обработки, проставил дату 1815 год в качестве года смерти Агриппины Ивановны и первого обращения бригадира к ее племяннице Раисе Павловне. Таким образом, писатель сознательно несколько сдвинул события, «приблизив» их к XVIII веку, эпохе, к которой отнес военную карьеру Гуськова. Н. М. Чернов отметил, что использованное Тургеневым письмо не могло быть написано ранее 1823 года. А. И. Шеншина умерла в мае 1820 г. В марте 1823 года Козлов (прототип Гуськова) послал апелляцию в сенат, в это время и началось упоминаемое в письме рассмотрение дела в сенате (см.: ЧерновН. М. Еще одна Салтычиха. – Неделя, 1968, № 35, 25 августа, с. 23).
…моим же добром себя угобзила. – Угобзить – обогатить; от слов: «гобза» – кошелек, «гобина» – деньги, обилие.
Несчастная
Источники текста
Черновой автограф. 111 с. Хранится в отделе рукописей Bibl Nat,Slave 85; описание см.: Mazon,p. 75; фотокопия – ИРЛИ,Р. I, оп. 29, № 317.
Брловой автограф. 185 с. Хранится в отделе рукописей Bibl Nat,Slave 75; описание см.: Mazon,p. 76; фотокопия. – ИРЛИ,Р. I, оп. 29, № 330.
Рус Вестн,1869, № 1, с. 37–112.
Т, Соч, 1869,ч. 6, с. 279–371.
Т, Соч, 1874,ч. 6, с. 279–369.
Т, Соч, 1880,т. 8, с. 147–239.
Т, ПСС, 1883,т. 8, с. 150–255.
Впервые опубликовано: Рус Вестн,1869, № 1, с подписью: Ив. Тургенев.
Печатается по тексту Т, ПСС, 1883со следующими исправлениями по другим источникам:
Стр. 86, строка 12:«а то и побольше» вместо «а то побольше» (по беловому автографу и Рус Вестн).
Стр. 86, строки 37–38:«эту шаль и этот плащ, занесенные снегом» вместо «эту шаль и этот плащ, занесенный снегом» (по беловому автографу).
Стр. 101, строки 5–6:«не нуждается ни в этом прощении, ни в том названии» вместо «не нуждается в этом прощении, ни в том названии» (по беловому автографу).
Стр. 126, строка 21:«Х…х… ха…» вместо: «Ха… ха… ха…» (по всем другим источникам).
Стр. 126, строки 30–31:«словно стаковались» вместо «словно столковались» (по всем источникам до Т, Соч, 1880).
Стр. 130, строки 29–30:«траурных шляпах на сморщенных лицах» вместо «траурных шляпах на сморщенных глазах» (по черновому и беловому автографам).
В конце чернового автографа (с. 107 тургеневской нумерации) имеется помета, сделанная Тургеневым по завершении основной работы над этой рукописью: «Баден-Баден. Thiergartenstraße 3; середа 9-го сентября / 28 августа 1868 3 1/2часа пополуночи». Эта запись была позже перенесена на обложку рукописи, где помещены данные о времени начала работы и о публикации произведения: «Начат весною 1868-го года. Кончен в середу 9-го сентября / 28 августа 1868-го г. Баден-Баден. Тиргартенштрассе 3 (напечатан в 1 №-ре „Русского вестника“ за 1869 г.)». Видимо, уже в начале 1868 года писатель составил те подробные планы и списки действующих лиц повести, которые сохранились в его парижском архиве (по аналогии с другими подобными списками мы будем в дальнейшем называть их «Формулярным списком действующих лиц» – ср. название таких характеристик героев повести «Степной король Лир»). 12 (24) февраля 1868 г. Тургенев сообщал М. Н. Каткову, что к весне закончит повесть, что готов прочесть ее редактору «Русского вестника» и поместить в его журнале в конце 1868 – начале 1869 г. Работа над повестью в значительной степени протекала летом 1868 года, во время пребывания писателя в Спасском. В письмах к Полине Виардо Тургенев говорил об обступивших его на родине впечатлениях и воспоминаниях. 14 (26) июня писатель сообщал: «Я увидел себя совсем еще маленьким мальчиком < …> Затем возникли воспоминания о молодом студенте…», а 16 (28) июня, рассказывая Полине Виардо об увиденном и услышанном, добавлял: «Я беспрепятственно давал себе пропитываться всем этим odeur locale; это может пригодиться».
28 августа (9 сентября) повесть была окончена, а 15 (27) сентября уже и переписана (см. письмо Тургенева к Я. П. Полонскому от 15 (27) сентября 1868 г.).
Первоначальному плану произведения предшествовало заглавие: «Рассказ». Более точно определить на этом этапе заглавие произведения писатель еще не пытался. Прежде всего Тургенев указывает в плане год, когда происходит действие, – 1835, причем колеблется между 1834, 1835 и 1836 годами. Затем, отмечая конспективно основные обстоятельства и события, которые должны были составить сюжетный костяк «рассказа» (дружба с Фустовым, знакомство с Ратчами, прошлое семьи Ратчей, клевета Виктора, «исповедь» Сусанны, ее гибель и поминки), обращает особое внимание на даты этих событий.
Первая половина плана посвящена главным образом разработке хронологии событий будущего произведения. Писатель отмечает даты рождения, смерти и возраст даже второстепенных действующих лиц. Так, например, возраст детей Ратча от второго брака не только указывается, но устанавливается путем уточнений и переделок; даются: дата приезда Ратча в Россию, с указанием возраста его в то время («въехал в Россию 22 лет – 1802»), и дата его второго брака, дата не только смерти, но и рождения Ивана Матвеича и Семена Матвеича Колтовских и т. д. Писатель производит как бы перекрестное сличение данных, ставя рядом события, происходящие в одно время и помечая возраст участников этих событий. При этом он уточняет время каждого эпизода будущего повествования. Против слов: «она его полюбила – шла к нему на свидание – и нашла подставленного по милости Ратча отца» приписано: «(июль 1827)».
Разделение первоначального плана на две части, первая из которых содержит хронологический костяк событий, а вторая – основной сюжет произведения, особенно наглядно потому, что в обеих частях плана автор пишет об одних и тех же событиях. Так, о знакомстве Петра Гавриловича с Фустовым писатель говорит в самом начале плана («Мне 18, товарищу – Андрей Давидовичу Фустову 24») и затем – снова после перечисления всех действующих лиц и характеристики их взаимоотношений: «Я жил в одном доме с Фустовым. Знакомство». Дважды говорится также о знакомстве с Ратчем и его семьей и т. д. При этом во второй половине плана содержится конкретизация обозначенных выше ситуаций (ср.: «Мое знакомство с семейством Ратч. Иван Демьянович Ратч – учитель»… и т. д. и ниже: «Я у него <Фустова> вижу в первый раз Ратча, который давал урок его брату и зашел трубочку покурить»).
Построение повести, ее сюжет, характер взаимоотношений действующих лиц уже в первоначальном плане весьма близки к тому, как они осуществились затем в повести. Однако имеются и отличия, подчас существенные. Так, например, в первоначальном плане, намечая тему враждебности семьи Ратчей к Сусанне и точно обозначая родителей героини (дочь первой жены Ратча и «богатого барина Ивана Матвеича Колтовского»), автор ничего не говорит об еврейском происхождении Сусанны. Несмотря на то, что и здесь сразу говорится об экзотическом внешнем облике Сусанны, писатель как бы подчеркивает русское происхождение героини, характеризуя ее мать: «Она была русская, дочь почтмейстера, вроде бывшего Мценского, звали ее Прасковьей Дмитриевной». В формулярном списке действующих лиц Тургенев снова указывает: «родилась от И. М. К<олтовского> и Пар<асковьи>». Менее существенны такие расхождения плана с текстом повести, как пение вместо игры на фортепьяно при втором посещении Ратчей, признание Фустова Петру Гавриловичу о клевете Виктора (до посещения трактира), визит Петра Гавриловича к Ратчам после отъезда Фустова (в тексте повести рассказчик так и «не решается» на это посещение), устная исповедь Сусанны (вместо чтения тетради), получение известия о смерти Сусанны через Виктора (а не Фустова) и т. д.
Составляя план, писатель не сразу находил имена некоторых героев. Фустов носил сначала фамилию «Образцов». Замена фамилии героя определялась, очевидно, стремлением автора избегнуть слишком откровенной характеристики героя через его имя (ср. в окончательном тексте: «пользовался репутацией образцового родственника»). Главной героине писатель дал сначала имя «Магдалина», но тут же, не продолжив фразы, заменил его на «Сусанна»; при этом он, по-видимому, исходил из того, что ассоциации, которые вызывает имя «Магдалина», противоречат образу целомудренной, безупречно чистой, отвергающей все соблазны девушки. Но оба имени, которыми писатель мыслил назвать свою героиню, выделяли ее из среды и могли вызвать замечание рассказчика, вошедшее в окончательный текст повести: «Вот, и имя ее тоже не под стать другим» (с. 70). В формулярном списке он один раз снова называет свою героиню «Магдалина».
Вторая жена Ратча фигурирует в плане с иным, чем в окончательном тексте, отчеством: «Элеонора Карловна». Это отчество (вместо «Карповна») сохраняется и в формулярном списке действующих лиц, и в черновой рукописи. Лишь в беловой рукописи Тургенев заменил отчество «Карловна» на «Карповна», подчеркнув таким образом степень ее обрусения.
В плане повести Тургенев, как обычно в подобных случаях, указывает прототипы некоторых персонажей. Характеристики героев зачастую сопровождаются замечаниями: «дочь почтмейстера, вроде бывшего Мценского» (о матери Сусанны), «вроде молодого сына Погодина» (о Викторе). Составив предварительный план рассказа, писатель приступил к разработке характеристик героев. Характеристика Фустова находится на нижней части страницы, содержащей план. Она написана более мелко и тесно, чем остальной текст, писатель как бы стремился уместить запись на небольшой, случайно оставшейся свободной части листа. Помимо этого на полях, рядом с характеристикой Ратча, есть запись, представляющая собою своеобразный план формулярного списка «Р. Э. В. С. Ф.» – Ратч, Элеонора, Виктор, Сусанна, Фустов. Все характеристики расположены в формулярном списке именно в этом порядке, за исключением характеристики Фустова, которую Тургенев вписал впереди Ратча, возможно, потому, что по плану повести Фустов появляется в ней раньше других героев.
Характеристика Ратча обращает на себя внимание прежде всего тем, что на полях ее текста Тургеневым нарисован профиль персонажа, выполненный в манере, обычной для него как участника «игры в портреты», которая была принята в доме Виардо. Рисунок профиля Ратча в формулярном списке передает ту особую способность Тургенева в мгновенных и точных зарисовках пером выражать характер вымышленного, но чрезвычайно реального и типичного лица, которая поражала Л. Пича, наблюдавшего «игру в портреты» (см.: PietsсhLudwig. Wie ich Schriftsteller geworden bin. Erinnerungen aus den sechziger Jahren. Berlin, 1894. Bd. II, S. 322–324). Сочетание зарисовки профиля пером и подробной социально-психологической характеристики человека в данном случае столь близко к подобным же рисункам и подписям, сделанным Тургеневым во время «игры в портреты» (см.: Лит Насл,т. 73, кн. 1, с. 455–571), что может рассматриваться как дополнительный сильный аргумент в пользу предположения, что игра в портреты явилась для писателя своеобразной тренировкой в составлении характеристик героев ( ДубовиковА. Н. Еще об «игре в портреты». – Там же, с. 447–453).
В формулярном списке героев Тургенев уже не уделяет сколько-нибудь постоянного внимания хронологии. Лишь в некоторых случаях он уточняет или вводит указание на дату события, если такое указание не было сделано в первоначальном плане. Описание внешности, краткая история героя, а главное перечисление наиболее существенных черт его характера составляет содержание характеристики. При этом писатель выражает подчас более открыто свое отношение к поступкам и характеру героя, чем в окончательном тексте. Так, в формулярном списке Тургенев прямо заявляет, что Фустов «в сущности ничем не увлекается, хотя многим интересуется», что он «в высший свет ездил мало, так [как] там ему скучно было, и он удобнее забавлялся в среднем и низшем кругу». Мысль об эгоизме Фустова, его холодности, ставшая затем подтекстом изложения, выражена таким образом откровенно в плане. Прямое, эмоциональное выражение авторского отношения к герою имеет место и в характеристике Ратча («Скверный, на все гадости способный, хитрый, наглый человек») и в характеристике Виктора («Выражение сладковато-изможденное и наглое < …> Надут, трус, подлец, завистлив и прислужиться готов…»).
Некоторые поступки героев в характеристиках формулярного списка более определенно мотивируются, чем в окончательном тексте повести. Об отношении Колтовского к Сусанне Тургенев пишет здесь: «Иван Матвеич хоть не мог решиться гласно признать ее (оттого и мать ее замуж выдал), но заботился об ее воспитании, сам читал с ней ф<ранцузски>е книги (sa jeune lectrice) < …> Умер внезапно, не оставив никакого завещания, хотя всё готовился написать».
Искреннее сожаление мачехи о смерти Сусанны и ее простодушные сетования, которые резко обрывает Ратч, могли бы мотивироваться следующей записью плана: «…свежее существо, неглупое, но приниженное и покорное < …> Говорлива, Ратч ее перебивает…». Однако отношение автора к этой героине в процессе осуществления замысла изменяется. Сохраняя большинство деталей, намеченных в формулярном списке, писатель совершенно отказывается от сочувственного и даже эпически-объективного ее изображения и дает ее образ в повести в беспощадно сатирической манере.
В формулярном списке героев вносятся некоторые новые сюжетные ходы (например, планы Семена Матвеича Колтовского относительно Сусанны, его попытки понравиться ей и инстинктивное отвращение к нему Сусанны). Здесь же Тургенев дает дополнительные отсылки к прототипам, отдельные черты или общее впечатление от которых учитывались им при создании того или другого образа. «Студент вроде Гуллерта или сына Погодина» (Виктор); «Иван Матвеич Колтовской вроде старика Бакунина – «L’aiqle se plaît dans les régions austères – помнил Версаль»… (речь здесь идет, очевидно, об Александре Михайловиче Бакунине (1768–1854), отце друзей молодости Тургенева, в частности Михаила Бакунина, владельце села Премухина Тверской губернии, где вместе с другими членами кружка Белинского бывал Тургенев); «вроде Дм. Ник.» (о Михаиле Колтовском); «вроде детей Петра Никитиевича» – о детях Ратча от второго брака.
Подробно разработанный план и характеристики действующих лиц послужили прочной основой текста повести. В черновом автографе – на первом этапе написания повести – Тургенев твердо следует руководящей нити плана и формулярных списков. Правка в черновом автографе имеет по преимуществу стилистический характер. Вместе с тем многочисленные вставки на полях чернового автографа свидетельствуют о том, как разрастался замысел, как на общую схему плана нанизывались новые характерные подробности, новые эпизоды. Внося, например, в текст фразу, данную уже в формулярном списке: «Он <Фустов> жил у своей матери, довольно богатой женщины», Тургенев приписывает на полях дополнения: «архитекторской вдовы и статской советницы». Как дополнение на полях появились строки о характере дружеских отношений Петра Гавриловича с Фустовым (с. 64): «Я не удивлялся Фустову – до своей особы». Эта фраза окончательного текста заменила слова: «Деятельность его, помнится, [особенно] возбуждала мое изумление: он вечно [что-нибудь делал] над чем-нибудь трудился, не торопливо и не шумно, но [как-то особенно] ловко и споро». Путем вставок на полях и переработки текста рассказчик был от восхищения деятельностью Фустова «приведен» к утверждению, что «удивляться в нем было нечему». Формула плана: «Я ему завидую, хотя чувствую свое превосходство над ним», очевидно, должна была найти свое воплощение здесь же. За первоначальной фразой о деятельности Фустова, приводящей рассказчика в «изумление», следовало: «В моих глазах Фустов был самым счастливым человеком на свете. К тому же он был, как говорится, удивительным „родственником“». Тут же на полях Тургенев записывает: «Жизнь текла по маслу». Запись эта затем обрабатывается и вносится в текст. Из текста устраняется постепенно всё, что могло сгладить впечатление о заурядности Фустова. Только в конце повести, проведя героев сквозь серьезные жизненные испытания и раскрыв их характеры через их поступки, писатель возвращается к пункту плана: «Я ему завидую, хотя чувствую свое превосходство». Сознание своего превосходства над Фустовым здесь появляется у рассказчика не стихийно, а вследствие сознательной оценки личности своего друга, слабости его характера. Вслед за описанием посещения Петра Гавриловича Сусанной Тургенев предполагал даже особенно подчеркнуть, что Фустов не мог вызвать зависти в своем младшем товарище. Вписанный на полях текст: «Я не скоро опомнился – искренность этой скорби, этой страсти меня поразила» (см. с. 91) первоначально оканчивался следующими строками: «Мне в голову не пришло позавидовать Фустову, [мне было бы] как это – увы! – слишком часто случается с молодыми людьми. Напротив, я бы ни за что не хотел бы [быть] очутиться на его месте, не желал бы быть тем человеком, который это сделал!„Он меня убил“, – шептал я с невольным ужасом, с тоской». Писатель вычеркнул этот отрывок, но затем развил тему критического осмысления личности Фустова Петром Гавриловичем (см. с. 123–124). В ряде случаев на полях рукописи возникали лирические отступления, – слова героев, в которых звучит авторский голос. Таковы, в частности, слова Сусанны: «Так, бывало, в детстве – убегает до капли» (с. 118) (окончательная доработка была произведена при переписывании, в беловой рукописи), слова Петра Гавриловича о поздно приходящем к человеку умении отнестись к слабости другого с «пониманием естественности, почти неизбежности вины» (с. 124), характерное замечание: «Одно лишь женское сожаление не идет сверху вниз» (с. 124), рассказ о крестьянке, оплакивавшей свою скоропостижно умершую дочь (с. 129–130).
Многие вставки чернового автографа вызваны разработкой образа матери Сусанны, раскрытием ее взаимоотношений с Иваном Матвеичем Колтовским. В формулярном списке «Несчастной» на полях есть обведенная рамкой помета: «Флигель. Портрет». Разработка этих эпизодов (жизнь Сусанны с матерью в особом флигеле, отведенном Ратчу, и описание портрета, созерцание которого раскрывает Сусанне трагическую судьбу ее матери) способствовала тому, что самый образ Колтовского предстал в более суровом, беспощадном свете. На полях страницы черновой рукописи, рядом с заглавием «Моя история» повторена помета формулярного списка: «NB. Флигель. Красивый портрет». На этой же странице возникает тема еврейского происхождения Сусанны: «Со мной вместе живет мать моя, еврейка», – над этими словами Тургенев надписывает: «дочь умершего живописца, вывезенного из-за границы». Возможно, что замысел характеризовать путь, пройденный матерью Сусанны, через описание ее портрета в юности подсказал Тургеневу мысль сделать ее дочерью живописца.
Развивая мотив еврейского происхождения Сусанны, писатель вставил фразы, в которых ее судьба сравнивается с судьбой Ревекки – героини романа Вальтера Скотта «Айвенго» (см. с. 109). Большие вставки на полях чернового автографа были сделаны в эпизоде первой встречи Петра Гавриловича с Ратчем у Фустова, и здесь, как и в других местах рукописи, дополнения, вносимые в текст, были разработкой намеченного в плане. Так, например, слова Ратча: «Дело! Дело! – завернул к вам пока, отогреться» (с. 65) развивали «мотивировку» появления Ратча у Фустова, содержащуюся в плане («давал урок его брату и зашел трубочку покурить»).
Некоторые детали плана были в процессе работы над текстом повести уточнены. В плане, например, о Михаиле Колтовском сначала было сказано: «полков<ник> гвардии», затем исправлено: «ротм<истр> гвардии». В черновом автографе чин Колтовского не обозначен – для него оставлено место. И лишь при переписывании текста, в беловом автографе, окончательно определился чин героя.
Некоторые пункты плана вошли в произведение только как элемент сюжета, не получив сколько-нибудь обстоятельной разработки. «Страшная сцена между сыном и отцом» лишь упоминается в тексте повести, а пункт плана: «Сусанна грозит самоубийством» нашел отражение в описании минутной слабости героини, которая после объяснения с Семеном Матвеичем Колтовским приняла решение покончить с собой, но тут же отказалась от него. Совсем не находят своего осуществления такие важные детали плана, как отъезд Михаила Колтовского в действующую армию на Кавказ и гибель его «в экспедиции» (в тексте повести сказано глухо: «известие о смерти гвардии ротмистра Михаила Колтовского… Исключен из списков» – с. 118). Таким образом, не только первоначальный план, но и корректирующие его дополнения-характеристики героев кое в каких деталях расходятся с текстом повести. Однако в целом работа над повестью в черновой рукописи характеризуется плавностью перехода от первоначальных замыслов, отраженных в планах и характеристиках, к полному и развернутому их осуществлению. Резких переломов, принципиальных поворотов в концепции произведения на этом этапе не происходило.
Наиболее значительная переделка в черновой рукописи – изменение окончания повести. Закончив работу, поставив свою подпись и дату, Тургенев снова вернулся к черновому автографу и приписал внизу страницы, а затем и на обороте листа большую вставку, которой в окончательной редакции соответствует текст: «Я начал размышлять – уста мои невольно шепчут: „Несчастная! несчастная“» (с. 137). Можно предположить, что эта вставка была сделана после первых чтений повести – может быть, после чтения Полине Виардо или в ее семье. Она представляет собой попытку объяснить смысл изображенной ситуации, дать дополнительную мотивировку поведения героини. Писатель как бы ведет беседу и спор с возможными оппонентами и стремится противопоставить свое понимание повести неверным толкованиям.
Попытки прокомментировать свои повести в своеобразном эпилоге характерны для Тургенева. Дискуссией о рассказанном Тургенев окончил французский вариант «Первой любви». Подобный конец первоначально предполагался и в повести «Степной король Лир». В отличие от тех случаев, когда Тургенев, написав такие концовки, отказывался от них при окончательной обработке произведения [184]184
См.: КийкоЕ. И. Окончание повести «Первая любовь». – Лит Насл,т. 73, кн. 1, с. 59–68, а также наст. изд., т. 6, с. 483.
[Закрыть], в повести «Несчастная» эпилог-объяснение был «канонизирован». Возможно, что решительное осуждение Полиной Виардо этой, «слишком мрачной», повести побудило Тургенева ввести умиротворяющие слова в свое заключительное «резюме»: «Кто знает: быть может – ее душа уже радовалась тому, что ушла сама к нему, к своему Мишелю?» (с. 137). Это дополнение вносило некий новый оттенок в концепцию окончания повести. Не меняя общего безнадежно-скорбного ее тона, писатель смягчил его за счет лирического отступления о силе любви, способной победить даже смерть.
После доработки окончания повести Тургенев переписал ее набело, дополнительно исправляя стиль. В беловом автографе он несколько сокращает описания, стремясь, видимо, устранить элементы, которые в тексте черновика представляли собой продолжение работы над характеристиками формулярного списка и были нужны скорее автору для полного уяснения своего героя, чем читателю. Так, после слов: «было его девизом» (см. с. 65) Тургенев вычеркнул: «и здоровье его процветало. Я ни у кого не видывал таких белых и блестящих зубов, такой крепкой и гладкой кожи». После: «а я промолчал» (с. 66) зачеркнуто: «Неприятное впечатление производил на меня этот многошумный господин Ратч, со своим заигрываньем, хлопаньем по ляжкам, со своим медным смехом, во время которого белые глаза его как-то странно и беспокойно бегали из стороны в сторону».
Наряду с этим писатель стремился к внесению новых реалий, характерных для эпохи, среды и места действия. Уже в черновом автографе, говоря об исполнении Сусанной сонаты Бетховена, Тургенев оставил место для ее названия, которое, он, очевидно, тогда еще не определил. В беловом автографе писатель прибавляет еще один опознавательный признак, желая совершенно точно указать вещь, исполняемую Сусанной, – «opus…». Правда, и условное обозначение сонаты («Ф-мольная») и номер опуса были им указаны позже, а в беловом автографе для них лишь оставлено место.
В беловой рукописи обогащается речевая характеристика ряда героев, и прежде всего Ратча.
Дальнейшей разработке подвергается вопрос о происхождении и социальном самочувствии Сусанны. Здесь впервые появляются слова героини: «О, бедное, бедное мое племя – проклятие лежит на тебе!» (с. 90). После восклицания матери Сусанны, умоляющей дочь молчать о том, что Колтовской ее отец: «…слышишь, Сусанна, слышишь – ни слова!» (с. 92), Тургенев вычеркнул затемняющие ситуацию слова: «Всё это неправда». Тургенев задумался над фразой, объяснявшей причину согласия матери Сусанны на брак с Ратчем. Первоначальная аргументация: «Я не смела осуждать ее. Она должна была повиноваться. Ее, вероятно, выгнали бы из дому, если б она вздумала сопротивляться» – была им отброшена как слишком однолинейная, не передающая всей сложности положения бедной женщины в доме Колтовского. Точно так же была вычеркнута фраза, следовавшая за словами: «которых я никогда не ела» (с. 92): «Ни минуты не сомневаюсь в том, что он немедленно удалил бы меня с глаз долой, если бы стал подозревать, что я знаю, кто я».
В беловую рукопись были внесены дополнения, характеризующие культуру и круг умственных интересов Ивана Колтовского. Уже в черновом автографе Тургенев в перечисление авторов, которых Колтовской заставлял читать себе вслух, вписал энциклопедистов, а в беловой рукописи добавил Гельвеция (с. 92). Здесь же появляются слова Колтовского, раскрывающие его отношение к читаемым книгам и к окружающим людям – в первую очередь к Сусанне и ее матери. Обстоятельной обработке подверглась речь, которую Колтовской произносит перед крестьянами (см. с. 98). Колоритный спор о секте теофилантропов между Колтовским и французским эмигрантом, жившим в его доме, тоже вписан в беловой автограф на этом этапе работы, причем впоследствии он был расширен и в журнальном тексте появился с такими существенными дополнениями, как, например, искажение французом имени своего благодетеля (на полях беловой рукописи содержится запись: «Kolontofskoi», говорящая о том, что это дополнение обдумывалось при работе над беловым автографом). Чрезвычайно важным штрихом, внесенным в беловой автограф, является эпизод, изображающий скоропостижную смерть Колтовского и содержащий последние его слова – старинную русскую пословицу, неожиданную в устах галломана.
Особенно большое внимание Тургенев уделил характеристике Семена Матвеича Колтовского. Тургенев вписал существенные эпизоды, характеризующие его как врага просветительского материализма «вольнодумцев» XVIII века, ненавистника вольтерьянского, «якобинского духа», крепостника и мракобеса. Исправления, сделанные в беловой рукописи, усиливают противопоставление Семена Матвеевича Колтовского его брату, человеку XVIII века, и раскрывают желание Семена Колтовского подражать в своем быту нравам царей – Александра I и Николая I (желание иметь «своего Аракчеева», которому при его «бескорыстии и усердии» может быть придано нужное «направление», демонстративное подчеркивание своего уважения к церкви, религиозности, способность быстро увлекаться женщинами и намерение иметь фаворитку и т. д.).