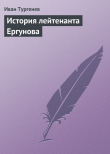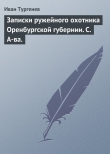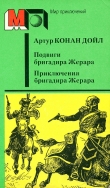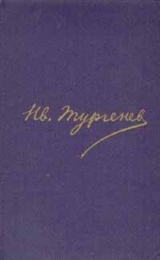
Текст книги "Том 8. Повести и рассказы 1868-1872"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 39 страниц)
Тургенев разработал, записав на отдельном листе, эпизод, рисующий чтение героем масонского журнала «Покоящийся трудолюбец». Тут же появилось и упоминание о символической картине, изображающей бренность человеческой жизни, – картине, которую хранил Харлов (в библиотеке Спасского была книга Н. М. Амбодика «Емблемы и символы», очевидно, подавшая писателю идею этой картины, – см. с. 492). На вставном листе Тургенев дополнил характеристику Харлова строками об его отношении к религии: «К помощи религии, к молитве он – прибегал редко; он и тут больше надеялся на свой собственный ум» и т. д. (с. 165). На этом этапе работы над повестью появились столь характерные для героя черты, как гордость своим умом, безразличие к официальной религии, антипатия к духовенству и склонность к мистицизму масонского типа. Соответственно здесь в текст повести был внесен и эпизод, рисующий попытку Харлова посоветоваться с Натальей Николаевной относительно поразивших его в статье журнала «Покоящийся трудолюбец» рассуждений (с. 190) и его слова о том, что он «сновидец» (с. 174).
В беловой автограф вносится вместе с тем ряд выражений, как бы отсылающих к «Королю Лиру» Шекспира. Тургенев вводит реплику Харлова: «Поцарствовал, будет с меня» (с. 181), добавляет слова: «…возьму, мол, перебью, перешвыряю всех, чтобы и на семена не осталось» (с. 207–208), – ср. в «Короле Лире» Шекспира: «И разбросай по ветру семена, родящие людей неблагодарных» (перевод А. В. Дружинина); вписывает издевательские обращения Сувенира к Харлову: «Ваше сиятельство, пожалуйте ручку!» (с. 210) и т. д.
Знаменитые слова Лира: «Нет в мире виноватых», которые Тургенев считал моментом наивысшего озарения личности героя Шекспира, нашли свое отражение в повести. Уже в пору создания черновой рукописи текста писатель тщательно разработал важный эпизод – беседу Натальи Николаевны с Харловым, во время которой она добивается ответа на вопрос, как произошло изгнание Харлова и кто повинен в его несчастье, а Харлов утверждает: «…больше всех виноват я сам», – и, отвергая мысль богатой соседки о том, что «вина» его состояла в неосмотрительной щедрости, поясняет: «…не тем я провинился, сударыня, а гордостью. Гордость погубила меня», – и тут же, на полях, Тургенев приписывает: «не хуже царя Навуходоносора» (с. 207). Этому сознанию героя соответствует мнение народа о трагической вине семьи Харловых. Народу писатель как бы передает свое излюбленное толкование афоризма Шекспира: «Нет виноватых», что другими словами значит: «нет и правых» (см. наст. изд., т. 7, с. 228; см. также письмо Тургенева к Ю. П. Вревской от 18 (30) января 1877 г.). «Казалось, все эти люди знали, что грех, в который впало харловское семейство, – тот великий грех поступил теперь в ведение единого праведного Судии и что, следовательно, им уже не для чего было беспокоиться и негодовать» (с. 223). Крестьянам придан здесь тот строй чувств, который Тургенев ощущал в трагедии Шекспира и который дал ему основание в юбилейной речи 1864 г. назвать великого английского драматурга «беспощаднейшим и, как старец Лир, всепрощающим сердцеведцем». Беспощадностью оценок и высокой терпимостью проникнуты и внесенные при переписке белового автографа эпизоды, которые содержат оценку крестьянами характера Харлова и его судьбы: «А ведь покойный сам вас притеснял? – спросил я одного мужика, в котором я признал харловского крестьянина. – Барин был, известно, – отвечал мужик, – а все-таки… обидели его!» (с. 223).
Как бы стремясь ответить на возможный вопрос читателей, отраженный в подлежащем изъятию эпилоге, где в его подобии «Короля Лира» Шекспира Корделия? – Тургенев усилил эпизоды, раскрывающие черты сходства Евлампии и Корделии (непокорность Евлампии, ее нежелание пресмыкаться перед отцом в момент раздела имущества, ее преданность отцу и желание, хотя и запоздалое, искупить свою вину и вину сестры перед отцом). Тургенев также вписал обещания Евлампии залечить раны отца, нежностью и уходом заставить его забыть его горести, прямо напоминающие эпизоды лечения Лира в стане Корделии. Эта обработка производилась постепенно, но неуклонно – в черновом и беловом автографах и наборной рукописи.
Вместе с тем, не стирая черт, общих для характеров всех членов харловского семейства, Тургенев, по мере обработки повести, всё более ощутимо противопоставляет Анну Евлампии. Евлампия, у которой «сердце, как уголь горячий» (с. 189 – слова, включенные в беловой автограф), чужда суровой и решительной Анне. В текст белового автографа внесено признание Евлампии о себе и сестре: «согрешили» (с. 218) – слово покаяния, перекликающееся с признанием Харлова и передающее чувство, далекое от страстей, которые владеют расчетливой, жестокой Анной, способной даже отравить мужа (см. с. 225 – разговор соседей об этом факте включен в текст в беловой автограф). Этот сюжетный ход опять вызывает в памяти драму Шекспира (попытку Гонерильи отравить мужа).
Усиление и конкретизация психологических характеристик героев повести – участников конфликта, приближение в ряде случаев к сюжетной схеме «Короля Лира» Шекспира не изменило одной общей особенности повести Тургенева. Она сохранила свою трагическую безысходность, осталась драмой без катарсиса, рассказанной в повествовательной форме. Наделив Евлампию некоторыми чертами Корделии, Тургенев не снял с нее, а даже усилил ее трагическую вину. Однако картина смерти Харлова, хотя она и лишена всякого светлого начала, в беловом автографе несколько изменилась. Вместо отзывающегося мрачной символикой образа: «Старик священник подобрал рясу и положил крест Харлову на кровавые губы», вычеркнутого в черновом автографе, появились детали, передающие некоторую торжественность его смерти: «Казачок Максимка приблизился, стал на одно колено и, далеко отставив другую ногу, как-то театрально поддерживал руку бывшего своего барина». И далее: «Максимка начал креститься».
С разработкой характеров членов харловского семейства и со стремлением писателя прояснить аналогию рассказанной им истории с трагедией Шекспира связано изъятие главы, рисующей бегство Евлампии из родного дома. Сходство эпизодов бегства Евлампии и Харлова, вряд ли преднамеренное, усиливало близость характеров и судеб Харлова и его дочери настолько, что самое столкновение между «степным королем Лиром» и его неблагодарными наследницами отчасти теряло свою остроту. Возможно, что из этого соображения, а также потому, что внесение сцены летнего свидания в лесу нарушило стройность сопоставления двух встреч с героиней (в беловом автографе этой сцены в лесу нет – есть только помета на полях: «Сцену приб<авить>»), Тургенев вычеркнул эпизод бегства Евлампии. В первом слое рукописи содержатся также отдельные фразы и выражения, сближающие характеры Анны и Харлова. Эти фразы подверглись впоследствии изменению. Так, например, здесь было замечание соседа по поместью об Анне Слёткиной: «Такой же кулак, как и покойный», затем вычеркнутое. Самый образ Харлова – «степного короля Лира» – подвергся значительной обработке. В описании внешности героя были черты, явно связанные с тем этапом работы над повестью, который отражен в формулярном списке действующих лиц. Вместо «росту исполинского!» (с. 159) было: «росту исполинского, тучности необъятной. Покойный Лаблаш перед ним показался бы стройным юношей» [201]201
Луиджи Лаблаш (1794–1858) – знаменитый итальянский оперный певец, бас, выступавший в 1852–1857 годах в Итальянской опере в Петербурге, был, очевидно, лично знаком Тургеневу.
[Закрыть]. Отбрасывая сравнение с Лаблашем, много говорившее ему самому, но понятное далеко не каждому читателю, Тургенев освобождал повествование от «опор», которые были необходимы ему при построении образа.
Характеристики многих второстепенных лиц повести были шире и разностороннее в первоначальном тексте повести. Такая детальность описаний персонажей, не участвующих в основной интриге, затемняла композиционную схему повести, путала аналогию Харлова с «Королем Лиром». Поэтому Тургенев в ряде случаев отказался от многих деталей, подчас весьма интересных. Так, первоначально гораздо более разносторонне характеризовался Житков, о жизненных планах которого говорилось подробное и личные качества которого (жестокость, привычка расправляться с солдатами и мужиками при помощи кулаков) более откровенно связывались с привычками, усвоенными им в годы службы. Текст содержит следующие, подвергшиеся затем исправлению или изъятию характеристики Житкова: после «словно росинками» (с. 173) – «Перед матушкой он просто уничтожался не столько из уважения, сколько от жадности к приобретению; он видел в ней < …> будущую помещицу, то есть, говоря без обиняков, дойную корову» [202]202
Подразумевается, что Житков видел в матери рассказчика владелицу имения, которым он будет управлять.
[Закрыть]вместо: «Матушка не обманывалась насчет его способностей» (с. 173) – «Матушка считала его распорядительным человеком, но сомневалась в его умственных способностях. Вообще он внушал ей чувство, похожее на гадливость»; после: «Евлампия себя в обиду не даст» (с. 173) – «Я был того же мнения, – но, признаюсь, не мог себе представить эту мощную красавицу женою подобного [балбеса] господина. Самому Житкову она очень нравилась; он даже как-то особенно хмыкал, когда упоминал о ней. Он был великий охотник до женских прелестей; но по тупоумию успевал мало, – хотя и собирался обзавестись гитарой и подучиться, так как он на этом инструменте играть не умел». Особенно яркая характеристика Житкова содержалась первоначально в развернутом окончании, своеобразном эпилоге повести. О Житкове здесь говорится: «Житков жив до сих пор и даже нисколько не изменился; то же волосатое, вечно потное лицо, тот же ищущий и тупой взгляд. Он почти ежегодно ездит в губернский город, добивается казенного места, получает это место, лишается его по крайней неспособности, снова ездит в город, получает место снова и т. д. Шутники у нас прозвали его барометром охранительной партии и по его возвышению и падению судят о том, как стоят ее акции. Он дожидается „настоящего“ губернатора; быть может, и дождется».
Из вариантов чернового и первого слоя белового автографов можно извлечь некоторые дополнительные данные о Слёткине и его отношениях с Евлампией, а также о реакции Анны на связь сестры с ее мужем. Тургенев смягчил эти эпизоды и фразы, опасаясь, по-видимому, обвинений в цинизме, которые возводились на него даже по поводу «Накануне» и «Первой любви».
Характеристика охотника Викулова в первоначальных рукописях заставляет вспомнить о близости творческой манеры Тургенева в повести «Степной король Лир» к стилю «Записок охотника». Вместо «некто Викулов, из мещан» (с. 225) в беловом автографе было: «некто Викулов, кронштадтский мещанин (почти все тогдашние вольноотпущенные приписывались к Кронштадту)». Уничтожая такие колоритные подробности, писатель стремился к возможно большему сокращению всех эпизодов, не имеющих отношения к центральному образу – Харлову – и к главной сюжетной коллизии.
Особенно много внимания уделил Тургенев разработке юридических и бытовых деталей, невозможность наблюдения и собирания которых он остро ощущал за границей во время работы над повестью. В текст повести были внесены новые подробности, касающиеся раздела имущества Харлова и разрушения им крыши флигеля. Посещавший писателя К. Н. Модзалевский вспоминал: «… Тургенев настойчиво спрашивал меня, как называются поперечные брусья на крыше, на которые кладут кровлю. Я отвечал ему – стропила» (см.: Т сб (Бродский),с. 50). «Стропила», как и многие другие слова, обозначающие части крыши, вошли в текст повести. Специфичность подобных названий была подчеркнута уже в первом эпизоде: Наталья Николаевна, узнав из рассказа Квицинского о разорении крыши дома Харловым, недоуменно повторяет: «Шалёвки… однотёс… выведены». Весь этот эпизод был вставлен в текст белового автографа. Впоследствии при переписывании здесь была сделана сноска, поясняющая специальные выражения. Уточнение деталей быта нашло выражение и во вставленном в эпизод разрушения дома обращении Харлова к Слёткину: «Али закон вспомнил: коли принявший дар учинит покушение на жизнь дателя – то датель властен всё назад потребовать! – Валяй!» (с. 218).
К числу существенных фактических уточнений, сделанных в беловом автографе, принадлежит и исправление первоначального варианта: «О федосеевцах-раскольниках» – на «О хлыстах-раскольниках». Очевидно, справившись о федосеевцах, Тургенев узнал, что хотя они и «беспоповцы», но «богородицы» у них не может быть, и заменил «федосеевцев» на «хлыстов», действительно обожествлявших своих «пророков» и «пророчиц». Возможно, что эта ошибка была писателю указана во время чтений повести в России.
Очень важным и характерным для творческой манеры писателя изменением было изъятие прежнего окончания повести. Уже повесть «Первая любовь» Тургенев в одной из редакций оканчивал беседой слушателей, обсуждающих ее содержание [203]203
См.: КийкоЕ. И. Окончание повести «Первая любовь». – Лит Насл,т. 73, кн. 1, с. 59–68.
[Закрыть]. «Степной король Лир» первоначально завершался аналогичным эпизодом. Вместо заключительной фразы: «Рассказчик умолк – а мы потолковали немного, да и разошлись восвояси» – в черновом и беловом автографах был своеобразный эпилог, составлявший вместе с введением рамку повествования [204]204
См. вариант к с. 265, строки 41–42 в Т, ПСС и П, Сочинения,т. 10, с. 404–405.
[Закрыть].
Этот текст был вычеркнут Тургеневым при окончательной доработке повести, вероятно, потому, что писатель не хотел давать непосредственно публицистического истолкования своего замысла, разъяснять его значение. В этом тексте был пояснен политический смысл образа Житкова. В то же время писатель комментировал здесь вопрос о соотношении своего произведения с его литературным прототипом. Он изобразил обмен мнениями, возникший, когда слушатели принялись обсуждать историю Харлова: «Кто-то заметил, что название „Лира“ вряд ли может идти к Харлову, и притом, – прибавил он, – если мы даже допустим, что Анна и Евлампия напоминают Генерилию и Регану – то что же Корделия? Где Глостер, где Кент, где шут, наконец? – Не Сувенир же в самом деле! < …> Хозяин возразил ему, что дело шло не о воспроизведении всех шекспировских образов». Таким образом, как бы предвидя возможные нападки критики, Тургенев возражал на них (обвинения, подобные мнению одного из гостей в вычеркнутом эпилоге повести, были затем предъявлены Тургеневу Н. Н. Страховым). Это публицистическое разъяснение было впоследствии заменено новыми уточнениями в тексте, которые прояснили характер героя и его отношения с дочерьми. Возможно, что решение изъять концовку было продиктовано Тургеневу и критикой друзей. 25 октября 1870 г. А. А. Фет писал И. П. Борисову: «Что касается до „Короля Лира“, то увы! всё тут хорошо и верно, только нет соку – поэзии нет. Это клен без кленовика. Точно философско-эстетическая критика на „Лира“ Шекспира – дескать, вот это что значит – вы поймите, дураки!» ( ГБЛ,ф. 315, карт. 2, ед. хр. 30. Сообщено Ю. Д. Левиным). Мнение Фета, усматривавшего в повести Тургенева избыток элементов эстетической критики, могло стать известно Тургеневу и повлиять на его работу над повестью. Фет был частым собеседником Тургенева, и им неоднократно случалось спорить о Шекспире. В письме от 3 (15) октября 1869 г. Тургенев писал Фету: «… мысленно рисую Вас то с ружьем в руке, то просто беседующего о том, что Шекспир был глупец – и что, говоря словами Л. Н. Толстого, только та деятельность приносит плоды, которая бессознательна». Упоминание имени Толстого в данной связи не случайно. Шекспир составлял постоянный предмет разговоров и споров Толстого и Тургенева, особенно в первый период их знакомства.
«Король Лир» во второй половине XIX века являлся, несомненно, одной из наиболее популярных в России трагедий Шекспира. Мысль об этом произведении неизменно всплывала в сознании русских литераторов, когда речь шла о дочерней неблагодарности или оскорблении достоинства гордого и властного человека. Так, внутреннее сопоставление героя с королем Лиром современники усматривали в комедии А. Н. Островского «Свои люди – сочтемся!» [205]205
См.: НекрасовН. Сочинения Островского. – Атеней, 1859, № 8, с. 472; ср.: ДобролюбовН. А. Темное царство. Сочинения А. Островского. Два тома. – Добролюбов,т. 5, с. 52–53.
[Закрыть].
Тургенев в юности с подлинника перевел «Короля Лира». Текст этого перевода был уничтожен (см. письмо к А. В. Никитенко от 26 марта (7 апреля) 1837 г.), но трагедия прочно вошла в сознание Тургенева. В статье о «Записках оружейного охотника» С. Т. Аксакова он цитирует отрывок из этого произведения, а в письме к П. Виардо от 18 (30) апреля 1848 г. сравнивает поэта Гервега с королем Лиром. В кругу литераторов Тургенев считался одним из лучших знатоков Шекспира. Ему А. В. Дружинин сообщал с восторгом, что Толстой уже «понимает Лира и пил за здоровье Шекспира» ( Т и круг Совр,с. 202). К Тургеневу же Дружинин обращался за оценкой своего перевода «Короля Лира» ( Совр, 1856, № 12). Тургенев одобрил перевод и особенно вступительную статью (в письме к А. В. Дружинину от 13 (25) января 1857 г.).
Шекспир, его герои и соотнесение их с современными типами были предметом постоянных бесед в литературных кружках 1840-1850-х годов. Однако не только от шекспировских образов, но и от других «мировых типов» отталкивался Тургенев при осмыслении человеческих характеров. Жалуясь, например, А. А. Фету в письме от 26 июля (7 августа) 1867 г. на злоупотребления управлявшего Спасским Н. Н. Тургенева, писатель замечал о нем: «…бьет на мое разорение. Правда – за всё сие – он дает мне понятие о новом интересном типе степного Тартюфа, „злополучного страдальца“ – грабителя…» В другом письме о Н. Н. Тургеневе и его жалобах сказано еще более определенно: «… они могут составить отличный материал для лица „степного Тартюфа“, который так или иначе – а уж угодит в одну из моих повестей» (письмо к И. П. Борисову от 12 (24) февраля 1868 г.). Таким образом, сопоставление современного лица с мировым типом представлялось писателю и прежде материалом, удобным для повести; а выражение «степной Тартюф» в применении к Н. Н. Тургеневу лишний раз говорит о том, что действие повести «Степной король Лир» развертывается в родных писателю местах. Отметим также, что тема «русского Тартюфа» была разработана Ф. М. Достоевским в повести «Село Степанчиково и его обитатели» (1859).
Обитатели Спасского, мать писателя и ее окружение (соседи, приживалы, дворовые, крепостные крестьяне) дали Тургеневу, несомненно, основную долю материала для произведения. В формулярном списке действующих лиц повести указаны некоторые прототипы героев. Каждый из этих прототипов представляет материал для характеристики отдельных черт персонажа. Об одном из таких прототипов Тургенев записывает: «Взять несколько черт из Л. И. Беккера, кэтика» (с. 409). Многие имена, упоминаемые в формулярном списке, не поддаются расшифровке (см.: Mazon,p. 117). Исследователь творчества Тургенева И. С. Розенкранц, пытавшийся определить прототипы героев повести «Степной король Лир», по сути дела немного добавил к данным, зафиксированным в формулярном списке и списке действующих лиц. То обстоятельство, что прототипом богатой помещицы Натальи Николаевны – матушки рассказчика – послужила Варвара Петровна Тургенева, мать писателя, видно из формулярного списка, где характеристика этой героини повести лаконична: «Н<аталь>я Н<иколаевн>а. Матушка» (писателю здесь нечего было уяснять и обдумывать – характер был ему хорошо известен). Сомнения не вызывает и прототип управляющего имением Натальи Николаевны Квицинского; это управляющий Спасского-Лутовинова Н. А. Кишинский. Сам Тургенев замечает в формулярном списке об этом персонаже: «вроде К<ишинско>го» (с. 411).
Розенкранц предлагает дешифровку сравнения в формулярном списке, относящегося к Слёткину: «Фигурой похож на Е. К., только красивее». Е. К., по мнению исследователя, литератор и корреспондент Тургенева Елисей Яковлевич Колбасин ( РозенкранцИ. С. Творческая история повести И. С. Тургенева «Степной король Лир». – Slavia, 1934, Ročnik XIII, Sešit 1, с. 48). Прототипом Житкова он считает – едва ли основательно – кулака-мельника Жикина, с которым Тургенев вел тяжбу (там же, с. 49). Неумелый, лишенный деловой хватки, но прочно усвоивший жандармско-армейские привычки николаевской военщины, Житков совершенно не напоминает всемогущего кулака – соседа Тургенева. Харлов в формулярном списке назван Николаем Сем<еновичем> Протасовым. М. А. Щепкин в своих воспоминаниях рассказывает об истории помещика Степана Ивановича Ярышева – хозяина сельца Меркулово (Протасово тож), жизнь которого чрезвычайно близка к истории «степного короля Лира» (см.: ИВ,1898, № 9, с. 920–921).
Представляется, однако, что прототипом Харлова послужил именно Протасов – «Мценский силач», сосед по имению Шеншиных – родственников Фета. А. А. Фет дал развернутую характеристику Протасова в своих мемуарах «Ранние годы жизни» (М., 1893, с. 61–62). Эта характеристика и сведения о Протасове в мемуарах Фета совпадают с очерком личности Харлова, данным в формулярном списке к повести «Степной король Лир», где он уподоблен Протасову. В мемуарах Фета, с одной стороны, и в «Степном короле Лире», с другой, отразились общие обоим писателям воспоминания об их земляке (см. статью: ЛотманЛ. М. Тургенев и Фет. – В сб.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 45–46).
Некоторые детали повести заимствованы из жизни друзей и собственного опыта писателя. Так, например, Е. П. Ковалевский верил в пророческое значение плохих снов. Н. А. Некрасов писал о нем Тургеневу 21 мая (2 июня) 1857 г.: «… он был очень весел в Париже, да увидал сон, предсказывающий ему смерть, – и на нем лица нет; пусть-де Тургенев приедет со мной проститься – умру скоро!» ( Некрасов,т. 10, с. 339–340). Болезненные ощущения, которые пережил Харлов после страшного сна и которые он счел за предвестия смерти, довелось пережить самому писателю. 24 мая (5 июня) 1869 г. Тургенев писал П. В. Анненкову: «… пять дней тому назад я, лежа в постели < …> почувствовал вдруг нечто вроде сильного сотрясения… и левая рука моя осталась недвижимой, как дерево. Я испугался, стал оттирать ее правою, и хотя минут через пять чувство в нее возвратилось и я ею действую теперь как следует, однако сердце у меня сильно заныло…» Не исключено, что «буйство» Харлова, готового оказать неповиновение властям в стремлении восстановить справедливость, вызывало у Тургенева ассоциации с пережитым им самим конфликтом – его попыткой силой воспротивиться крепостническому произволу, в результате чего против него было возбуждено судебное дело о «буйстве» (см.: ДунинА. «Дело о буйстве» И. С. Тургенева. – ИВ,1912, № 2, с. 629–630; ГастфрейндН. А. Геройство молодого Тургенева. – Литературные вечера, 1912, № 7, с. 514–517).
Сообщая Анненкову об основательной переделке повести «Степной король Лир», Тургенев 15 (27) июня 1870 г. писал: «… я столько переделал, что Вам, пожалуй, придется подвергнуться вторичной corvée <принудительной работе> чтения». Рукопись была переслана Анненкову, который «взялся продержать корректуру» (см. письмо Тургенева к М. М. Стасюлевичу от 2 или 3 (14 или 15) июля 1870 г.). Именно потому, что Анненков должен был осуществлять связь с редактором «Вестника Европы», Тургенев запрашивал его 3 (15) сентября 1870 г. о времени публикации повести. От Анненкова Тургенев ожидал и первых сведений об отношении читателей к его новой повести. Молчание его советчика и доверенного лица смущало писателя: «Ваше молчание уж точно может быть названо красноречивым, любезнейший Павел Васильевич; безо всякого с Вашей стороны извещения я понял, что мой старик последовал примеру своих старших братьев – „Бригадира“ и „Ергунова“, и получил полное фиаско у нашей публики», – писал он Анненкову 16 (28) октября 1870 г.
Неясные слухи о холодном приеме новой повести доходили до Тургенева сразу же после ее появления. 27 октября (8 ноября) 1870 г. он жаловался Я. П. Полонскому, что его «публика мало поощряет», и утверждал: «„Степной король Лир“ по всему, что я слышу, получил так называемый „succès d’estime“ <успех из уважения>, а это для стареющего литератора хуже фиаско…» Однако уже через несколько дней к писателю стали стекаться более благоприятные и вдумчивые отзывы. Прежде всего Анненков поспешил рассеять впечатление, создавшееся у автора, и сообщить ему факты, свидетельствующие об успехе его повести. «То, что вы мне пишете о „Короле Лире“, – отвечал ему Тургенев 11 (23) ноября 1870 г., – меня порадовало. Говоря без обиняков, я на эту вещь употребил все усилия мышц своих; и не совсем приятно было мне думать, что все эти усилия повели к тому, что у нас называется „пшиком“. Оказалось противное, и я радуюсь». От М. М. Стасюлевича, вместе с оттисками повести, Тургенев получил известие о положительном отзыве И. А. Гончарова (см. письмо Тургенева Стасюлевичу от 3 (15) ноября 1870 г.). Тургенев выразил М. М. Стасюлевичу свое удовлетворение тем, что Гончаров одобрил его произведение. Он знал, как резко критикует Гончаров многие его создания (см. письмо И. А. Гончарова И. С. Тургеневу от 28 марта ст. ст. 1859 г. – Гончаров, т. 8, с. 305–311 и ответ Тургенева от 7 (19) апреля 1859 г.). Развернуто свое мнение о «Степном короле Лире» Гончаров выразил в письме С. А. Толстой от 11 ноября ст. ст. 1870 г.: «Вы, конечно, читали „Степной король Лир“. Как живо рассказано – прелесть! Этот рассказ я отношу к „Запискам охотника“, в которых Тургенев – истинный художник, творец, потому что он знает эту жизнь, видел ее сам, жил ею – и пишет с натуры < …> Эти две головки, дочерей Лира, не правда ли живые, бежавшие из грёзовских рамок! И очерчены так легко, почти без красок, будто карандашом: между тем – они перед глазами. Да, Тургенев – трубадур (пожалуй, первый), странствующий с ружьем и лирой по селам, полям, поющий природу сельскую, любовь – в песнях, и отражающий видимую ему жизнь – в легендах, балладах, но не в эпосе» ( Гончаров,т. 8, с. 435). В этом, в целом положительном, отзыве звучит мысль, которую Гончаров и прежде высказывал, в частности в письме Тургеневу от 28 марта ст. ст. 1859 г., о том, что Тургенев – непревзойденный мастер изящных очерков, писанных с натуры, но решительно не способен создавать произведения крупной формы. В дальнейшем, вопреки своим первоначальным положительным отзывам о «Степном короле Лире», в «Необыкновенной истории» (1878), дав волю своему предубеждению против Тургенева, Гончаров в чрезвычайно враждебном тоне порицал попытку Тургенева своеобразно интерпретировать образы Шекспира в этой повести.
«Он <Тургенев> пробовал портить даже Шекспира: ну, там, конечно, испортить не мог. Вышли карикатуры, например, „Степной король Лир“. Зачем было трогать великие вещи, чтобы с них лепить из навоза уродливые, до гнусности, фигуры? Можно ли так издеваться над трагическою, колоссальною фигурою короля Лира и ставить это имя ярлыком над шутовскою фигурою грязного и глупого захолустника, замечательного только тем, что он „чревом сдвигает с места бильярд“, „съедает три горшка каши“ и „издает скверный запах“!! Можно ли дошутиться до того, чтобы перенести великий урок, данный человечеству в Лире, на эту кучу грязи!!
Но Шекспир остался невредим, как невредима осталась бы его бронзовая статуя, если бы мальчишка бросил в нее камешком. Его не обокрадешь» [206]206
Сборник Российской публичной библиотеки. Материалы и исследования. Пг., 1924, т. II, вып. 1, с. 37–38.
[Закрыть].
В то время как Гончарова отталкивала грубость повести Тургенева, преувеличенное внимание к быту, которое он в ней усматривал, А. А. Фет обвинял писателя в недостаточном знании русской жизни и в чисто литературном, книжном подходе к ее живым, бытовым проявлениям. Фет писал о Тургеневе: «… тут он просто рассказал – но не вышло, хотя и здесь он нарядился в ноги стропил, шалевку и конек крыши и заставил дьячка раздувать паникадило: простое кадило ему в Бадене показалось малым. И как ухитрился дьячок не задувать, а раздувать паникадило?» (письмо И. П. Борисову от 25 октября 1870 г. – ГБЛ,ф. 315, карт. 2, ед. хр. 30) [207]207
Здесь Тургенев действительно ошибся, назвав кадило (ручную курильницу) паникадилом (паникадило – висячий подсвечник для большого числа свечей).
[Закрыть].
Новые проблемы, поставленные в повести, и новые черты творческой манеры писателя были недостаточно оценены критикой. Рецензент «С.-Петербургских ведомостей», отмечая «необыкновенную законченность художественной отделки» повести, считал всё же, что она ничего нового не вносит в творчество писателя ( СПб Вед,1870, 17 (29) октября, № 286). Та же мысль сквозила и в отзыве рецензента «Нового времени» (1870, № 299, 31 октября), который утверждал, что повесть совершенна по форме, но писал вместе с тем, что художественные достоинства нового произведения «обличают в беллетристических игрушках сильное и даровитое перо автора „Записок охотника“».
Н. Н. Страхов, соглашаясь с Ф. М. Достоевским [208]208
См. письмо Ф. М. Достоевского Н. Н. Страхову от 2 (14) декабря 1870 г. – Достоевский, Письма,т. II, с. 300.
[Закрыть], считал, что тон повести низок, что в грубости изображаемого быта, несмотря на безукоризненную правдивость картины, выразилось презрение Тургенева к родине. Вместе с тем он почувствовал, что Тургенев в этой повести затрагивает и по-своему решает на материале провинциальной жизни недалекого прошлого актуальные и острые современные вопросы: «Как боязлив, – заявлял он, – стал Тургенев! У него очевидно бродят разные мысли насчет русской жизни, но он не решается их прямо и ясно высказывать, и всё рассказывает странные истории и курьезные случаи, будто бы не имеющие дальнейшегозначения» [209]209
Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению. М.; Л.: АН СССР, 1940, с. 269.
[Закрыть].
Холодное отношение критики и некоторых писателей к повести Тургенева не выражало, однако, в полной мере реакции читателей. Косвенным отражением читательского успеха была поспешность, с которой откликнулся издатель выходившей в Петербурге газеты «Nordische Presse» на появление «Степного короля Лира». 4 (16) октября 1870 г. Тургенев сообщал М. М. Стасюлевичу: «Кстати о „Лире“ – третьего дня, т. е. 2 / 14-го окт<ября>, я получил из Петербурга телеграмму от Беренса, редактора „Nordische Presse“, который просил моего разрешения поместить перевод моей повести в фельетоне его газеты. Я согласился (по существующим законам он и не нуждался в моем согласии), с тем чтобы он предварительно подверг перевод на рассмотрение Анненкову: все таки некоторая гарантия против перевирания! Я также сказал Беренсу, чтобы он с своей стороны известил Вас об этом». Перевод повести на немецком языке появился в «Nordische Presse», 1870, № 262, 263, 266, 269, 271, 276, 277, 280–282, с 9 (21) декабря 1870 г. до 31 декабря 1870 г. (12 января 1871 г.).
Французский перевод повести был напечатан в «Revue des Deux Mondes», 1872, t. 98, 15 mars, а затем в сборнике «Etranges Histoires», Paris, 1873.
Сообщая о предстоящем появлении перевода «Степного короля Лира» в «Revue des Deux Mondes», Тургенев писал П. В. Анненкову 2 (14) марта 1872 г.: «Завтра в „Revue des Deux Mondes» появляется перевод „Степного короля Лира“, значительно урезанный и укарнаушенный». Перевод этот был сделан Тургеневым совместно с Л. Виардо. Некоторые (главным образом бытовые) детали, очевидно, по просьбе редакции журнала в нем были упрощены или опущены.
В начале семидесятых годов «Степной король Лир» был напечатан дважды на польском языке – в Варшаве (1871) и Познани (1872), а также появился на чешском (Прага, 1873) и датском (Копенгаген, 1873) языках.