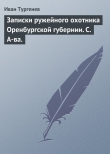Текст книги "Том 8. Повести и рассказы 1868-1872"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)
– Что, много вальдшнепов заполевали? – спросил он меня, приподняв шапку, ухмыляясь и проводя рукою по своим черным кудрям. – Вы в нашей роще охотитесь… Милости просим! Мы не препятствуем… Напротив!
– Сегодня я ничего не убил, – промолвил я, отвечая на первый его вопрос, – а из рощи вашей я сейчас выйду.
Слёткин торопливо надел шапку.
– Помилуйте, зачем же? Мы вас не гоним – и даже очень рады… Вот и Евлампия Мартыновна то же скажет. Евлампия Мартыновна, пожалуйте сюда! Куда вы забились?
Голова Евлампии показалась из-за кустов; но она не подошла к нам. Она еще похорошела за последнее время – и словно еще выросла и раздобрела.
– Мне, признаться сказать, – продолжал Слёткин, – даже очень приятно, что «встрелся» с вами. Вы хоть еще молоды, но разум уже имеете настоящий. Матушка ваша вчерась на меня прогневаться изволила – никаких от меня резонов принять не хотела, а я как перед богом, так и перед вами доложу: ни в чем я не повинен. С Мартыном Петровичем иначе поступать невозможно: совсем он в младенчество впал. Нельзя же нам исполнять все его капризы, помилуйте. А уважение мы ему оказываем как следует! Спросите хоть Евлампию Мартыновну.
Евлампия не шевелилась; обычная презрительная улыбка бродила по ее губам – и неласково глядели красивые глаза.
– Но зачем же вы, Владимир Васильевич, Мартын Петровичеву лошадь-то продали? (Меня особенно смущала эта лошадь, находящаяся во владении мужика.)
– Лошадь-то ихнюю зачем продали-с? Да помилосердуйте – куда же она годилась? Только сено даром ела. А у мужика она все-таки пахать может. А Мартыну Петровичу – коли вздумается куда выехать – сто́ит только у нас попросить. Мы в экипаже ему не отказываем. В нерабочие дни с нашим удовольствием!
– Владимир Васильевич! – глухо проговорила Евлампия, как бы отзывая его и всё не сходя с своего места. Она вертела около пальцев несколько стеблей подорожника и отсекала им головки, ударяя их друг о дружку.
– Вот еще насчет казачка Максимки, – продолжал Слёткин, – Мартын Петрович жалуется, зачем, мол, мы его у него отняли да в ученье отдали. Но извольте сами рассудить: ну, что бы он стал у Мартына Петровича делать? Баклуши бить; больше ничего. И служить-то как следует он не может – по причине своей глупости и младых лет. А теперь мы его к шорнику в учение отдали. Выйдет из него мастер хороший – и себе пользу принесет, и нам будет оброк платить. А в нашем маленьком хозяйстве это вещь важная-с! В нашем маленьком хозяйстве ничего спускать не следует!
«И этого-то человека Мартын Петрович называл тряпкой!» – подумал я. – Но кто же теперь Мартыну Петровичу читает? – спросил я.
– Да что читать-то? Была одна книга – да, благо, запропастилась куда-то… И что за чтение в его лета!
– А бреет его кто? – опять спросил я.
Слёткин засмеялся одобрительно, как бы в ответ на забавную шутку.
– Да никто. Сперва он себе бороду свечой подпаливал, – а теперь и вовсе запустил ее. И чудесно!
– Владимир Васильевич! – с настойчивостью повторила Евлампия, – а Владимир Васильевич!
Слёткин сделал ей знак рукою.
– Обут, одет Мартын Петрович, кушает то же, что и мы; чего ж ему еще? Сам же он уверял, что больше ничего в сем мире не желает, как только о душе своей заботиться. Хоть бы он то сообразил, что теперь всё как-никак – а наше. Говорит тоже, что жалованье мы ему не выдаем; да у нас самих деньги не всегда бывают; и на что они ему, когда на всем готовом живет? А мы с ним по-родственному обращаемся; истинно вам говорю. Комнаты, например, в которых он жительство имеет, уж как нам нужны! без них просто повернуться негде; а мы – ничего! – терпим. Даже о том помышляем, как бы ему развлечение доставить. Вот я к Петрову дню а-атличные крючки в городе ему купил – настоящие английские: дорогие крючки! Чтобы рыбу удить. У нас в пруду караси водятся. Сидел бы да удил! Часик, другой посидел – ан ушица и готова. Самое для старичков степенное занятие!
– Владимир Васильевич! – в третий раз решительным тоном проговорила Евлампия и отбросила далеко от себя прочь травяные стебли, которые вертела в пальцах. – Я уйду! – Ее глаза встретились с моими. – Я уйду, Владимир Васильевич! – повторила она и скрылась за куст.
– Я сейчас, Евлампия Мартыновна, сейчас! – крикнул Слёткин. – Сам Мартын Петрович теперь нас одобряет, – продолжал он, снова обращаясь ко мне. – Сперва он обижался, точно, и даже роптал, пока, знаете, не вник: человек он был, вы изволите помнить, горячий, крутой – беда! Ну, а ныне совсем тих стал. Потому – пользу свою увидел. Маменька ваша – и боже ты мой! – как опрокинулась на меня… Известно: барыня властью своею дорожит тоже, не хуже, как, бывало. Мартын Петрович; ну, а вы зайдите сами, посмотрите – да при случае и замолвите словечко. Я Натальи Николаевны благодеянья очень чувствую; однако надо же жить и нам.
– А Житкову как же отказано было? – спросил я.
– Федулычу-то? Талагаю-то этому? * – Слёткин плечами пожал. – Да помилуйте, на что же он мог быть нужен? Век свой в солдатах числился – а тут хозяйством заняться вздумал. Я, говорит, могу с крестьянином расправу чинить. Потому – я привык по роже бить. Ничего-с он не может. И по роже бить нужно умеючи. А Евлампия Мартыновна сама ему отказала. Совсем неподходящий человек. Всё наше хозяйство с ним бы пропало!
– Ау! – раздался звучный голос Евлампии.
– Сейчас! сейчас! – отозвался Слёткин. Он протянул мне руку; я хоть и неохотно, а пожал ее.
– Прощения просим, Дмитрий Семенович, – проговорил Слёткин, выказывая все свои белые зубы. – Стреляйте себе вальдшнепов на здоровье; птица прилетная, никому не принадлежащая; ну, а коли зайчик вам попадется – вы уж его пощадите: это добыча – наша. Да вот еще! Не будет ли у вас щеночка от вашей сучки? Очень бы одолжили!
– Ау! – раздался снова голос Евлампии.
– Ау! ау! – отозвался Слёткин и бросился в кусты.
XIX
Помнится, когда я остался один, меня занимала мысль: как это Харлов не прихлопнул Слёткина так, «чтобы только мокро было на том месте, где он находился», и как это Слёткин не страшился подобной участи? Видно, Мартын Петрович точно «тих» стал, подумалось мне – и еще сильнее захотелось пробраться в Еськово и хоть одним глазком посмотреть на того колосса, которого я никак не мог вообразить себе загнанным и смирным. Я достигнул уже опушки, как вдруг из-под самых ног моих, с сильным треском крыл, выскочил крупный вальдшнеп и помчался в глубь рощи. Я прицелился; ружье мое осеклось. Очень мне стало досадно: птица уж, больно была хороша, и я решился попытаться, не подниму ли я ее снова? Я пошел в направлении ее полета и, отойдя шагов двести, увидел на небольшой лужайке, под развесистой березой, не вальдшнепа – а того же господина Слёткина. Он лежал на спине, заложив обе руки под голову, и с довольной улыбкой поглядывал вверх, на небо, слегка покачивая левой ногой, закинутой на правое колено. Он не заметил моего приближения. По лужайке, в нескольких шагах от него, медленно, с опущенными глазами, похаживала Евлампия; казалось, она искала чего-то в траве – грибов, что ли, изредка наклонялась, протягивала руку и напевала вполголоса. Я остановился тотчас и стал прислушиваться. Сперва я не мог понять, что это она такое поет, но потом я хорошо признал следующие известные стихи старинной песни:
Ты найди-ка, ты найди, туча грозная,
Ты убей-ка, ты убей тестя-батюшку.
Ты громи-ка, громи ты тещу-матушку,
А молодую-то жену я и сам убью!
Евлампия пела всё громче и громче; особенно сильно протянула она последние слова. Слёткин всё лежал на спине да посмеивался, а она всё как будто кружила около него.
– Вишь ты! – промолвил он наконец. – И чего им только в голову не взбредет!
– А что? – спросила Евлампия. Слёткин слегка приподнял голову.
– Что? Какие ты это речи произносишь?
– Из песни, Володя, ты сам знаешь, слова не выкинешь, – отвечала Евлампия, обернулась и увидела меня. Мы оба разом вскрикнули, и оба бросились в разные стороны.
Я поспешно выбрался из рощи – и, перейдя узенькую полянку, очутился перед харловским садом.
XX
Мне некогда да и не к чему было размышлять о том, что я увидел. Только вспомнилось мне слово «присуха», которое я недавно пред тем узнал и значению которого я много дивился. Я пошел вдоль садового плетня и чрез несколько мгновений из-за серебристых тополей (они еще не потеряли ни одного листа и пышно ширились и блестели) увидал двор и флигели Мартына Петровича. Вся усадьба показалась мне подчищенной и подтянутой; всюду замечались следы постоянного и строгого надзора. Анна Мартыновна появилась на крыльце и, прищурив свои бледно-голубые глаза, долго глядела в направлении рощи.
– Барина видел? – спросила она проходившего по двору мужика.
– Владимир Васильича? – отвечал тот, схватив с головы шапку. – Он никак в рощу пошел.
– Знаю, что в рощу. Не вернулся он? Не видал его?
– Не видал… нетути.
Мужик продолжал стоять без шапки перед Анной Мартыновной.
– Ну, ступай, – проговорила она. – Или нет… постой… Мартын Петрович где? Знаешь?
– А Мартын эвто Петрович, – отвечал мужик певучим голосом, попеременно приподнимая то правую, то левую руку, словно показывая куда-то, – сидит тамотка у пруда, с удою. В камыше сидит и с удою. Рыбу, что ль, ловит, бог его знает.
– Хорошо… Ступай, – повторила Анна Мартыновна, – да подбери колесо, вишь, валяется.
Мужик побежал исполнять ее приказание, а она постояла еще несколько минут на крыльце и всё смотрела в направлении рощи. Потом она тихонько погрозилась одной рукой и медленно вернулась в дом.
– Аксютка! – раздался ее повелительный голос за дверью.
Анна Мартыновна имела вид раздраженный и как-то особенно крепко сжимала свои и без того тонкие губы. Одета она была небрежно, и прядь развитой косы падала ей на плечо. Но, несмотря ни на небрежность ее одежды, ни на ее раздражение, она по-прежнему казалась мне привлекательной, и я с великой охотой поцеловал бы ее узкую, тоже как будто злую руку, которою она раза два с досадой откинула ту развитую прядь.
XXI
«Неужели же Мартын Петрович и впрямь стал рыболовом?» – спрашивал я самого себя, направляясь к пруду, находившемуся по ту сторону сада. Я взошел на плотину, глянул туда, сюда… Нигде Мартына Петровича не было видно. Я отправился вдоль одного из берегов пруда – и, наконец, в самой почти его голове, у небольшого залива, посреди плоских и поломанных стеблей порыжелого камыша, увидел громадную, сероватую глыбу… Я присмотрелся: это был Харлов. Без шапки, взъерошенный, в прорванном по швам холстинном кафтане, поджав под себя ноги, он сидел неподвижно на голой земле; так неподвижно сидел он, что куличок-песочник при моем приближении сорвался с высохшей тины в двух шагах от него и полетел, дрыгая крылышками и посвистывая, над водной гладью. Стало быть, уже давно никто в его близости не шевелился и не пугал его. Вся фигура Харлова до того была необычайна, что собака моя, как только увидала его, круто уперлась, поджала хвост и зарычала. Он чуть-чуть повернул голову и уставил на меня и на мою собаку свои одичалые глаза. Много его меняла борода, хотя короткая, но густая, курчавая, в белых вихрах, наподобие смушек. В правой его руке лежал конец удилища, другой конец слабо колыхался на воде. Сердце у меня невольно иокнуло; однако я собрался с духом, подошел к нему и поздоровался с ним. Он медленно заморгал, словно спросонья.
– Что это вы, Мартын Петрович, – начал я, – рыбу здесь ловите?
– Да… рыбу, – отвечал он сиплым голосом и дернул кверху удилище, на конце которого болтался обрывок нитки в аршин и без крючка.
– У вас леса порвана, – заметил я и тут же увидал, что возле Мартына Петровича ни лейки не оказывалось, ни червей… И какая могла быть ловля в сентябре?!
– Порвана? – промолвил он и провел рукой по лицу. – Но это всё едино!
Он снова закинул свою удочку.
– Натальи Николаевны сынок? – спросил он меня спустя минуты две, в течение которых я не без тайного изумления его рассматривал. Он, хотя и похудел сильно, однако все-таки казался исполином; но в какое он был одет рубище и как опустился весь!
– Точно так, – отвечал я, – я сын Натальи Николаевны Б.
– Здравствует?
– Матушка моя здорова. Она очень огорчилась вашим отказом, – прибавил я, – она никак не ожидала, что вы не захотите к ней приехать.
Мартын Петрович понурился.
– А был ты… там? – спросил он, качнув в сторону головою.
– Где?
– Там… на усадьбе. Не был? Сходи. Что тебе здесь делать? Сходи. Разговаривать со мной нечего. Не люблю.
Он помолчал.
– Тебе бы всё с ружьем баловаться! В младых летах будучи, и я по этой дорожке бегал. Только отец у меня… а я его уважал; во как! не то, что нынешние. Отхлестал отец меня арапником – и шабаш! Полно баловаться! Потому я его уважал… У!.. Да…
Харлов опять помолчал.
– А ты здесь не оставайся, – начал он снова. – Ты на усадьбу сходи. Там теперь хозяйство идет на славу. Володька… – Тут он на миг запнулся. – Володька у меня на все руки. Молодец! Ну да и бестия же!
Я не знал, что сказать; Мартын Петрович говорил очень спокойно.
– И дочерей посмотри. Ты, чай, помнишь, у меня были дочери. Они тоже хозяйки… ловкие. А я стар становлюсь, брат; отстранился. На покой, знаешь…
«Хорош покой!» – подумал я, взглянув кругом. – Мартын Петрович! – промолвил я вслух. – Вам непременно надо к нам приехать.
Харлов глянул на меня.
– Ступай, брат, прочь; вот что.
– Не огорчайте маменьку, приезжайте.
– Ступай, брат, ступай, – твердил Харлов. – Что тебе со мной разговаривать?
– Если у вас экипажа нет, маменька вам свой пришлет.
– Ступай!
– Да, право же, Мартын Петрович!
Харлов опять понурился – и мне показалось, что его потемневшие, как бы землей перекрытые щеки слегка покраснели.
– Право, приезжайте, – продолжал я. – Что вам тут сидеть-то? Себя мучить?
– Как так мучить, – промолвил он с расстановкой.
– Да так же – мучить? – повторил я.
Харлов замолчал и словно в думу погрузился.
Ободренный этим молчаньем, я решился быть откровенным, действовать прямо, начистоту. (Не забудьте – мне было всего пятнадцать лет.)
– Мартын Петрович! – начал я, усаживаясь возле него. – Я ведь всё знаю, решительно всё! Я знаю, как ваш зять с вами поступает – конечно, с согласия ваших дочерей. И теперь вы в таком положении… Но зачем же унывать?
Харлов всё молчал и только удочку уронил, а я-то – каким умницей, каким философом я себя чувствовал!
– Конечно, – заговорил я снова, – вы поступили неосторожно, что всё отдали вашим дочерям. Это было очень великодушно с вашей стороны – и я вас упрекать не стану. В наше время это слишком редкая черта! Но если ваши дочери так неблагодарны, то вам следует оказать презрение… именно презрение… и не тосковать…
– Оставь! – прошептал вдруг Харлов со скрежетом зубов, и глаза его, уставленные на пруд, засверкали злобно… – Уйди!
– Но, Мартын Петрович…
– Уйди, говорят… а то убью!
Я было совсем пододвинулся к нему; но при этом последнем слове невольно вскочил на ноги.
– Что вы такое сказали, Мартын Петрович?
– Убью, говорят тебе; уйди! – Диким стоном, ревом вырвался голос из груди Харлова, но он не оборачивал головы и продолжал с яростью смотреть прямо перед собой. – Возьму да брошу тебя со всеми твоими дурацкими советами в воду, – вот ты будешь знать, как старых людей беспокоить, молокосос! – «Он с ума сошел!» – мелькнуло у меня в голове.
Я взглянул на него попристальнее и остолбенел окончательно: Мартын Петрович плакал!! Слезинка за слезинкой катилась с его ресниц по щекам… а лицо приняло выражение совсем свирепое…
– Уйди! – закричал он еще раз, – а то убью тебя, ей-богу, чтобы другим повадно не было!
Он дрыгнул всем телом как-то вбок и оскалился, точно кабан; я схватил ружье и бросился бежать. Собака с лаем пустилась вслед за мною! И она тоже испугалась.
Вернувшись домой, я, разумеется, матушке ни единым словом не намекнул на то, что видел, но, встретившись с Сувениром, я – чёрт знает почему – рассказал ему всё. Этот противный человек до того обрадовался моему рассказу, так визгливо хохотал и даже прыгал, что я чуть не побил его.
– Эх! посмотрел бы я, – твердил он, задыхаясь от смеха, – как этот идол, «вшед» Харлус, залез в тину да и сидит в ней…
– Сходите к нему на пруд, коли вам так любопытно.
– Да; а как убьет?
Очень мне надоел Сувенир, и раскаивался я в своей неуместной болтливости… Житков, которому он передал мой рассказ, взглянул на дело несколько иначе.
– Придется к полиции обратиться, – решил он, – а пожалуй, и за воинской командой нужно будет послать.
Предчувствие его насчет воинской команды не сбылось, – но произошло действительно нечто необыкновенное.
XXII
В половине октября, недели три спустя после моего свидания с Мартыном Петровичем, я стоял у окна моей комнаты, во втором этаже нашего дома – и, ни о чем не помышляя, уныло посматривал на двор и на пролегавшую за ним дорогу. Погода уже пятый день стояла отвратительная; об охоте невозможно было и помышлять. Всё живое поспряталось; даже воробьи притихли, а грачи давно пропали. Ветер то глухо завывал, то свистал порывисто; низкое, без всякого просвету небо из неприятно белого цвета переходило в свинцовый, еще более зловещий цвет – и дождь, который лил, лил неумолчно и беспрестанно, внезапно становился еще крупнее, еще косее и с визгом расплывался по стеклам. Деревья совсем истрепались и какие-то серые стали: уж, кажется, что было с них взять, а ветер нет-нет – да опять примется тормошить их. Везде стояли засоренные мертвыми листьями лужи; крупные волдыри, то и дело лопаясь и возрождаясь, вскакивали и скользили по ним. Грязь по дорогам стояла невылазная; холод проникал в комнаты, под платье, в самые кости; невольная дрожь пробегала по телу – и уж как становилось дурно на душе! Именно дурно – не грустно. Казалось, уже никогда не будет на свете ни солнца, ни блеска, ни красок, а вечно будет стоять эта слякоть и слизь, и серая мокрота, и сырость кислая – и ветер будет вечно пищать и ныть! Вот стоял я так-то в раздумье у окна – и помню я: темнота набежала внезапная, синяя темнота, хотя часы показывали всего двенадцать. Вдруг мне почудилось, что через наш двор – от ворот к крыльцу промчался медведь! Правда, не на четвереньках, а такой, каким его рисуют, когда он поднимается на задние лапы. Я глазам не верил. Если и не медведя я увидал, то во всяком случае что-то громадное, черное, шершавое… Не успел я еще сообразить, что б это могло быть, как вдруг раздался внизу неистовый стук. Казалось, что-то совсем неожиданное, что-то страшное ввалилось в наш дом. Поднялась суета, беготня…
Я проворно спустился с лестницы, вскочил в столовую…
В дверях гостиной, лицом ко мне, стояла как вкопанная моя матушка; за ней виднелось несколько испуганных женских лиц; дворецкий, два лакея, казачок с раскрытыми от изумления ртами – тискались у двери в переднюю; а посреди столовой, покрытое грязью, растрепанное, растерзанное, мокрое – мокрое до того, что пар поднимался кругом и вода струйками бежала по полу, – стояло на коленях, грузно колыхаясь и как бы замирая, то самое чудовище, которое в моих глазах промчалось через двор! И кто же был это чудовище? Харлов! Я зашел сбоку и увидал – не лицо его, а голову, которую он обхватил ладонями по слепленным грязью волосам. Он дышал тяжело, судорожно; что-то даже клокотало в его груди – и на всей этой забрызганной темной массе только и можно было различить явственно, что крошечные, дико блуждавшие белки глаз. Он был ужасен! Вспомнился мне сановник, которого он некогда оборвал за сравнение с мастодонтом. Действительно: такой вид должно было иметь допотопное животное, только что спасшееся от другого, сильнейшего зверя, напавшего на него среди вековечного ила первобытных болот.
– Мартын Петрович! – воскликнула наконец матушка и руками всплеснула. – Ты ли это? Господи, боже милостивый!
– Я… я… – послышался прерывистый голос, как бы с усилием и болью выпирая каждый звук, – ох! Я!
– Но что это с тобою, господи?!
– Наталья Николав…на… я к вам… прямо из дому бе…жал пешком…
– По этакой грязи! Да ты на человека не похож. Встань, сядь по крайней мере… А вы, – обратилась она к горничным, – поскорей сбегайте за полотенцами. Да нет ли какого сухого платья? – спросила она дворецкого.
Дворецкий показал руками, что где же, мол, на такой рост?..
– А впрочем, одеяло можно принести, – доложил он, – не то попона есть новая.
– Да встань же, встань, Мартын Петрович, сядь, – повторяла матушка.
– Выгнали меня, сударыня, – простонал вдруг Харлов, – и голову назад закинул и руки протянул вперед. – Выгнали, Наталья Николаевна! Родные дочери из моего же родного пепелища…
Матушка ахнула.
– Что ты говоришь! Выгнали! Экой грех! экой грех! (Она перекрестилась.) Только встань ты, Мартын Петрович, сделай милость!
Две горничные вошли с полотенцами и остановились перед Харловым. Видно было, что они и придумать не могли, как им приступиться к этакой уйме грязи.
– Выгнали, сударыня, выгнали, – твердил между тем Харлов. – Дворецкий вернулся с большим шерстяным одеялом и тоже остановился в недоумении. Головка Сувенира высунулась из-за двери и исчезла.
– Мартын Петрович, встань! Сядь! и расскажи мне всё по порядку, – решительным тоном скомандовала матушка.
Харлов приподнялся… Дворецкий хотел было ему помочь, но только руку замарал и, встряхивая пальцами, отступил к двери. Переваливаясь и шатаясь, Харлов добрался до стула и сел. Горничные опять приблизились к нему с полотенцами, но он отстранил их движением руки и от одеяла отказался. Впрочем, матушка сама не стала настаивать: обсушить Харлова, очевидно, не было возможности; только следы его на полу наскоро подтерли.
XXIII
– Как же это тебя выгнали? – спросила матушка Харлова, как только он немного «отдышался».
– Сударыня! Наталья Николаевна! – начал он напряженным голосом – и опять поразила меня беспокойная беготня его белков, – буду правду говорить: больше всех виноват я сам.
– То-то вот; не хотел ты меня тогда послушаться, – промолвила матушка, опускаясь на кресло и слегка помахивая перед носом надушенным платком: очень уже разило от Харлова… в лесном болоте не так сильно пахнет.
– Ох, не тем я провинился, сударыня, а гордостью. Гордость погубила меня, не хуже царя Навуходоносора. Думал я: не обидел меня господь бог умом-разумом; коли я что решил – стало, так и следует… А тут страх смерти подошел… Вовсе я сбился! Покажу, мол, я напоследках силу да власть свою! Награжу – а они должны по гроб чувствовать… (Харлов вдруг весь всколыхался…) Как пса паршивого выгнали из дому вон! Вот их какова благодарность!
– Но каким же образом, – опять начала было матушка…
– Казачка Максимку от меня взяли, – перебил ее Харлов (глаза его продолжали бегать, обе руки он держал у подбородка – пальцы в пальцы), – экипаж отняли, месячину урезали, жалованья выговоренного не платили – кругом, как есть, окорнали – я всё молчал, всё терпел! И терпел я по причине… ох! опять-таки гордости моей. Чтобы не говорили враги мои лютые: вот, мол, старый дурак, теперь кается; да и вы, сударыня, помните, меня предостерегали: локтя, мол, своего не укусишь! Вот я и терпел… Только сегодня прихожу я к себе в комнату, а уж она занята – и постельку мою в чулан выкинули! Можешь-де и там спать; тебя и так за милость терпят; нам-де твоя комната нужна для хозяйства. И это мне говорит – кто же? Володька Слёткин, смерд, паскуд…
Голос Харлова оборвался.
– Но дочери-то твои? Они-то что же? – спросила матушка.
– А я всё терпел, – продолжал Харлов свое повествование, – горько, горько мне было во́ как и стыдно… Не глядел бы на свет божий! Оттого я и к вам, матушка, поехать не захотел – от этого от самого от стыда, от страму! Ведь я, матушка моя, всё перепробовал: и лаской, и угрозой, и усовещивал-то их, и что уж! кланялся… вот так-то (Харлов показал, как он кланялся). И всё понапрасну! И всё-то я терпел! Сначалу-то, на первых-то порах, не такие у меня мысли были: возьму, мол, перебью, перешвыряю всех, чтобы и на семена не осталось… Будут знать! Ну, а потом – покорился! Крест, думаю, мне послан; к смерти, значит, приготовиться надо. И вдруг сегодня, как пса! И кто же? Володька! А что вы о дочерях спрашивать изволили, то разве в них есть какая своя воля? Володькины холопки! Да!
Матушка удивилась.
– Про Анну я еще это понять могу; она – жена… Но с какой стати вторая-то твоя…
– Евлампия-то? Хуже Анны! Вся, как есть, совсем в Володькины руки отдалась. По той причине она и вашему солдату-то отказала. По его, по Володькину, приказу. Анне – видимое дело – следовало бы обидеться, да она и терпеть сестры не может, а покоряется! Околдовал, проклятый! Да ей же, Анне, вишь, думать приятно, что вот, мол, ты, Евлампия, какая всегда была гордая, а теперь вон что из тебя стало!.. О… ох, ох! Боже мой, боже!
Матушка с беспокойством посмотрела на меня. Я отошел немножко в сторону, из предосторожности, как бы меня не выслали…
– Очень сожалею, Мартын Петрович, – начала она, – что мой бывший воспитанник причинил тебе столько горя и таким нехорошим человеком оказался; но ведь и я в нем ошиблась… Кто мог это ожидать от него!
– Сударыня, – простонал Харлов и ударил себя в грудь. – Не могу я снести неблагодарность моих дочерей! Не могу, сударыня! Ведь я им всё, всё отдал! И к тому же совесть меня замучила. Много… ох! много передумал я, у пруда сидючи да рыбу удучи! «Хоть бы ты пользу кому в жизни сделал! – размышлял я так-то, – бедных награждал, крестьян на волю отпустил, что ли, за то, что век их заедал! Ведь ты перед богом за них ответчик! Вот когда тебе отливаются их слезки!» И какая теперь их судьба: была яма глубока и при мне – что греха таить, а теперь и дна не видать! Эти все грехи я на душу взял, совестью для детей пожертвовал, а мне за это шиш! Из дому меня пинком, как пса!
– Полно об этом думать, Мартын Петрович, – заметила матушка.
– И как он мне сказал, ваш-то Володька, – с новой силой подхватил Харлов, – как сказал он мне, что мне в моей горенке больше не жить, а я в самой той горенке каждое бревнышко собственными руками клал – как сказал он мне это – и бог знает, что со мной приключилось! В головушке помутилось, по сердцу как ножом… Ну, либо его зарезать, либо из дому вон!.. Вот я и побежал к вам, благодетельница моя, Наталья Николаевна… И куды ж мне было голову приклонить? А тут дождь, слякоть… Я, может, раз двадцать упал! И теперь… в этаком безобразии…
Харлов окинул себя взглядом и завозился на стуле, словно встать собирался.
– Полно тебе, полно, Мартын Петрович, – поспешно проговорила матушка, – какая в том беда? Что ты пол-то замарал? Эка важность! А я вот какое хочу тебе предложение сделать. Слушай! Отведут тебя теперь в особую комнату, постель дадут чистую – ты разденься, умойся, да приляг и усни…
– Матушка, Наталья Николаевна! Не уснуть мне! – уныло промолвил Харлов. – В мозгах-то словно молотами стучат! Ведь меня, как тварь непотребную…
– Ляг, усни, – настойчиво повторила матушка. – А потом мы тебя чаем напоим – ну, и потолкуем с тобою. Не унывай, приятель старинный! Если тебя из твоегодома выгнали, в моемдоме ты всегда найдешь себе приют… Я ведь не забыла, что ты мне жизнь спас.
– Благодетельница! – простонал Харлов и закрыл лицо руками. – Спасите выменя теперь!
Это воззвание тронуло мою матушку почти до слез.
– Охотно готова тебе помочь, Мартын Петрович, всем, чем тольку могу; но ты должен обещать мне, что будешь вперед меня слушаться и всякие недобрые мысли прочь от себя отгонишь…
Харлов принял руки от лица.
– Коли нужно, – промолвил он, – я ведь и простить могу!
Матушка одобрительно кивнула головой.
– Очень мне приятно видеть тебя в таком истинно христианском расположении духа, Мартын Петрович; но речь об этом впереди. Пока приведи ты себя в порядок – а главное, усни. Отведи ты Мартына Петровича в зеленый кабинет покойного барина, – обратилась матушка к дворецкому, – и что он только потребует, чтобы сию минуту было! Платье его прикажи высушить и вычистить, а белье, какое понадобится, спроси у кастелянши – слышишь?
– Слушаю, – отвечал дворецкий.
– А как он проснется, мерку с него прикажи снять портному; да бороду надо будет сбрить. Не сейчас, а после.
– Слушаю, – повторил дворецкий. – Мартын Петрович, пожалуйте. – Харлов поднялся, посмотрел на матушку, хотел было подойти к ней, но остановился, отвесил поясной поклон, перекрестился трижды на образ и пошел за дворецким. Вслед за ним и я выскользнул из комнаты.
XXIV
Дворецкий привел Харлова в зеленый кабинет и тотчас побежал за кастеляншей, так как белья на постели не оказалось. Сувенир, встретивший нас в передней и вместе с нами вскочивший в кабинет, немедленно принялся, с кривляньем и хохотом, вертеться около Харлова, который, слегка расставив руки и ноги, в раздумье остановился посреди комнаты. Вода всё еще продолжала течь с него.
– Вшед! Вшед Харлус! – пищал Сувенир, перегнувшись надвое и держа себя за бока. – Великий основатель знаменитого рода Харловых, воззри на своего потомка! Каков он есть? Можешь его признать? Ха-ха-ха! Ваше сиятельство, пожалуйте ручку! Отчего это на вас черные перчатки?
Я хотел было удержать, пристыдить Сувенира… но не тут-то было!
– Приживальщиком меня величал, дармоедом! «Нет, мол, у тебя своего крова!» А теперь небось таким же приживальщиком стал, как и аз грешный! Что Мартын Харлов, что Сувенир проходимец – теперь всё едино! Подачками тоже кормиться будет! Возьмут корку хлеба завалящую, что собака нюхала, да прочь пошла… На, мол, кушай! Ха-ха-ха!
Харлов всё стоял неподвижно, уткнув голову, расставив ноги и руки.
– Мартын Харлов, столбовой дворянин! – продолжал пищать Сувенир. – Важность-то какую на себя напустил, фу ты, ну ты! Не подходи, мол, зашибу! А как именье свое от большого ума стал отдавать да делить – куды раскудахтался! «Благодарность! – кричит, – благодарность!» А меня-то за что обидел? Не наградил? Я, быть может, лучше бы восчувствовал! И значит, правду я говорил, что посадят его голой спиной…
– Сувенир! – закричал я; но Сувенир не унимался. Харлов всё не трогался; казалось, он только теперь начинал чувствовать, до какой степени всё на нем было мокро, и ждал, когда это с него всё снимут. Но дворецкий не возвращался.
– А еще воин! – начал опять Сувенир. – В двенадцатом году отечество спасал, храбрость свою показывал! То-то вот и есть: с мерзлых мародеров портки стащить – это наше дело; а как девка на нас ногой притопнет, у нас у самих душа в портки…
– Сувенир! – закричал я вторично.
Харлов искоса посмотрел на Сувенира; он до того мгновенья словно и присутствия его не замечал, и только возглас мой возбудил его внимание.
– Смотри, брат, – проворчал он глухо, – не допрыгайся до беды!