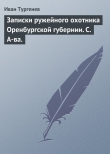Текст книги "Том 8. Повести и рассказы 1868-1872"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
– Можно умереть и не от кинжала, – заметил Санин.
– Всё это вздор! Вы суеверны? Я – нисколько. А чему быть, того не миновать. Monsieur Gaston жил у нас в доме, над моей головой. Бывало, я проснусь ночью и слышу его шаги – он очень поздно ложился – и сердце замирает от благоговения… или от другого чувства. Мой отец сам едва разумел грамоте, но воспитание нам дал хорошее. Знаете ли, что я по-латыни понимаю?
– Вы? по-латыни?
– Да – я. Меня monsieur Gaston выучил. Я с ним «Энеиду» прочла. Скучная вещь, но есть места хорошие. Помните, когда Дидона с Энеем в лесу… *
– Да, да, помню, – торопливо промолвил Санин. Сам он давным-давно всю свою латынь забыл и об «Энеиде» понятие имел слабое.
Марья Николаевна глянула на него, по своей привычке, несколько вбок и из-под низу.
– Вы не думайте, однако, что я очень учена. Ах, боже мой, нет – я не учена, и никаких талантов у меня нет. Писать едва умею… право; читать громко не могу; ни на фортепьяно, ни рисовать, ни шить – ничего! Вот я какая – вся тут!
Она расставила руки.
– Я вам всё это рассказываю, – продолжала она, – во-первых, для того, чтобы не слушать этих дураков (она указала на сцену, где в это мгновение вместо актера подвывала актриса, тоже выставив локти вперед), а во-вторых, для того, что я перед вами в долгу: вы вчера мне про себя рассказывали.
– Вам угодно было спросить меня, – заметил Санин.
Марья Николаевна внезапно повернулась к нему.
– А вам не угодно знать, что собственно я за женщина? Впрочем, я не удивляюсь, – прибавила она, снова прислонясь к подушкам дивана. – Человек собирается жениться, да еще по любви, да после дуэли… Где ему помышлять о чем-нибудь другом?
Марья Николаевна задумалась и начала кусать ручку веера своими крупными, но ровными и, как молоко, белыми зубами.
А Санину казалось, что ему в голову опять стал подниматься тот чад, от которого он не мог отделаться вот уже второй день.
Разговор между им и Марьей Николаевной происходил вполголоса, почти шёпотом – и это еще более его раздражало и волновало его…
Когда же это всё кончится?
Слабые люди никогда сами не кончают – всё ждут конца.
На сцене кто-то чихал; чиханье это было введено автором в свою пьесу, как «комический момент» или «элемент»; другого комического элемента в ней уже, конечно, не было; и зрители удовлетворялись этим моментом, смеялись.
Этот смех также раздражал Санина.
Были минуты, когда он решительно не знал: что он – злится или радуется, скучает или веселится? О, если б Джемма его видела!
– Право, это странно, – заговорила вдруг Марья Николаевна. – Человек объявляет вам, и таким спокойным голосом: «Я, мол, намерен жениться»; а никто вам не скажет спокойно: «Я намерен в воду броситься». И между тем – какая разница? Странно, право.
Досада взяла Санина.
– Разница большая, Марья Николаевна! Иному броситься в воду вовсе не страшно: он плавать умеет; а сверх того… что касается до странности браков… уж коли на то пошло…
Он вдруг умолк и прикусил язык.
Марья Николаевна ударила себя веером по ладони.
– Договаривайте, Дмитрий Павлович, договаривайте – я знаю, что вы хотели сказать. «Уж коли на то пошло, милостивая государыня, Марья Николаевна Полозова, – хотели вы сказать, – страннее вашегобрака ничего нельзя себе представить… ведь я вашего супруга знаю хорошо, с детства!» Вот что вы хотели сказать, вы, умеющий плавать!
– Позвольте, – начал было Санин…
– Разве это не правда? Разве не правда? – настойчиво произнесла Марья Николаевна. – Ну, посмотрите мне в лицо и скажите, что я неправду сказала!
Санин не знал, куда деть свои глаза.
– Ну, извольте: правда, коли вы уж этого непременно требуете, – проговорил он наконец.
Марья Николаевна покачала головою.
– Так… так. – Ну – и спрашивали вы себя, вы, умеющий плавать, какая может быть причина такого странного… поступка со стороны женщины, которая не бедна… и не глупа… и не дурна? Вас это не интересует, может быть; но всё равно. Я вам скажу причину не теперь, а вот как только кончится антракт. Я всё беспокоюсь, как бы кто-нибудь не зашел…
Не успела Марья Николаевна выговорить это последнее слово, как наружная дверь действительно растворилась наполовину – и в ложу всунулась голова красная, маслянисто-потная, еще молодая, но уже беззубая, с плоскими длинными волосами, отвислым носом, огромными ушами, как у летучей мыши, с золотыми очками на любопытных и тупых глазенках, и с pince-nez на очках. Голова осмотрелась, увидала Марью Николаевну, дрянно осклабилась, закивала… Жилистая шея вытянулась вслед за нею…
Марья Николаевна замахала на нее платком.
– Меня дома нет! Ich bin nicht zu Hause, Herr P…! Ich bin nicht zu Hause… Кшшш, кшшш!
Голова изумилась, принужденно засмеялась, проговорила, словно всхлипывая, в подражание Листу, у ног которого когда-то пресмыкалась: Sehr gut! sehr gut! [127]127
Очень хорошо! очень хорошо! (нем.)
[Закрыть]– и исчезла.
– Это что за субъект? – спросил Санин.
– Это? Критик висбаденский. «Литтерат» или лон-лакей [128]128
наемный лакей ( нем.: Lohn-Lakai).
[Закрыть], как угодно. Он нанят здешним откупщиком и потому обязан всё хвалить и всем восторгаться, а сам весь налит гаденькой желчью, которую даже выпускать не смеет. Я боюсь: он сплетник ужасный * ; сейчас побежит рассказывать, что я в театре. Ну, всё равно.
Оркестр проиграл вальс, занавес взвился опять… Поднялось опять на сцене кривлянье да хныканье.
– Ну-с, – начала Марья Николаевна, снова опускаясь на диван, – так как вы попались и должны сидеть со мною, вместо того чтобы наслаждаться близостью вашей невесты… не вращайте глазами и не гневайтесь – я вас понимаю и уже обещала вам, что отпущу вас на все четыре стороны, – а теперь слушайте мою исповедь. Хотите знать, что я больше всего люблю?
– Свободу, – подсказал Санин.
Марья Николаевна положила руку на его руку.
– Да, Дмитрий Павлович, – промолвила она, и голос ее прозвучал чем-то особенным, какой-то несомненной искренностью и важностью, – свободу, больше всего и прежде всего. И не думайте, чтоб я этим хвасталась – в этом нет ничего похвального, – только оно так,и всегда было и будет такдля меня, до самой смерти моей. Я в детстве, должно быть, уж очень много насмотрелась рабства и натерпелась от него. Ну, и monsieur Gaston, мой учитель, глаза мне открыл. Теперь вы, может быть, понимаете, почему я вышла за Ипполита Сидорыча; с ним я свободна, совершенно свободна, как воздух, как ветер… И это я знала перед свадьбой, я знала, что с ним я буду вольный казак!
Марья Николаевна помолчала и бросила веер в сторону.
– Скажу вам еще одно: я не прочь размышлять… оно весело, да и на то ум нам дан; но о последствиях того, что я сама делаю, я никогда не размышляю, и когда придется, не жалею себя – ни на эстолько: не стоит. У меня есть поговорка: «Cela ne tire pas à conséquence» [129]129
Это не влечет за собою никаких последствий! (франц.).
[Закрыть]– не знаю, как это сказать по-русски. Да и точно: что tire à conséquence? Ведь от меня отчета не потребуют здесь,на сей земле; а там (она подняла палец кверху) – ну, там пусть распоряжаются, как знают. Когда меня будут тамсудить, то я не я буду! Вы слушаете меня? Вам не скучно?
Санин сидел наклонившись. Он поднял голову.
– Мне вовсе не скучно, Марья Николаевна, и слушаю я вас с любопытством. Только я… признаюсь… я спрашиваю себя, зачем вы это всё говорите мне?
Марья Николаевна слегка подвинулась на диване.
– Вы себя спрашиваете… Вы такой недогадливый? Или такой скромный?
Санин поднял голову еще выше.
– Я вам всё это говорю, – продолжала Марья Николаевна спокойным тоном, который, однако, не совсем соответствовал выражению ее лица, – потому что вы мне очень нравитесь; да, не удивляйтесь, я не шучу; потому, что после встречи с вами мне было бы неприятно думать, что вы сохраните обо мне воспоминание нехорошее… или даже не нехорошее, это мне всё равно, а неверное. Оттого-то я и залучила вас сюда, и остаюсь с вами наедине, и говорю с вами так откровенно… Да, да, откровенно. Я не лгу. И заметьте, Дмитрий Павлович, я знаю, что вы влюблены в другую, что вы собираетесь жениться на ней… Отдайте же справедливость моему бескорыстию! А впрочем, вот вам случай сказать в свою очередь: «Cela ne tire pas à conséquence!»
Она засмеялась, но смех ее внезапно оборвался – и она осталась неподвижной, как будто ее собственные слова ее самое поразили, а в глазах ее, в обычное время столь веселых и смелых, мелькнуло что-то похожее на робость, похожее даже на грусть.
«Змея! ах, она змея! – думал между тем Санин, – но какая красивая змея!»
– Дайте мне мою лорнетку, – проговорила вдруг Марья Николаевна. – Мне хочется посмотреть: неужели эта jeune première в самом деле так дурна собою? Право, можно подумать, что ее определило правительство с нравственной целью, чтобы молодые люди не слишком увлекались.
Санин подал ей лорнетку, а она, принимая ее от него, быстро, но чуть слышно, охватила обеими руками его руку.
– Не извольте серьезничать, – шепнула она с улыбкой. – Знаете что: на меня цепей наложить нельзя, но ведь и я не накладываю цепей. Я люблю свободу и не признаю обязанностей – не для себя одной. А теперь посторонитесь немножко и давайте послушаемте пьесу.
Марья Николаевна навела лорнетку на сцену – и Санин принялся глядеть туда же, сидя с нею рядом, в полутьме ложи, и вдыхая, невольно вдыхая теплоту и благовоние ее роскошного тела и столь же невольно переворачивая в голове своей всё, что она ему сказала в течение вечера – особенно в течение последних минут.
XL
Пьеса длилась еще час с лишком, но Марья Николаевна и Санин скоро перестали смотреть на сцену. У них снова завязался разговор, и пробирался он, разговор этот, по той же дорожке, как и прежде; только на этот раз Санин меньше молчал. Внутренно он и на себя сердился и на Марью Николаевну; он старался доказать ей всю неосновательность ее «теории», как будто ее занимали теории! Он стал с ней спорить, чему она втайне очень порадовалась: коли спорит, значит уступает или уступит. На прикормку пошел, подается, дичиться перестал! Она возражала, смеялась, соглашалась, задумывалась, нападала… а между тем его лицо и ее лицо сближались, его глаза уже не отворачивались от ее глаз… Эти глаза словно блуждали, словно кружили по его чертам, и он улыбался ей в ответ – учтиво, но улыбался. Ей на руку было уже и то, что он пускался в отвлеченности, рассуждал о честности взаимных отношений, о долге, о святости любви и брака… Известное дело: эти отвлеченности очень и очень годятся как начало… как исходная точка…
Люди, хорошо знавшие Марью Николаевну, уверяли, что когда во всем ее сильном и крепком существе внезапно проступало нечто нежное и скромное, что-то почти девически стыдливое – хотя, подумаешь, откуда оно бралось?.. – тогда… да, тогда дело принимало оборот опасный.
Оно, по-видимому, принимало этот оборот и для Санина… Презрение он бы почувствовал к себе, если б ему удалось хотя на миг сосредоточиться; но он не успевал ни сосредоточиться, ни презирать себя.
А она не теряла времени. И всё это происходило оттого, что он был очень недурен собою! Поневоле придется сказать: «Как знать, где найдешь, где потеряешь?»
Пьеса кончилась. Марья Николаевна попросила Санина накинуть на нее шаль и не шевелилась, пока он окутывал мягкой тканью ее поистине царственные плечи. Потом она взяла его под руку, вышла в коридор – и чуть не вскрикнула: у самой двери ложи, как некое привидение, торчал Дӧнгоф; а из-за его спины выглядывала паскудная фигура висбаденского критика. Маслянистое лицо «литтерата» так и сияло злорадством.
– Не прикажете ли, сударыня, я вам отыщу вашу карету? – обратился к Марье Николаевне молодой офицер с трепетом худо сдержанного бешенства в голосе.
– Нет, благодарствуйте, – ответила она, – мой лакей ее найдет. – Останьтесь! – прибавила она повелительным шёпотом – и быстро удалилась, увлекая за собою Санина.
– Ступайте к чёрту! Что вы ко мне пристали? – гаркнул вдруг Дӧнгоф на литтерата. Надо было ему на ком-нибудь сорвать свое сердце!
– Sehr gut! sehr gut! – пробормотал литтерат и стушевался.
Лакей Марьи Николаевны, ожидавший ее в сенях, в мгновение ока отыскал ее карету – она проворно села в нее, за нею вскочил Санин. Дверцы захлопнулись – и Марья Николаевна разразилась смехом.
– Чему вы смеетесь? – полюбопытствовал Санин.
– Ах, извините меня, пожалуйста… но мне пришло в голову, что если Дӧнгоф с вами опять будет стреляться… из-за меня… Не чудеса ли это?
– А вы с ним очень коротко знакомы? – спросил Санин.
– С ним? С этим мальчиком? Он у меня на побегушках. Вы не беспокойтесь!
– Да я и не беспокоюсь вовсе.
Марья Николаевна вздохнула.
– Ах, я знаю, что вы не беспокоитесь. Но слушайте – знаете что: вы такой милый, вы не должны отказать мне в одной последней просьбе. Не забудьте: через три дня я уезжаю в Париж, а вы возвращаетесь во Франкфурт… Когда мы встретимся?
– Какая это просьба?
– Вы верхом, конечно, умеете ездить?
– Умею.
– Ну вот что. Завтра поутру я вас возьму с собою – и мы поедем вместе за город. У нас будут отличные лошади. Потом мы вернемся, дело покончим – и аминь! Не удивляйтесь, не говорите мне, что это каприз, что я сумасшедшая – всё это может быть, – но скажите только: я согласен!
Марья Николаевна обернула к нему свое лицо. В карете было темно, но глаза ее сверкнули в самой этой темноте.
– Извольте, я согласен, – промолвил Санин со вздохом.
– Ах! Вы вздохнули! – передразнила его Марья Николаевна. – Вот что значит: взялся за гуж – не говори, что не дюж. Но нет, нет… Вы – прелесть, вы хороший – а обещание я свое сдержу. Вот вам моя рука, без перчатки, правая, деловая. Возьмите ее и верьте ее пожатию. Что я за женщина, я не знаю; но человек я честный – и дела иметь со мною можно.
Санин, сам хорошенько не отдавая себе отчета в том, что делает, поднес эту руку к своим губам. Марья Николаевна тихонько ее приняла и вдруг умолкла – и молчала, пока карета не остановилась.
Она стала выходить… Что это? показалось ли Санину, или он точно почувствовал на щеке своей какое-то быстрое и жгучее прикосновение?
«До завтра!» – шепнула Марья Николаевна ему на лестнице, вся освещенная четырьмя свечами канделябра, ухваченного при ее появлении золотообрезным привратником. Она держала глаза опущенными. – «До завтра!»
Вернувшись к себе в комнату, Санин нашел на столе письмо от Джеммы. Он мгновенно… испугался – и тотчас же обрадовался, чтобы поскорей замаскировать перед самим собою свой испуг. Оно состояло из нескольких строк. Она радовалась благополучному «началу дела», советовала ему быть терпеливым и прибавляла, что все в доме здоровы и заранее радуются его возвращению. Санин нашел это письмо довольно сухим – однако взял перо, бумагу… и всё бросил. «Что писать!? Завтра сам вернусь… пора, пора!»
Он немедленно лег в постель и постарался как можно скорее заснуть. Оставшись на ногах и бодрствуя, он наверное стал бы думать о Джемме – а ему было почему-то… стыдно думать о ней. Совесть шевелилась в нем. Но он успокоивал себя тем, что завтра всё будет навсегда кончено и он навсегда расстанется с этой взбалмошной барыней – и забудет всю эту чепуху!..
Слабые люди, говоря с самими собою, охотно употребляют энергические выражения.
Et puis… cela ne tire pas à conséquence!
XLI
Вот что думал Санин, ложась спать; но что он подумал на следующий день, когда Марья Николаевна нетерпеливо постучала коралловой ручкой хлыстика в его дверь, когда он увидел ее на пороге своей комнаты – с шлейфом темно-синей амазонки на руке, с маленькой мужской шляпой на крупно заплетенных кудрях, с откинутым на плечо вуалем, с вызывающей улыбкой на губах, в глазах, на всем лице, – что он подумал тогда – об этом молчит история.
– Ну? готовы? – прозвучал веселый голос.
Санин застегнул сюртук и молча взял шляпу. Марья Николаевна бросила на него светлый взгляд, кивнула головою и быстро побежала вниз по лестнице. И он побежал вслед за нею.
Лошади стояли уже на улице перед крыльцом. Их было три: золотисто-рыжая чистокровная кобыла с сухой, оскалистой мордой, черными глазами навыкате, с оленьими ногами, немного поджарая, но красивая и горячая как огонь – для Марьи Николаевны; могучий, широкий, несколько тяжелый конь, вороной, без отмет – для Санина; третья лошадь назначалась груму. Марья Николаевна ловко вскочила на свою кобылу… Та затопала ногами и завертелась, отделяя хвост и поджимая круп, но Марья Николаевна (отличная наездница!) удержала ее на месте: нужно было проститься с Полозовым, который, в неизменной своей феске и в шлафроке нараспашку, появился на балконе и махал оттуда батистовым платочком, нисколько, впрочем, не улыбаясь, а скорее хмурясь. Взобрался и Санин на своего коня; Марья Николаевна отсалютовала г-ну Полозову хлыстиком, потом ударила им свою лошадь по выгнутой и плоской шее: та взвилась на дыбы, прыгнула вперед и пошла щепотким, укрощенным шагом, вздрагивая всеми жилками, собираясь на мундштуке, кусая воздух и порывисто фыркая. Санин, ехал сзади и глядел на Марью Николаевну; самоуверенно, ловко и стройно покачивался ее тонкий и гибкий стан, тесно и вольно охваченный корсетом. Она обернула голову назад и подозвала его одними глазами. Он поравнялся с нею.
– Ну, вот видите, как хорошо, – сказала она. – Я вам говорю напоследях, перед разлукой: вы прелесть – и раскаиваться не будете.
Выговорив эти последние слова, она несколько раз повела головою сверху вниз, как бы желая подтвердить их и дать ему почувствовать их значение.
Она казалась до того счастливой, что Санин просто удивлялся; у нее на лице появилось даже то степенное выражение, какое бывает у детей, когда они очень… очень довольны.
Шагом доехали они до недалекой заставы, а там пустились крупной рысью по шоссе. Погода была славная, прямо летняя; ветер струился им навстречу и приятно шумел и свистал в их ушах. Им было хорошо: сознание молодой, здоровой жизни, свободного, стремительного движения вперед охватывало их обоих; оно росло с каждым мигом.
Марья Николаевна осадила свою лошадь и опять поехала шагом; Санин последовал ее примеру.
– Вот, – начала она с глубоким, блаженным вздохом, – вот для этого только и стоит жить. Удалось тебе сделать, чего тебе хотелось, что казалось невозможным, – ну и пользуйся, душа, по самый край! – Она провела рукой себе по горлу поперек. – И каким добрым человек тогда себя чувствует! Вот теперь я… какая добрая! Кажется, весь свет бы обняла. То есть нет, не весь свет!.. Вот этого я бы не обняла. – Она указала хлыстиком на пробиравшегося сторонкой нищенски одетого старика. – Но осчастливить его я готова. Нате, возьмите, – крикнула она громко по-немецки и бросила к его ногам кошелек. Увесистый мешочек (тогда еще портмоне в помину не было) стукнул о́ дорогу. Прохожий изумился, остановился, а Марья Николаевна захохотала и пустила лошадь вскачь.
– Вам так весело верхом ездить? – спросил Санин, догнав ее.
Марья Николаевна опять разом осадила свою лошадь: она иначе ее не останавливала.
– Я хотела только уехать от благодарности. Кто меня благодарит – удовольствие мое портит. Ведь я не для него это сделала, а для себя. Как же он смеет меня благодарить? Я не расслышала, о чем вы меня спрашивали.
– Я спрашивал… я хотел знать, отчего вы сегодня так веселы?
– Знаете что, – промолвила Марья Николаевна: она либо опять не расслышала Санина, либо не почла за нужное отвечать на его вопрос. – Мне ужасно надоел этот грум, который торчит за нами и который, должно быть, только и думает о том, когда, мол, господа домой поедут? Как бы от него отделаться? – Она проворно достала из кармана записную книжечку. – Послать его с письмом в город? Нет… не годится. А! вот как! Это что такое впереди? Трактир?
Санин глянул, куда она указывала.
– Да, кажется, трактир.
– Ну и прекрасно. Я прикажу ему остаться в этом трактире – и пить пиво, пока мы вернемся.
– Да что он подумает?
– А нам что за дело! Да он и думать не будет; будет пить пиво – и только. Ну, Санин (она в первый раз назвала его по одной фамилии), – вперед, рысью!
Поравнявшись с трактиром, Марья Николаевна подозвала грума и сообщила ему, что она от него требовала. Грум, человек английского происхождения и английского темперамента, молча поднес руку к козырьку своей фуражки, соскочил с лошади и взял ее под уздцы.
– Ну, теперь мы – вольные птицы! – воскликнула Марья Николаевна. – Куда нам ехать – на север, на юг, на восток, на запад? Смотрите – я как венгерский король на коронации (она указала концом хлыста на все четыре стороны света) * . Все наше! Нет, знаете что: видите, какие там славные горы – и какой лес! Поедемте туда, в горы, в горы!
Она свернула с шоссе и поскакала по узкой, неторной дорожке, которая действительно как будто направлялась к горам. Санин поскакал за нею.
XLII
Дорожка эта скоро превратилась в тропинку и наконец совсем исчезла, пересеченная канавой. Санин посоветовал вернуться, но Марья Николаевна сказала: «Нет! я хочу в горы! Поедем прямо, как летают птицы» – и заставила свою лошадь перескочить канаву. Санин тоже перескочил. За канавой начинался луг, сперва сухой, потом влажный, потом уже совсем болотистый: вода просачивалась везде, стояла лужицами. Марья Николаевна пускала лошадь нарочно по этим лужицам, хохотала и твердила: «Давайте школьничать!»
– Вы знаете, – спросила она Санина, – что значит: охотиться по брызга́м? *
– Знаю, – отвечал Санин.
– У меня дядя был псовый охотник, – продолжала она. – Я с ним езживала – весною. Чудо! Вот и мы теперь с вами – по брызга́м. А только я вижу: вы русский человек, а хотите жениться на итальянке. Ну да это – ваша печаль. Это что? Опять канава? Гоп!
Лошадь перескочила – но шляпа упала с головы Марьи Николаевны, и кудри ее рассыпались по плечам. Санин хотел было слезть с коня и поднять шляпу, но она крикнула ему: «Не трогайте, я сама достану», нагнулась низко с седла, зацепила ручкой хлыста за вуаль и точно: достала шляпу, надела ее на голову, но волос не подобрала и опять помчалась, даже гикнула. Санин мчался с нею рядом, рядом с нею и перепрыгивал рвы, ограды, ручейки, проваливался и выкарабкивался, несся под гору, несся в гору и всё глядел ей в лицо. Что за лицо! Всё оно словно раскрыто: раскрыты глаза, алчные, светлые, дикие; губы, ноздри раскрыты тоже и дышат жадно; глядит она прямо, в упор перед собою, и, кажется, всем, что она видит, землею, небом, солнцем и самым воздухом хочет завладеть эта душа, и об одном только она и жалеет: опасностей мало – все бы их одолела! «Санин! – кричит она, – ведь это как в Бюргеровой „Леноре“! * Только вы не мертвый – а? Не мертвый?.. Я живая!» Разыгрались удалые силы. Это уж не амазонка пускает коня в галоп – это скачет молодой женский кентавр * , полузверь и полубог, и изумляется степенный и благовоспитанный край, попираемый ее буйным разгулом!
Марья Николаевна остановила наконец свою вспененную забрызганную лошадь: она шаталась под нею, а у могучего, но тяжкого санинского жеребца прерывалось дыхание.
– Что? любо? – спросила Марья Николаевна каким-то чудным шёпотом.
– Любо! – восторженно отозвался Санин. И в нем кровь разгорелась.
– Постойте, то ли еще будет! – Она протянула руку. Перчатка на ней была разорвана.
– Я сказала, что приведу вас к лесу, к горам… Вот они, горы! – Точно: покрытые высоким лесом, зачинались горы шагах в двухстах от того места, куда вылетели лихие всадники. – Смотрите: вот и дорога. Оправимтесь – и вперед. Только шагом. Надо дать лошадям вздохнуть.
Они поехали. Одним сильным взмахом руки Марья Николаевна отбросила назад свои волосы. Посмотрела потом на свои перчатки – и сняла их.
– Руки будут кожей пахнуть, – сказала она, – да ведь это вам ничего? А?..
Марья Николаевна улыбалась, и Санин улыбался тоже. Эта бешеная скачка их как будто окончательно сблизила и подружила.
– Сколько вам лет? – спросила она вдруг.
– Двадцать два.
– Не может быть! Мне двадцать два тоже. Годы хорошие. Сложи их вместе, и то до старости далеко. Однако жарко. Что, я раскраснелась?
– Как маков цвет!
Марья Николаевна утерла лицо платком.
– Только бы до лесу добраться, а там будет прохладно. Этакой старый лес – точно старый друг. Есть у вас друзья?
Санин подумал немного.
– Есть… только мало. Настоящих нет.
– А у меня есть, настоящие – только не старые. Вот тоже друг – лошадь. Как она тебя бережно несет! Ах, да здесь отлично! Неужто я послезавтра в Париж еду?
– Да… неужто? – подхватил Санин.
– А вы во Франкфурт?
– Я непременно во Франкфурт.
– Ну, что ж – с богом! Зато сегодняшний день наш… наш… наш!
Лошади добрались до опушки и вошли в нее. Тень леса накрыла их широко и мягко, и со всех сторон.
– О, да тут рай! – воскликнула Марья Николаевна. – Глубже, дальше в эту тень, Санин!
Лошади тихо двигались «глубже в тень», слегка покачиваясь и похрапывая. Дорожка, по которой они выступали, внезапно повернула в сторону и вдалась в довольно тесное ущелье. Запах вереска, папоротника, смолы сосновой, промозглой, прошлогодней листвы так и сперся в нем – густо и дремотно. Из расселин бурых крупных камней било крепкой свежестью. По обеим сторонам дорожки высились круглые бугры, поросшие зеленым мохом.
– Стойте! – воскликнула Марья Николаевна. – Я хочу присесть и отдохнуть на этом бархате. Помогите мне сойти.
Санин соскочил с коня и подбежал к ней. Она оперлась об его плечи, мгновенно спрыгнула на землю и села на одном из моховых бугров. Он стал перед нею, держа в руках поводья обеих лошадей.
Она подняла на него глаза…
– Санин, вы умеете забывать?
Санину вспомнилось вчерашнее… в карете.
– Что это – вопрос… или упрек?
– Я отроду никого и ни в чем не упрекала. А в присуху вы верите?
– Как?
– В присуху – знаете, о чем у нас в песнях поется. В простонародных русских песнях?
– А! Вы вот о чем говорите… – протянул Санин.
– Да, об этом. Я верю… и вы поверите.
– Присуха… колдовство… – повторил Санин. – Всё на свете возможно. Прежде я не верил, а теперь верю. Я себя не узнаю.
Марья Николаевна подумала – и оглянулась.
– А мне сдается, место это мне как будто знакомое. Посмотрите-ка, Санин, за тем широким дубом – стоит деревянный красный крест? аль нет?
Санин сделал несколько шагов в сторону.
– Стоит.
Марья Николаевна ухмыльнулась.
– А, хорошо! Я знаю, где мы. Пока еще не потерялись. Это что стучит? Дровосек?
Санин поглядел в чащу.
– Да… там какой-то человек сухие сучья рубит.
– Надо волосы в порядок привести, – проговорила Марья Николаевна. – А то увидит – осудит. – Она сняла шляпу и начала заплетать свои длинные косы – молча и важно. Санин стоял перед нею… Ее стройные члены явственно рисовались под темными складками сукна, с кое-где приставшими волокнами моха.
Одна из лошадей внезапно встряхнулась за спиною Санина; он сам затрепетал невольно, с ног до головы. Всё в нем было перепутано – нервы натянулись как струны. Недаром он сказал, что сам себя не узнает… Он действительно был околдован. Всё существо его было полно одним… одним помыслом, одним желаньем. Марья Николаевна бросила на него проницательный взгляд.
– Ну, вот теперь всё как следует, – промолвила она, надевая шляпу. – Вы не садитесь? Вот тут! Нет, погодите… не садитесь. Что это такое?
По верхушкам деревьев, по воздуху лесному, прокатилось глухое сотрясение.
– Неужели это гром?
– Кажется, точно гром, – ответил Санин.
– Ах, да это праздник! просто праздник! Только этого недоставало! – Глухой гул раздался вторично, поднялся – и упал раскатом. – Браво! Bis! Помните, я вам говорила вчера об «Энеиде»? Ведь ихтоже в лесу застала гроза. Однако надо убраться. – Она быстро поднялась на ноги. – Подведите мне лошадь… Подставьте мне руку. Вот так. Я не тяжела.
Она птицей взвилась на седло. Санин тоже сел на коня.
– Вы – домой? – спросил он неверным голосом.
– Домой?? – отвечала она с расстановкой и подобрала поводья. – Ступайте за мной, – приказала она почти грубо.
Она выехала на дорогу и, минуя красный крест, опустилась в лощину, добралась до перекрестка, повернула направо, опять в гору… Она, очевидно, знала, куда держала путь – и шел этот путь всё в глубь да в глубь леса. Она ничего не говорила, не оглядывалась; она повелительно двигалась вперед – и он послушно и покорно следовал за нею, без искры воли в замиравшем сердце. Дождик начал накрапывать. Она ускорила ход своей лошади – и он не отставал от нее. Наконец, сквозь темную зелень еловых кустов, из-под навеса серой скалы, глянула на него убогая караулка, с низкой дверью в плетеной стене… Марья Николаевна заставила лошадь продраться сквозь кусты, спрыгнула с нее – и, очутившись вдруг у входа караулки, обернулась к Санину и шепнула: Эней?
Четыре часа спустя Марья Николаевна и Санин, в сопровождении дремавшего на седле грума, возвратились в Висбаден, в гостиницу. Г-н Полозов встретил свою супругу, держа в руках письмо к управляющему. Вглядевшись в нее попристальнее, он, однако, выразил на лице своем некоторое неудовольствие – и даже пробормотал:
– Неужто проиграл пари?
Марья Николаевна только плечами пожала.
А в тот же день, два часа спустя, Санин в своей комнате стоял перед нею, как потерянный, как погибший…
– Куда же ты едешь? – спрашивала она его. – В Париж – или во Франкфурт?
– Я еду туда, где будешь ты, – и буду с тобой, пока ты меня не прогонишь, – отвечал он с отчаянием и припал к рукам своей властительницы. Она высвободила их, положила их ему на голову и всеми десятью пальцами схватила его волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безответные волосы, сама вся выпрямилась, на губах змеилось торжество – а глаза, широкие и светлые до белизны, выражали одну безжалостную тупость и сытость победы. У ястреба, который когтит пойманную птицу, такие бывают глаза.
XLIII
Вот что припомнил Дмитрий Санин, когда в тишине кабинета, разбирая свои старые бумаги, он нашел между ними гранатовый крестик. Рассказанные нами события ясно и последовательно возникали перед его мысленным взором… Но, дойдя до той минуты, когда он с таким унизительным молением обратился к г-же Полозовой, когда он отдался ей под ноги, когда началось его рабство, – он отвернулся от вызванных им образов, он не захотел более вспоминать. И не то, чтобы память изменила ему – о нет! он знал, он слишком хорошо знал, что последовало за той минутой, но стыд душил его – даже и теперь, столько лет спустя; он страшился того чувства неодолимого презрения к самому себе, которое, он в этом не мог сомневаться, непременно нахлынет на него и затопит, как волною, все другие ощущения, как только он не велит памяти своей замолчать. Но как он ни отворачивался от возникавших воспоминаний, вполне заглушить он их не мог. Он вспомнил дрянное, слезливое, лживое, жалкое письмо, посланное им Джемме, письмо, оставшееся без ответа… Явиться к ней, вернуться к ней – после такого обмана, такой измены – нет! нет! на столько совести и честности осталось еще в нем. К тому же он всякое доверие потерял к себе, всякое уважение: он уже ни за что не смел ручаться. Санин вспомнил также, как он потом – о, позор! – отправил полозовского лакея за своими вещами во Франкфурт, как он трусил, как он думал лишь об одном: поскорей уехать в Париж, в Париж; как он, по приказанию Марьи Николаевны, подлаживался и подделывался к Ипполиту Сидорычу – и любезничал с Дӧнгофом, на пальце которого он заметил точно такое же железное кольцо, какое дала ему Марья Николаевна!!! Потом пошли воспоминания еще хуже, еще позорнее… Кельнер подает ему визитную карточку – и стоит на ней имя Панталеоне Чиппатола, придворного певца е. к. в. герцога Моденского! Он прячется от старика, но не может избегнуть встречи с ним в коридоре – и встает перед ним раздраженное лицо под взвившимся кверху седым хохлом; горят, как уголья, старческие глаза – и слышатся грозные восклицания и проклятия: Maledizione! [131]131
Проклятье! (итал.).
[Закрыть], слышатся даже страшные слова: Codardo! Infame traditore! [132]132
Трус! Гнусный изменник! (итал.).
[Закрыть]Санин жмурит глаза, встряхивает головою, отворачивается вновь и вновь – и все-таки видит себя сидящим в дорожном дормезе на узком переднем месте… На задних, покойных местах сидят Марья Николаевна и Ипполит Сидорыч – четверня лошадей несется дружной рысью по мостовой Висбадена – в Париж! в Париж! Ипполит Сидорыч кушает грушу, которую он, Санин, ему очистил, а Марья Николаевна глядит на него и усмехается тою, ему, закрепощенному человеку, уже знакомой усмешкой – усмешкой собственника, владыки…