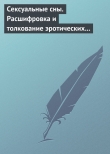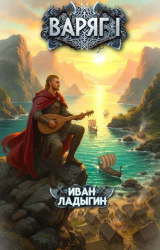
Текст книги "Варяг I (СИ)"
Автор книги: Иван Ладыгин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Потом он развязал поясную сумку и достал оттуда маленький, тщательно завязанный узелок из ткани.
– А это. От девицы с Буяна. Передала через самого ярла!
Я взял узелок. Сердце подпрыгнуло к кадыку. Развернул. Внутри лежал простой, потемневший от времени бронзовый амулет. Он был теплым, словно его только что сняли с шеи. Ткань с платья Астрид пахла можжевельником, брусникой и ванилью с древесными нотками. Я поднял этот причудливый платок к носу и глубоко вдохнул.
Запах женщины, что любит и ждет…
У меня закружилась голова.
Я сжал амулет в кулаке. Он впивался острыми краями в ладонь, напоминая о том, ради чего все это. О долге. О будущем. О доме. Предупреждение Асгейра отравляло надежду, как испорченный мед, но ее подарок, ее вера были сильнее. Они были моим талисманом, моим якорем в этом суровом море.
Настал тот день, когда нужно было вспахать полосу для первого пробного засева. Мы с Эйвиндом кое-как починили старую, разболтанную соху. Впряглись в нее вдвоем. Юноша-раб вел в поводу нашу единственную тощую кобылу, за которую мне пришлось вывалить часть своих трофеев. Она упиралась, фыркала, не желая идти вперед.
Я уперся плечами в грубо оструганное древко. Земля передо мной была плотной, упругой, живой, полной переплетенных корешков и камней. Соха со скрежетом вгрызалась в нее, с трудом выворачивая пласты черной, влажной, дышащей прелью и жизнью почвы. Каждый шаг давался с боем. Мышцы спины горели огнем, руки немели от напряжения, пот ручьем заливал глаза, смешиваясь с пылью.
Но это был акт творения. Я проводил первую черту. Между дикостью и порядком. Между хаосом и волей человека. Между голодной смертью и жизнью. Это и была настоящая, самая главная война. Война с природой, с бесплодием, с самим собой. И я должен был ее выиграть.
А ночью я никак не мог уснуть. Кошмары сменила иная, более продуктивная бессонница. Бессонница стратега и инженера.
Я взял вощеную дощечку и стило. При свете тлеющей лучины принялся царапать на ней цифры, схемы, списки. Я высчитывал площадь поля. Объем зерна, который нужно для посева. Количество бревен для сруба. Количество гвоздей, скоб. Количество дней до первых серьезных заморозков. Ресурсы, сроки, задачи.
Мой мозг лихорадочно работал, проецируя будущее. Я рассчитывал простейшую дренажную канаву вокруг будущего дома – чтобы отводить талые и дождевые воды, иначе сырость и плесень сожрут все наши труды. Прикидывал, как лучше поставить тот самый сыродутный горн, чтобы преобладающий ветер дул в нужную сторону и усиливал жар.
Я был полководцем на поле своей собственной жизни. И эта бессонница была моей самой важной работой.
Сигурд прибыл ко мне через неделю. Он был в сопровождении нескольких угрюмых хускарлов.
Он молча, не спеша, обошел все наше маленькое хозяйство. Потрогал сложенные для сруба бревна, проверяя их на прочность и прямоту. Пнул ногой только что вспаханную полосу земли. Оценивающе, без эмоций, посмотрел на Парня и старика, которые кололи дрова.
– Медленно, – заключил он наконец. Его голос был ровным, как поверхность озера перед бурей. – И слабо. Зимой помрешь. Всех насмешишь. Бьёрн ошибся, дав тебе землю. Она должна кормить воина, а не ученую крысу. Земля требует силы, а не чудес.
Потом он сделал паузу, глядя куда-то поверх моей головы, в сторону темнеющего леса.
– Лучше готовься к своей вейцле. Зимой приду за своей долей. И не забудь о тинге. Скоро он соберется.
Я спокойно ожидал продолжения, предчувствуя что-то нехорошее. И оно пришло.
– Мой сын, Ульф, недавно вернулся в родные края, – Сигурд произнес это так, словно сообщал о погоде. – Доблестный воин. Отличился в походе. Он созрел. Ему нужна хорошая жена, чтобы крепить род, растить новых воинов.
Он медленно перевел на меня свой тяжелый, непроницаемый взгляд.
– Астрид, племянница моего троюродного брата. Она ему под стать. Хорошая кровь. Сильная. Выносливая. Я как ее дядя и твой ярл… благословляю этот союз. Ты же, как ее… друг, – он слегка растянул это слово, вкладывая в него всю глубину моего ничтожного статуса, – должен будешь за нее порадоваться. На тинге и объявим об этом.
Он развернулся, не дожидаясь ответа. Его хускарлы, бросая на меня насмешливые взгляды, развернулись вслед за ним. Через мгновение они уже скакали прочь, оставляя за собой облако пыли.
Я стоял посреди своего поля, на только что вспаханной земле. В кулаке, зажатом в кармане, я сжимал амулет Астрид так, что его острые углы впивались в ладонь до крови. Я смотрел на свои руки – в мозолях, в земле, в царапинах. Потом на спину удаляющегося наместника, на его прямую спину.
Во рту я ощутил вкус железа и горькой полыни. Во мне всколыхнулась холодная и отточенная ярость собственника. Защитника. Он только что объявил мне войну. Он. Сигурд Крепкая Рука. Объявил войну за мое место. За мой дом. За мою любовь.
Я повернулся к Эйвинду, который молча наблюдал за всей сценой. Он сжал рукоять топора, а затем с силой метнул его в ближайший пень. Лезвие глубоко вошло в дерево.
– Кончай с полем. Хватит на первый раз, – сказал я, и мой голос прозвучал непривычно спокойно и твердо. – Собирай инструменты. Завтра на рассвете начнем ставить сруб. Иначе нам здесь не выстоять.
В моих глазах горел уже новый огонь. Злая решимость переливалась в моих зрачках всеми оттенками красного. Они думают, что имеют дело с обычным вольноотпущенником, скальдом и знахарем.
Так вот… Они ошибаются…
Они разбудили во мне варяга. И он готов сражаться за то, что принадлежит ему по праву.
Глава 16

* * *
Казалось, сами боги опрокинули котел в этом зале. Воздух загустел, как студень… Будто Локи замешал в этом вареве дым от смолистых факелов и стойкий запах влажной шерсти. Но основой для бульона, конечно же, было старое, пропитанное потом дерево.
Так пахло в этом месте…
Тени плясали на стенах и суетливо цеплялись за резных зверей на столбах-подпорках, будто те могли ожить и изготовиться к прыжку.
В центре, на столе из грубых плах, застеленном волчьими шкурами, лежала самая большая ценность – развернутые пергаменты с нанесенными углем и охрой зигзагами фьордов, кружками поселений и силуэтами земель.
Конунг Харальд, прозванный в юности Прекрасноволосым, стоял, опираясь на карту костяшками пальцев. Время и груз власти сделали свое дело: волосы поседели и поредели, лицо избороздили морщины, прорезанные бесконечными усобицами и трудными решениями. Но глаза… Синие глаза конунга горели всё тем же холодным и неумолимым огнем, что и двадцать лет назад.
– Мы рвём друг другу глотки… – его низкий голос ударил по тишине стенобитным тараном. – Из-за клочка выжженной земли, на которой и коза не прокормится! Из-за коровы, из-за браслета, из-за косого взгляда. Мы воем друг на друга, как стаи голодных волков, загнанных в одну тесную клетку. И не видим, что стены этой западни уже подточены. – Он ударил кулаком по пергаменту, где грубыми штрихами была изображена южная земля с десятками замков. – Там, на юге, они уже не дерутся. Они строят. Кладут камень на камень. Куют железо тысячами пудов. Учат своих людей подчиняться не зову крови, а одной воле. Одному королю. И когда они придут… а они придут, поверьте мне… они сомнут нас всех. И волков, и овец. Не разбирая.
Он обвел взглядом своих ярлов и хёвдингов. Их лица, с младенчества обласканные морским ветром, сейчас казались суровыми. У некоторых в глазах плясали искорки недоверия. Но большинство, все же, смотрело с пониманием… Они видели тех же богатых купцов, те же низкобортные корабли с десятками гребцов, те же доспехи, что были прочнее их собственных. Юг активно развивался, и даже частые набеги викингов ничего не могли с этим сделать.
– Этот Бьёрн с его Буяном… – Харальд произнес это имя без злобы, с каким-то странным усталым сожалением. – Он не враг нам. Он просто слепой. Он – упрямство, высеченное из скалы предков. Он тянет нас всех назад, в тот век, когда каждый был сам себе конунг, сам себе бог и сам себе палач. Его вольница, его «право сильного» – это путь в общую могилу. Для всех наших детей. Мы должны показать настоящую цену этой слепоте. Цену неповиновения.
Он выпрямился во весь свой немалый рост, и в его осанке вдруг проглянул прежний воин, тот, что отправил в Вальхаллу не один десяток ярлов.
– После Великого тинга флот должен быть готов. Все драккары, все снеккары, все люди, которых можно посадить на весла. Путь до Буяна долог. Но мы пройдем его. И мы покажем всем, от самых западных фьордов до восточных долин, что воля Единого Конунга – это не тирания. Это – последний щит. Щит против грядущей ночи, что может поглотить всех нас.
* * *
А зал Бьёрна на Буяне дышал совсем иными запахами. Шлейф жареной баранины с тмином смешивался с ароматом темного хмельного меда. Запах только что испеченного хлеба из грубой муки робко касался этого общего духа и щекотал ноздри.
Очаг, сложенный из дикого камня, потрескивал, отбрасывая на стены теплые и добрые тени.
Его собственные дети и те, что остались от Эйрика, с визгом носились между скамьями, изображая драккары и знаменитые морские битвы. Потомство своего врага он великодушно оставил в живых. Из них еще могли получиться верные воины. Главное – тепло и ласка… И всё будет.
Бьёрн сидел в своем кресле у высокого резного столба, обвитого деревянными змеями. В руке он держал массивный, окованный серебром рог. Но пить совсем не хотелось. Он смотрел на детей и слушал их смех… Его ясный взгляд кутался в туманный плащ далекой и невеселой думы.
В нем боролись два чувства. Жестокое, почти животное желание защитить этот огонек, этот кусок тепла, жизни и порядка, что он создал здесь, на краю света. И холодная, ранящая, как стрела, стрела пророчества вёльвы. «Твой род прервется. Но дело твое будет жить в нем. В Дважды-рожденном».
Он смотрел на своего старшего сына, на его белокурую, еще детскую головку. Этот мальчик должен был унаследовать Буян. Стать его ярлом. Хранить традиции, беречь людей. А не быть… ступенькой. Тенью. Приложением к чужой, пусть и великой славе. Даже если этой славой будет Рюрик.
К его плечу прикоснулась теплая и родная рука. Жена не сказала ни слова. Ей и не нужно было говорить. Она и так видела бурю в его глазах, чувствовала напряжение в его мышцах. Она всегда всё чувствовала…
Бьёрн положил свою широкую ладонь поверх ее руки. И мысленно, глядя в потрескивающий огонь, поклялся…
Он будет драться. За сына. За Буян. За их право жить по своим законам. Даже против самой судьбы. Даже если против него выступит весь мир и сам Праотец.
Смех и гам в зале поутих, сменившись настороженным гулом, когда в дверях появились двое. Асгейр степенно переступил порог и по-лисьи ощерился. За ним стоял Ульф, сын Сигурда. Прямой, как древко копья, с надменным и холодным лицом воина, который знает себе цену и не сомневается в цене окружающих.
Ульф прошел к столу Бьёрна, кивнул с подчеркнутой, сухой, почти оскорбительной почтительностью.
– Конунг. Я принес вести из Гранборга. У нас всё спокойно. Но старый волк Ульрик сидит в своем борге и копит силы. Ждет. Они следит за нами, как змей из своей пещеры.
Бьёрн молча кивнул, оценивая новость. Ульф был храбр, силен. Но в его глазах читалась та самая слепая спесь, что уже погубила не одного доблестного воина.
– А еще до меня дошли слухи… – Ульф бросил это небрежно, будто сплевывал шелуху. – От том человеке, которому ты даровал звание бонда. О Рюрике. Он копается в грязи, как последний трэлл, а не хозяйствует. С рабами нянчится, песни им поет, будто скоморох какой-то! Зря ты ему землю дал, ярл. Позорище это для твоего имени. Из него хозяина не выйдет! Одно недоразумение.
Он сделал паузу, подвесив эти слова на крючки сомнений.
– Мне нужна хорошая жена, ярл. Чтобы крепить род, растить новых воинов. Астрид, твоя племянница, ей давно пора под венец. Прошу ее руки. Я буду ей добрым мужем. И сильной, надежной рукой здесь, на Буяне. В отличие от некоторых выскочек.
Тишина зазвенела хрустальным стёклышком. Бьёрн медленно, не отрывая глаз от Ульфа, отпил из рога. Ему не понравилась заносчивость этого молокососа.
Тогда вперед шагнул Асгейр. Его голос прозвучал мягко, почти отечески:
– Странные слухи ходят по свету. А я слышал совсем иное! Говорят, Рюрик-бонд не просто копается в земле. А строит и возводит новые стены. И лечит. Многие из наших воинов, – он обвел медленным взглядом зал, и несколько человек, те, кого Рюрик буквально вытащил с того света, невольно кивнули, – обязаны ему жизнью. Он ставил их на ноги, когда местные знахари лишь разводили руками. И уважение он заслужил не родом, а делом! Что до Астрид… – Асгейр улыбнулся, и в его глазах блеснул огонек, – говорят, дева сама неплохо разбирается, чьи песни и чьи глаза греют ей сердце.
Ульф закипел. Его лицо залилось густой, багровой краской. Рука дрогнула и потянулась к рукояти меча у пояса.
– Ты на что намекаешь, старый хрыч⁈ Что какой-то выскочка-раб…
– ХВАТИТ! – Голос Бьёрна хлопушкой ударил по воздуху. В тишине, воцарившейся после его слова, можно было захлебнуться. Он перевел тяжелый взгляд с пылающего Ульфа на спокойного Асгейра. – Я услышал. Я обдумаю твое предложение. У меня есть время до тинга. Всё решат боги и мудрость предков. А теперь – прошу к столу. Хватит пустых разговоров.
Но семя было брошено. Ульф, швырнув на Асгейра взгляд, полный лютой, немой ненависти, удалился. А в зале уже перешептывались. Имя Рюрика звучало все чаще, то с насмешкой, то с уважением, то с простым человеческим любопытством.
* * *
Рассвет на моем хуторе был чистым и звонким, как трель первых ласточек. Воздух покалывал легкие, – в нем прятались свежая хвоя, запах жирной земли и едва уловимый дымок от очага, который я растопил первым делом.
Я стоял перед своим небольшим, но уже сплоченным отрядом. Эйвинд, двое его закадычных друзей, и еще с десяток викингов, чьи раны я недавно штопал, кому вправлял кости или просто кого отпаивал отварами от лихорадки.
– Наклон! – скомандовал я, сам делая упражнение. – Руки в стороны! Плавно, чувствуйте мышцы спины!
Они, красные от натуги и смущения, повторяли эти странные, на их взгляд, телодвижения. Утренняя зарядка. Для них, привыкших к разминке с мечом или топором, это было дико. Кто-то кряхтел, кто-то ворчал, что лучше бы уже взяться за настоящее дело. Но – делали. Потому что приказал тот, кто вытащил их с того света. Кому они были обязаны жизнью.
И я видел, как это работает. Как стираются последние невидимые границы между «ими» и «мной». Как они, посмеиваясь, подтрунивая друг над другом, поправляли товарищей. Для них я уже был не чудаком-чужеземцем с непонятными знаниями, а полноценным другом.
Я был уверен, что эта спайка, эта общая пролитая кровь и пролитый пот, куда крепче любых клятв, данных под давлением. Это был мой главный и нетривиальный козырь. И я готовился разыграть его на предстоящем тинге. Чем больше у меня будет друзей, тем легче я выбью всю дурь из башки Сигурда.
А зарядка… Зарядка полезна для здоровья! Она отлично способствует реабилитации после ран…
– Тащи его сюда! Крепче держи, Брани! Давай-давай! – мой голос хрипел от утреннего холода, разрезая тишину у ручья.
Мы возились с огромным, прямым и невероятно тяжелым бревном – идеальным для оси будущей мельницы. «Хлебная толчея» – самое безумное и самое важное мое начинание.
Воинам, привыкшим рубить и крушить, а не созидать, эта затея казалась дикой. Особенно – после зарядки. Но они видели мой запал и мою уверенность. Видели уже готовые инструменты, что я успел выковать в своей крошечной, но уже работающей кузнице из того самого кричного железа. Не абы что, а добротные, надежные гвозди, скобы, топоры с продуманными, удобными рукоятями.
– Рюрик, да это же… это же лучше, чем у моего отца было! – один из них, тот самый Брани, покрутил в руках новый топор с неподдельным удивлением и зачарованным уважением.
В этом и был секрет. Прогресс начинается с малого. С удобного топора. С ровной, прочной доски. С веры в того, кто ведет вперед, а не тащит назад.
Поздним вечером я зашел в сенник. Вернее, в то, что я постепенно превращал из вонючего хлева в подобие человеческого жилья для своих раб… Для своих людей.
Старик сидел на чистой соломе, опираясь спиной о стену. Его дыхание уже не было хриплым и прерывистым, ребра потихоньку срастались. Юноша молча, с неожиданным усердием, чинил порванную сеть.
Я поставил между ними деревянную миску с дымящейся похлебкой из ячменя и вяленой оленины и две кружки с легким березовым соком.
– Как вас зовут? – спросил я просто, опускаясь на корточки перед ними.
Они вздрогнули, как зайцы, и подняли на меня испуганные глаза. Во взгляде старика я приметил недоумение и какую-то старую, застарелую, въевшуюся в душу боль.
– Торбьёрн… – просипел он, будто извиняясь за свое имя, за то, что он вообще посмел его иметь.
Юноша продолжал молчать. Потом, под моим спокойным, выжидающим взглядом, все же пробормотал еле слышно:
– Эйнар…
– Торбьёрн и Эйнар, – повторил я твердо, давая им понять, что запомнил и что это важно. Это не была слабость или сентиментальность. Это была тонкая, но прочная стратегия. Страх – ненадежный союзник, он обращается против тебя при первой же возможности. Преданность, выкованная из уважения и надежды – вот настоящий фундамент.
– Я сам когда-то был рабом. Носил ошейник… Служите мне честно. И вы тоже станете свободными. Даю вам слово!
Я вышел, оставив их с едой и с новыми, невероятными, будто взрывными для них мыслями. В их взглядах, устремленных мне вслед, уже не было пустоты или животного страха. Была настороженная, робкая, но уже живая надежда. Самая прочная основа для будущей верности.
После тяжелого трудового дня я решил устроить небольшой пир.
Длинный дом, который пах свежей смолой и новым деревом, оглашался радостным гомоном, смехом и глухим стуком кружек о край стола. Я угощал всех своим «великим секретом» – кусками баранины, вымоченными в отваре диких горьких трав с чесноком и зажаренными на углях до хрустящей корочки. «Шашлык по-рюриковски». Викинги были в полном восторге и постоянно требовали добавки.
В какой-то момент атмосфера веселья достигла своего пика. Все были сыты, довольны работой, чувствовали плечи друг друга, эту новую, рождающуюся связь. И тогда я взял в руки купленную накануне лиру.
И запел. Не о подвигах богов или героев. О любви. О прекрасной деве, о благородном, но бедном воине и о коварном, могущественном злодее, что захотел силой разлучить их. Песня была простой, мелодичной, с хорошим, ясным концом:
'Где фьорд ломает волны моря,
Где пена лаской шьёт прибой,
Там витязь жил, не ведал горя —
Любил одну – считал судьбой…
Закатный луч коснулся девы —
Огнём закутана коса.
Глаза – сияние Венеры.
Как утро Севера, светла.
Любовь меж ними крепким камнем
Сложилась в вечности утёс.
Настолько прочный, что преданьем
Их путь живительный порос…
Но ярл, чей взор был полон злобы,
Чей сын хотел девицу взять
К себе в натруженные жёны,
Решил героя повязать.
На пир позвал он, клялся в дружбе,
Как змей, таящийся в цветах…
А викинг добрый безоружный
Смеялся с ядом на устах…
Злой ярл отравой смазал кубок,
И юный воин пал без сил.
Девице боль сожгла рассудок,
С утеса бросилась в настил
Холодных вод морской пучины —
Там умерла, нашла покой
В объятьях мертвого мужчины —
Того, кто был ее судьбой.'
Когда последняя нота отзвучала, я с горьковатой улыбкой посмотрел на своих гостей.
– Словно про меня да про Астрид с Буяна. Только злодей у нас, к сожалению, не сказочный.
В зале повисла напряженная тишина. Потом ее взорвал гром возмущения и гнева.
– Что⁈ Кто смеет? Дай нам имя, Рюрик, имя!
– Ульф, сын Сигурда, – выдохнул я, делая вид, что с трудом сдерживаю эмоции. – Его отец уже благословил этот союз. Не спросив ни деву, ни… ее сердца.
Первым, опрокинув скамью, вскочил Эйвинд. Его лицо перекосила настоящая, неподдельная ярость.
– Сигурд решил своего сынка на твоей женщине женить⁈ Да он что, совсем богов не боится? Спросил бы сначала, как наши топоры на его башке буду сидеть!
Его яростный крик подхватили другие. Те, кого я лечил, с кем пахал мерзлую землю, с кем строил этот дом.
– Мы с тобой, Рюрик! Решать будет дева, а не старый хитрец! На тинге всем покажем, что ты с нами! За тебя горой встанем!
Я смотрел на их разгоряченные верные лица. Союз был скреплен. Личной преданностью и обоюдной ненавистью к общему врагу. Этот памфлет, вырванный из сердца, заработал с ужасающей эффективностью агитационной машины…
Когда сумерки сбрызнули хутор густым тёмным мёдом, из чащи леса, спотыкаясь о корни и хватаясь за стволы сосен, вывалился запыленный, оборванный и смертельно испуганный человек. Он был одет в потертые, пропахшие потом и дымом штаны и кожаную куртку бедного охотника. Его глаза, дикие, выпученные, бегали по сторонам, полные немого ужаса.
Он упал на колени прямо перед моим крыльцом, едва не воткнувшись лицом в холодную землю.
– Лекарь! Где тут лекарь Рюрик⁈ – его голос срывался на визгливый, отчаянный шепот.
Я вышел из дома, отложив в сторону тесло.
– Я Рюрик. В чем дело, путник?
– Жена… – он захлебнулся, закашлялся. – Жена умирает. Лихачка ее бьет, огнем пышет, бредит… Местные знахари… все перепробовали. Все соки, все заговоры… Бессильны. Слышал я… слышал о тебе. Люди шепчутся. Чудо-целитель с юга. Прошу… умоляю… – он схватил меня за край плаща, и его пальцы дрожали, как в лихорадке. – Я из владений ярла Ульрика. Живу на самой границе. Знаю, что сейчас вы не очень ладите… но идти больше не к кому! Она умрет!
Эйвинд, стоявший рядом, тут же нахмурился, сжал мое запястье железной хваткой.
– Это может быть ловушка, Рюрик. Чуешь? Как пахнет? Подослали лазутчика. Заманят в глубь чащи, в земли Ульрика, и прирежут как щенка. Не ходи.
Я посмотрел на охотника. На его исступленное, искреннее от тревоги лицо. Нет, это не ложь. Это был настоящий, животный страх за близкого человека.
– Я не откажу тому, кто в помощи нуждается, – твердо сказал я, высвобождая руку. – И пусть Ульрик Старый увидит, что с земель Бьёрна несут не только меч и пожар. Эйвинд, держи оборону здесь. А я скоро вернусь.
Не слушая его возражений и проклятий, я схватил свою походную сумку, где всегда были соль, редкие высушенные травы и баночка целебного меда. И шагнул в сгущающиеся, враждебные сумерки, навстречу неизвестности и возможной ловушке.
* * *
В чертогах Сигурда Крепкой Руки в Гранборге пахло влажным камнем, холодным железом и старой пылью. Не было здесь ни уюта Буяна, ни показного величия зала Харальда. Была лишь голая, функциональная, подавляющая мощь.
Ульф стоял перед отцом, вытянувшись в струнку, как на смотре. Его лицо все еще пылало от унижения и невысказанной злобы.
– Он сколотил вокруг себя всю эту шантрапу! Всех этих калек и неудачников! Они за него горой готовы лечь! И песни он поет… песни, где я – злодей, а он – невинная овечка! Он открыто, публично бросает вызов нам! Нашему роду! Нашей чести!
Сигурд молча слушал, сидя в своем кресле, вырезанном из цельного корня дуба. Его лицо, обычно непроницаемое, постепенно каменело, становясь совсем бесстрастным. Он смотрел куда-то мимо сына, в пустоту стены, но видел, кажется, всё.
– Он лечит людей, – тихо, без единой эмоции, констатировал он. – Укрепляет свой хутор. Кует изделия, которых даже у нас нет. Поет песни, чтобы завоевать сердца глупцов. Ищет союзников среди сильных мира сего. Это уже не досадная помеха, Ульф. Это… тот, кто метит в ярлы… Соперник.
Он медленно поднялся с места. Его тень огромной и уродливой змеей поползла по стене, поглощая свет.
– Я предлагал ему уважение. Место под солнцем рядом с нами. В обмен на лояльность и отказ от всяких притязаний. Он выбрал иной путь. Он решил, что может играть с нами на равных.
Холодная и расчетливая ярость в его глазах сменилась первобытной злобой.
– Но хватит игр. Если этот выскочка не понимает языка уважения и силы… он поймет язык боли. И страха.
Глава 17

На нарах, застеленных грубой, застиранной до серости дерюгой, металась в лихорадочном бреду женщина. Когда-то ее лицо, наверняка, было полным и румяным. Теперь же оно осунулось. Кожа была сухой и натянутой, как пергамент на барабане. Ее лоб пылал неестественным жаром.
Ее муж, охотник Торгильс, замер у входа, прислонившись к дверному косяку из цельного бревна. Его мощная, жилистая фигура, привыкшая к тяготам таежной жизни, казалась ссутулившейся и сломленной; глаза в глубоко посаженных орбитах горели двумя испуганными угольками в полумраке хижины. Комната освещалась лишь тлеющим очагом и чадящей лучинкой.
Я только что закончил осмотр. Мои руки, привыкшие к мелу и весу книги, предательски задрожали. Вроде бы уже не раз проворачивал нечто подобное… Вроде бы не раз уже сталкивался с отчаянием и смертью… Но к этому нельзя было привыкнуть…
Я нашел источник зла. Под грубой тканью платья, на внутренней стороне голени, зиял багрово-синий, отливающий лиловым нарыв. Он был размером с куриное яйцо. Кожа вокруг него лоснилась и пульсировала – то был верный признак гноя, рвущегося наружу.
Фурункул.
Запущенный, загноившийся до состояния, грозящего сепсисом, заражением крови – смертным приговором в этом мире, не знавшем антибиотиков.
В голове пронеслись обрывки знаний из другой жизни: случайно просмотренный документальный фильм об истории медицины, статьи в интернете, мелькавшие между лекциями Спицына и Зубова, разнообразные подкасты.
Нужен был скальпель. Стерильные бинты. Антисептик. Асептика. Хирургические перчатки. Лидокаин. Но здесь ничего этого не было. Только грязь, боль, тьма и отчаянная, слепая надежда в глазах этого огромного, но сейчас такого беспомощного мужчины.
Господи… Нет…Здесь нет никого. Только я. И она. И этот проклятый нарыв, эта бомба замедленного действия, тикающая в такт ее слабеющему сердцу.
И чем резать, спрашивается? Моим боевым саксом? Его я точил на том же камне, которым точили топоры для рубки мяса и косы для сена… Кипятить? В этом прокисшем, покрытом нагаром котле, где варят и похлебку, и стирают портки? Мед? Его тут на вес золота, его может не хватить, а он – единственный природный антисептик, что у меня есть… Я не врач, я просто посредственный препод! Черт возьми, я читал лекции, а не вскрывал гнойники! В этот раз я убью ее! Точно убью!
Профессиональная беспомощность билась в истерике о холодную, неумолимую стену необходимости. Медлить было нельзя. Каждый час, каждая минута приближали ее к небытию.
– Дай мне кипятка! – рявкнул я. – И самую чистую тряпку, какую сможешь найти! Живо!
Торгильс метнулся к котлу, подвешенному над тлеющими углями. Я выхватил свой сакс из кожаных ножен. Лезвие, отточенное для убийства людей, теперь должно было спасать жизнь. Я сунул клинок в самое жерло пламени, наблюдая, как бледный, добротно выкованный металл постепенно раскаляется до тусклого, а затем до яркого, слепящего вишнево-красного цвета. Руки предательски тряслись. Я чувствовал на себе тяжелый, полный немого вопроса взгляд Торгильса.
Женщина бредила, что-то бессвязно шептала сквозь стиснутые зубы. Я приложил тыльную сторону ладони к ее лбу. Будто прикоснулся к раскаленной сковородке, на которой жарили пирожки со смертью.
– Прости… – прошептал я и повел очищенным в огне лезвием по багровой, напряженной коже нарыва.
Раздался тихий, влажный, неприличный хлюпающий звук, от которого зашевелились волосы на затылке. Из разреза, под давлением, хлестнул густой, зеленовато-желтый, невероятно вонючий гной, смешанный с сукровицей. Вонь ударила в нос, едкая и невыносимая, заставляющая сжиматься желудок и подкатывать тошноту к горлу.
Женщина дико взвыла, по-звериному, и дернулась всем телом в судороге. И в этот момент, вместе с последними сгустками гноя, из глубины раны хлестнула алая, пульсирующая, живая струйка. Я задел небольшой, но упрямый сосуд.
– Ты что сделал⁈ Ты ее убьёшь! – заорал Торгильс, швырнув на пол деревянную кружку с водой. Его лицо, мгновение назад покорное и полное надежды, исказилось животным, первобытным ужасом и яростью. Он рванулся к тяжелому, испытанному в боях топору, висевшему на столбе – единственному символу порядка и защиты в этом царстве хаоса и смерти.
Я, весь в брызгах крови и гноя, пытался зажать резанную рану комком относительно чистой тряпки, но алая, липкая жижа мгновенно пропитывала грубую ветошь, проступая сквозь нее мокрым, алым пятном.
Паника, холодная и липкая, как смола, подползла к горлу, сдавила виски. Первая же попытка помочь, первое решение – и оно обернулось катастрофой. Я не спаситель, я палач. Дилетант, возомнивший себя богом.
– Молчи! – просипел я, не отрывая взгляда от сочащейся раны, вжимая в нее тряпку что есть сил. – Кипяток неси! Ищи золу из очага, самую мелкую, просеянную! Или толченый березовый уголь! Всё, что впитывает! Всё, что может остановить кровь! Живо, если тебе ее жизнь дорога!
Торгильс замер в нерешительности: его взгляд метался от моих окровавленных рук к бледному лицу жены, снова впавшей в глубокое забытье. Из-под моих пальцев упрямо и ритмично сочилась алая нить ее жизни. Я давил на рану что есть сил, но чувствовал, как та самая жизнь утекает от нее, капля за каплей, впитываясь в грязный, утоптанный пол хижины. Отчаяние начало подмораживать разум, парализуя волю.
Но в памяти, словно спасительная вспышка света, возник образ. Экспонат в краеведческом музее, куда я зашел от скуки во время командировки в какой-то умирающий городок. Древнеримский хирургический инструмент – похожий на паяльник, с бронзовым наконечником.
Прижигание… Каутеризация…
Останавливает кровь и обеззараживает рану ужасным, варварским, но единственно возможным в таких условиях методом…
Взгляд упал на массивный железный прут, валявшийся в углу очага и служивший кочергой. Ее рабочий конец был раскален докрасна от долгого лежания в углях.
«Прости… Прости, ради всего святого…» – промчалось в голове последнее, отчаянное оправдание. Я рванулся к огню.
Я схватил прут за холодный шероховатый конец. Волна жара от раскаленного докрасна металла опалила лицо, высушила слезы, навернувшиеся на глаза от боли, бессилия и ярости. Торгильс ахнул, отшатнулся, поднял руки, как бы защищаясь от надвигающегося кошмара, от самого вида этого жуткого орудия. Я не давал себе думать. Не давал чувствовать. Только действовать. На автомате… Я просто человек, решающий сложную задачу любыми доступными средствами. Просто человек…
Приложил раскаленное железо к кровоточащему месту.
Уши оцарапало короткое и злое шипение. Воздух мгновенно наполнился сладковатым, тошнотворным, непередаваемо-отвратительным запахом паленого мяса.