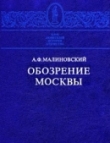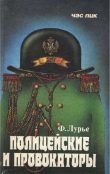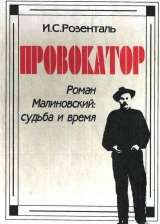
Текст книги "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время"
Автор книги: Исаак Розенталь
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
Не в том ли разгадка нагромождения несообразностей, что их источник – снова сам Малиновский, а приписка Виссарионова – не что иное, как сделанная наспех запись очередной порции «автобиографических» сведений, полученных во время второй беседы с ним в октябре 1912 г. (тогда же он сообщил Виссарионову о разговоре с Лениным на Пражской конференции)? Не решил ли он, что в связи с предстоявшим повышением – переходом в непосредственное распоряжение департамента полиции – полезно преувеличить перед новым начальством свои «заслуги», удлинив агентурный стаж?
В том, что такое предположение небеспочвенно, убеждает и одно место в показаниях директора департамента полиции Белецкого, который вспомнил признание Малиновского, касавшееся еще более раннего момента его биографии: доказывая уже в Петербурге Белецкому в одной из бесед свою изначальную преданность правительству, Малиновский рассказал, как во время прохождения воинской службы в Измайловском полку он по собственной инициативе дал знать Петербургскому охранному отделению об антиправительственном брожении среди солдат полка, причем сделал это безвозмездно[142]142
Там же. С. 120.
[Закрыть]. Тем самым начало «работы» отодвигалось еще дальше. Справки Белецкий наводить не стал, к тому же «штучная» информация не всегда фиксировалась, да и вообще он не интересовался прошлым Малиновского, чтобы не задеть его самолюбия, – таково было одно из правил общения с секретными сотрудниками. Поэтому вполне возможно, что, затевая этот разговор, Малиновский просто набивал себе цену. Видимо, он не знал о том пункте инструкции департамента полиции, который не требовал от агента изменить свои убеждения «коренным образом». Следователи, которые допрашивали Белецкого, не посчитали эту информацию серьезной.
Не имея возможности допросить самого Малиновского, Чрезвычайная следственная комиссия ограничилась неопределенным выводом: «Время его первого сближения с розыскными органами в точности установить не удалось…» Этот вывод буквально повторялся в обвинительном заключении 1918 г., но авторы его – большевики склонны были все же видеть в записи Виссарионова «значительную дозу достоверности». Однако никаких новых данных они не привели, а старые не проверили. Малиновский по этому поводу не допрашивался. Сам он лишь заявил, что во время военной службы ничего не знал о существовании охранного отделения[143]143
Там же. С. 61, 155.
[Закрыть]. Перечень пунктов обвинения в обвинительном заключении открывался 1910 годом.
Бесспорно одно: ловцы душ из московской охранки верно почувствовали внутреннюю готовность Малиновского к предательству, поняли, говоря языком секретной полицейской инструкции, что он «подает надежду». Но эта готовность созрела в нем, вероятно, не раньше переезда в Москву. Только в Москве он сделал вывод: в рамках рабочего движения возможности продвижения вверх для него исчерпаны.
Первое донесение Малиновского – «Портного» датировано 5 июля 1910 г., а всего за два с половиной года службы в Московском охранном отделении была составлена на основании его бесед с руководителями охранки 81 агентурная записка – 25 в 1910 г., 33 – в 1911 г. и 23 – в 1912 г., причем они становились все более и более обстоятельными. Поскольку «Портной» проявил «большие способности», росла и его «ценность», что вполне осязаемо выразилось для него в повышении жалования с первоначальных 50 руб. до 100[144]144
Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 год бывшего Московского охранного отделения. 3-е изд. М„, 1990. С. 26; Дело провокатора Малиновского. С. 63, 157.
[Закрыть].
Не отразилась на устойчивости его положения и смена в июле 1912 г. П.П.Заварзина новым начальником охранки полковником А.П.Мартыновым, ранее возглавлявшим Саратовское районное охранное отделение. Полковник считался тонким ценителем искусства – искусства организации провокационной деятельности в том числе. Все, что касается «Портного», заявил он подчиненным, превосходно ему известно из переписки охранного отделения с департаментом полиции. Малиновский утверждал на суде, что «просто боялся» Мартынова. Но Мартынов не предъявлял ему никаких претензий, также считая, что новый секретный сотрудник справляется с «двойственной ролью». Несомненно, за это время была по достоинству оценена и способность «Портного» приспосабливаться к обстоятельствам, и актерский талант, и прекрасная память[145]145
Осоргин М.А. Охранное отделение и его секреты. М., 1917. С. 11; Дело провокатора Малиновского. С. 124, 142.
[Закрыть].
Все это заставляет усомниться в том, что было заявлено Малиновским на суде: в начале службы он-де почти ничего не сообщал или сообщал ложные сведения – «не потому, что меня совесть мучила», а потому, что «тогда знал очень мало», а также, чтобы отомстить «за то, что я сам переживал», – «мне люди были жалки как личности». Вопрос о душевном его состоянии оставим пока в стороне. Объем сообщаемых им сведений был на самом деле не так уж мал. Но из этого не следует что можно ручаться за абсолютную достоверность и точность всех без исключения его донесений: большевики, знакомившиеся уже в советское время с тем, как отражалась их деятельность Малиновским, считали, что он был информатором «с тенденцией, во-первых, и с фантазией, во-вторых»[146]146
Максаков Вл. Тернии «Нашего пути» // Из эпохи «Звезды» и «Правды». М.; Пг., 1923. Вып. 3. С. 131; Дело провокатора Малиновского. С. 209, 211.
[Закрыть].
Охранка не оставляла его своим вниманием и как видного социал-демократа, активного участника легального движения – преимущественно кооперативного и культурно-просветительного. 13 ноября 1910 г. он был задержан на неразрешенном собрании в помещении союза деревообделочников, но через три дня освобожден как обычно, вместе с другими арестованными. 30 декабря по требованию Петербургского охранного отделения его обыскали на квартире в Сокольниках – однако не сразу; получив из Петербурга предписание об аресте, В.Г.Иванов 17 декабря ответил: «Войдет в общую ликвидацию, до каковой обыск его безусловно невозможен». По собственной инициативе московская охранка провела еще два обыска – 14 апреля и 16 ноября 1911 г., также без последствий[147]147
ГАРФ. Ф. 1467. On. 1. Д. 38. Л. 301 об.; Большевики… С. 294.
[Закрыть].
В первый период предательства Малиновский использовал в качестве главного канала информации свои связи с меньшевиком Василием IIIером. Активный работник профсоюзного движения В.В.Шер еще до 1905 г. принимал участие в создании первого профсоюза в Москве – нелегального «Союза московских типографских рабочих для борьбы за улучшение труда». В 1905—1907 гг. он работал в Москве и Петербурге, где познакомился с Малиновским; одно время редактировал журнал петербургского союза металлистов, в 1907 г. организовал в Финляндии Всероссийскую конференцию профсоюзов печатников. На Штутгартском конгрессе Второго Интернационала Шер входил в небольшую группу представителей российских профсоюзов. Вернувшись в 1908 г. в Москву, Шер подготовил в семинарии Московского университета и сумел издать солидный труд но истории профессионального движения московских печатников – первое в России научное исследование такого рода[148]148
В 1917 г. В.В.Шер был комиссаром Временного правительства в Москве. В 1931 г. осужден по фальсифицированному делу «Союзного бюро меньшевиков».
[Закрыть].
Появление в Москве административно высланных петербургских рабочих вселило в Шера надежды на активизацию рабочего движения, прежде всего через легальную его сферу, и, конечно, не случайно с легкой руки именно Шера Малиновский прослыл «русским Бебелем». Принадлежавший Шеру дом в 1-м Зачатьевском переулке был местом встреч и меньшевиков и большевиков. Здесь проживал большевик Г.К.Голенко, которого навещал наезжавший в Москву Фрумкин. В январе 1911 г. Малиновский сообщил охранке о посещении квартиры Голенко депутатом III Государственной думы рабочим-большевиком Н.Г.Полетаевым, рассказавшим о предстоящем свидании с В.И.Лениным и о намерении побывать по поручению Ленина в некоторых южных городах с целью восстановления партийных связей и организаций[149]149
ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1911. Д. 5 Ч. 46. Лит. Б. Л. 13 и об.; РЦХИДНИ. Ф.124. On. 1. Д. 2035. Л. 5 об.
[Закрыть].
И Малиновский жил одно время в этом гостеприимном доме. Когда Ногин предложил ему войти в ЦК, он прежде всего посоветовался с Шером, которого «глубоко уважал». Шер не отговаривал, ведь речь шла о единой РСДРП.
Летом 1910 г. впервые возникла мысль выдвинуть кандидатуру Малиновского на предстоявших в 1912 г. выборах в Государственную думу. Видимо, ободренный этой перспективой Малиновский стал убеждать большевиков взять в свои руки проведение петиционной кампании. Между гем идея сбора подписей под петицией в Думу о «свободе коалиций» была сугубо ликвидаторской, большого сочувствия среди рабочих она пе встретила. Насторожило и неумеренное любопытство Малиновского по поводу участия социал-демократов в дополнительных выборах в Думу, проходивших в Москве в конце 1910 г.
Правда, теперь Малиновского повсюду сопровождал снова появившийся на московском социал-демократическом небосклоне «Кацап» – Андрей Поляков («интеллигентного вида рабочий с длинной бородой, фигурой апостола», – так описывал его Фрумкин). Поляков был членом правления Общества разумных развлечений, Малиновский также бывал здесь. Вместе они посетили Тулу, где с августа жил под видом частного преподавателя английского языка Атясова бежавший из ссылки Виктор Ногин[150]150
Дело провокатора Малиновского. С. 39–40, 139.
[Закрыть]. Относительно Полякова тоже имелись подозрения: отсидев после ареста в октябре 1909 г. семь месяцев в Таганской тюрьме, он получил, несмотря на серьезные улики, удивительно мягкий приговор – год крепости с зачетом предварительного заключения[151]151
Корнилъев Я.П. Пять предателей (Из тюремных впечатлений) // Каторга и ссылка. 1927. № 8 (37). С. 121–122.
[Закрыть]. Но в таком случае было непонятно, кто кого обхаживает – Поляков Малиновского или наоборот.
В конце концов Ногин и Фрумкин решили все же отстранить Малиновского от партийной работы под предлогом его «проваленности». Заодно решили отстранить и Полякова, его подозревали больше. Но 28 февраля 1911 г. Фрумкин был арестован, а 26 марта в Туле арестовали Ногина и всех, кто был с ним связан, снова разладив возобновившуюся работу по созданию русской части ЦК РСДРП. Отметим, что Малиновскому Ногин опять предлагал войти в ЦК, но тот, как и в первый раз, отказался. Провал в Туле был делом рук и Малиновского и Полякова. Но действовали они независимо друг от друга.
Фрумкина отправили в военно-окружной суд в Петербург (за ним было старое дело об участии во время революции в военной организации Петербургского комитета РСДРП), и там он попросил большевика Н.Н. Крести некого, пришедшего в качестве. присяжного поверенного на свидание, передать, кому следует, что Малиновский не заслуживает доверия. Было ли поручение выполнено? Сведений на этот счет нет. Стоит только учесть, что Крестинский знал Малиновского в лучшую его пору, работая юрисконсультом петербургского союза металлистов.
Ногин, только оказавшись летом 1912 г. в верхоянской ссылке, сумел узнать через местных полицейских, что его арестовали вовсе не за участие в «Тульской СДРП», как ему объясняли в Москве, а за формирование Русской коллегии ЦК. Как рассказывал впоследствии председатель парижской комиссии ЦК РСДРП по делам о провокации меньшевик Б.И.Горев, он получил из Сибири – то ли от Ногина, то ли от Дубровинского – письмо, в котором сообщалось, что московской охранке был известен «разговор в самом интимном кругу нескольких видных членов партии, среди которых был Малиновский», но Горев счел подозрение «слишком неопределенным»[152]152
Дело провокатора Малиновского. С. 41, 94; Германов Л. Указ. соч. 233–237.
[Закрыть]. Сам он был в 1913 г. арестован и отправлен в Туруханский край. Тогда же Дубровинский в состоянии тяжелой депрессии покончил с собой. Ногин, много раз совершавший побеги из ссылки, на этот раз отбыл ее до конца и вернулся в европейскую Россию (в Саратов) только перед войной, в июле 1914 г. Вопрос о Малиновском он больше не поднимал.
В конце 1910 г. впервые пересеклись пути Малиновского и 22-летнего студента Московского университета большевика Николая Бухарина, который работал преимущественно в сфере легальной и полулегальной, в частности, стремился вместе с другими студентами – социал-демократами направить в революционное русло студенческое движение. Эту сторону его партийной работы Малиновский «освещать» не имел возможности. Зато в поле его зрения оказались легальные культурно-просветительные общества с участием рабочих, где также часто бывал Бухарин.
Одно из них возникло под прикрытием Дорогомиловского общества трезвости. При обществе действовала вечерняя школа для рабочих, запятых на фабриках Хамовнического района; в актив ее входили работавший секретарем союза текстильщиков В.Ф. Плетнев (после Октябрьской революции – председатель Пролеткульта), рабочий – серебренник В.С.Бронников (по сведениям охранки, «фанатически преданный делу РСДРП и верящий в возможность осуществления в ближайшем будущем конечных идеалов ее программы»[153]153
Степанов В.Н. Адресовано в Москву. М., 1987. С. 217.
[Закрыть]), столяр Д.И.Русин и Малиновский. Здесь он читал лекции о страхований, а иногда и революционные стихи, устраивал вечеринки. Учительница школы М.П.Розанова была секретарем нелегальной кассы помощи политзаключенным, она же организовала из учащихся социал-демократический кружок, объединявший до 80 человек, Бухарин занимался с ними политической экономией[154]154
Музей революции. Mb 48624.
[Закрыть]. Приглашались и другие лекторы, например, Шер, но Малиновский, сообщая в одном из донесений в охранку о предстоящих лекциях Шера, не преминул подчеркнуть, что, «хотя при изложении и будет известного рода тенденциозность освещения фактов», все же «не будет того задора и приподнятой атмосферы, какими сопровождается чтение докладов «Николая» (Бухарина)»[155]155
Горелов И.Е. Николай Бухарин. М., 1988. С. 26–27.
[Закрыть].
На следствии в 1918 г. Малиновский заявил, что Бухарина он «берег как мог» и, когда о нем спрашивали в охранке, «лез из кожи, чтобы оградить его…»[156]156
Дело провокатора Малиновского. С. 141.
[Закрыть] Впрочем, если верить показаниям Малиновского, он «берег» очень многих…
В изображении западных, а с недавних пор и отечественных историков молодой Бухарин на протяжении многих лет был едва ли не самым проницательным и упорным обвинителем Малиновского. Как полагает Стивен Коэн, отказ Ленина прислушаться к доводам Бухарина явился источником постоянных трений между ними, начиная. с первого приезда Бухарина в Краков осенью 1912 г. и вплоть до 1917 г.; это обстоятельство омрачало их отношения и в период первой мировой войны, способствуя усилению возникших в это время идейных разногласий[157]157
Коэн С. Бухарин: политическая биография. 1888–1938. М., 1988. С. 39, 44–45, 48, 51, 65. См. также: Фишер Л. Жизнь Ленина. Лондон, 1970. С. 125; Кун М. Бухарин, его друзья и враги. М., 1992. С. 25, 39–40 и др.
[Закрыть]. Советский биограф Бухарина И.Е.Горелов также пишет 6 «довольно натянутых отношениях» между Лениным и неколебимо убежденным в «провокаторской сущности» Малиновского Бухариным[158]158
Горелов И.Е. Указ. соч. С. 36–39.
[Закрыть].
По-видимому, эта точка зрения восходит к соответствующим страницам книги Давида Шуба о Ленине. Не ссылаясь на какие-либо источники, Шуб утверждал, что Бухарин с самого начала не доверял Малиновскому, несмотря на все попытки провокатора завоевать его доверие. Еще тогда, в Москве Бухарин заметил, что всякий раз, когда он организовывал встречи с товарищами, его поджидали агенты охранки; между тем места этих встреч были известны Малиновскому. Арест в декабре 1910 г., положивший конец революционной работе Бухарина в России, окончательно убедил его в том, что предал его Малиновский. Описывает Шуб и беседу в Кракове на эту тему с Лениным и особенно картинно – организованную там же очную ставку: Малиновский, увидев Бухарина, «был объят ужасом», но, когда в комнате появился Ленин, «пришел в себя, подошел к Бухарину с распростертыми объятиями и сказал: «Николай! Как ты сюда попал?», чем и развеял у Ленина всякие сомнения»[159]159
Shub D. Lenin. New York, 1949. P. 114–115, 119–120.
[Закрыть].
В изложении самого Бухарина, в его письмах и показаниях нее выглядит совершенно иначе, да и другие достоверные свидетельства расходятся с мнением об исключительной его проницательности. Начать с того, что в Москве общение Бухарина с Малиновским было непродолжительным: имя Бухарина появилось в донесениях провокатора в ноябре 1910 г.[160]160
ГАРФ. Ф. 63. 1910. Д. 1. Л. 305.
[Закрыть], а в ночь с 19 на 20 декабря Бухарин был арестован на собрании актива московской большевистской организации. За это время они встречались несколько раз: впервые – на собрании сотрудников журнала союза пастильщиков «Голос жизни», затем в Дорогомиловской школе и еще, по словам Бухарина, «раза 2–3».
При первой же встрече (в присутствии Шера, который был хорошим знакомым и Бухарина еще с гимназических времен) между ними произошло столкновение на идейной почве: Бухарин выступал как большевик, Малиновский – как – «ликвидатор»[161]161
Дело провокатора Малиновского. С. 85; Материалы следственной комиссии… // Вопросы истории. 1993. Mb 10. С. 92, 95, 104. Малиновский ошибочно назвал журнал «Голос жизни» «Текстильным рабочим» (название профсоюзного журнала, выходившего в Петербурге в 1914 г.).
[Закрыть]. Правда, из Петербурга Малиновский приехал нефракционным социал-демократом, но 25 мая 1910 г. агент охранки Ф.А. Кукушкин («Нина») называл его «убежденным сторонником ликвидаторского направления», а в сентябре точно так же писал о себе в одном из донесений он сам[162]162
ГАРФ. Ф. 1467. On. 1. Д. 38. Л. 302; Большевики. Документы… С. X.
[Закрыть]. Все знали, что преимущественно ликвидаторским был и круг его общения. Бухарин, таким образом, не ошибся, определяя шесть с лишним лет спустя в показаниях Чрезвычайной следственной комиссии тогдашнюю политическую физиономию своего оппонента. Не напоминал Малиновский большевика и своей неконспиративностью: слишком о многом разговаривал по телефону и т. д. При всем том подозрений он у Бухарина не вызывал – не только до декабрьского ареста, но и довольно долго в период заключения в Сущевском полицейском доме, где, казалось бы, было время поразмыслить над причинами провалов (всего Бухарин провел там полгода).
Лишь во второй половине тюремного заключения Бухарина в беседах заключенных всплыло имя Малиновского. В.Ф.Плетнев, А.Г.Козлов, М.П.Быков и В.С.Бронников, рабочие-меньшевики, знавшие Малиновского дольше, чем Бухарин, рассказали ему о своих подозрениях. Арестовали их 4 апреля 1911 г., в ходе осуществления целой серии превентивных арестов рабочих, избранных профсоюзами на 2-й Всероссийский съезд фабрично-заводских врачей; полиция хотела помешать вторичному использованию трибуны съезда в революционных целях и установлению контактов между социал-демократами, приехавшими на съезд из разных городов. Собственно, делегатом был только Плетнев, остальных рабочих задержали вместе с ним для отвода глаз, якобы за нарушение общественной тишины и порядка. Уже потом дело раздули до неимоверной величины: арестованных обвинили в намерении «сорганизовать особый, исключительно законспирированный руководящий аппарат из делегатов всех вообще партийных как легальных, так равно и подпольных организаций».
Во время обыска на квартире Плетнева полиция захватила адресованное ему письмо, в котором говорилось, что Малиновскому необходимо участвовать в съезде («он все-таки знает кое-что в этой отрасли» – намек на 1-й съезд фабрично-заводских врачей), а потому следует помочь ему получить полномочия от какого-либо московского профсоюза, например, союза текстильщиков (от которого, однако, был делегирован сам Плетнев). Через несколько дней у другого арестованного делегата – И.А.Пильщикова обнаружили еще одно письмо с упоминанием Малиновского. Несмотря на это, Малиновский отделался обыском[163]163
ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1911. Д. 248. Л. 5–6, 17–19, 41; Д. 5. Ч 46. Лит. Б. Л. 62; Материалы следственной комиссии… // Вопросы истории. 1993. Mb 10. С. 91.
[Закрыть]. Плетнев и его товарищи вспоминали и более ранние случаи, наводившие на подозрения. Бухарину запомнился такой факт: при провале совещания представителей профсоюзов 13 ноября 1910 г. (готовилась демонстрация в связи со смертью Льва Толстого) жена Малиновского «преждевременно рано» принесла ему все необходимое для отсидки в тюрьме – так, будто знала заранее о предстоящем аресте. Уже в тюрьме выяснилось, что охранке известно в мельчайших подробностях, как та же группа рабочих, включая Малиновского, встречала Новый год.
Все это рабочие рассказали одному Бухарину с тем, чтобы по выходе на волю он передал их подозрения кому-либо из членов МК РСДРП[164]164
Дело провокатора Малиновского. С. 82–84, 85, 128–129; Из эпистолярного наследия Н И.Бухарина. С. 206–207; Материалы следственной комиссии… // Вопросы истории. 1993. Mb 10. С. 91, 92–93, 94.
[Закрыть]. С 21 февраля 1911 г. в той же тюремной камере находился товарищ Бухарина по работе в легальных организациях и среди студенчества Валериан Оболенский (Н.Осинский); уже в советское время он писал, что именно с 1911 г. вместе с Бухариным пришел к твердому убеждению в провокаторстве Малиновского[165]165
Максаков Вл. Указ. соч. С. 136–137; Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989. С. 571.
[Закрыть]. Вполне возможно, что Бухарин решил поделиться с Осинским сведениями, полученными от рабочих, но ни характер этих сведений, ни последующее поведение Бухарина не дают оснований говорить – по крайней мере, применительно к нему – о «твердом убеждении». Достаточно сказать, что самое важное из сведений «четверки» – историю с компрометировавшим Малиновского письмом Бухарин просто забыл, в чем сам признавался Ленину в конце 1913 г., после того, как ему напомнил об этом Шер.
Впоследствии Бухарин называл только два источника сомнений, шедших через него: ту же группу рабочих и Шера, причем данные Шера стали ему известны много позже описываемых событий, в эмиграции. В упомянутой выше беседе, состоявшейся в Вене в декабре 1913 г., тот рассказал, но «сугубо осторожно… о «странности» ряда арестов в их группе, среди которой был и Малиновский»[166]166
Дело провокатора Малиновского. С. 86; Из эпистолярного наследия Н.И.Бухарина. С. 206–207.
[Закрыть].
Шер имел ввиду события, происходившие в то время, когда Бухарин с Осинским все еще продолжали «жить душа в душу» (слова Осинского) в камере Сущевского полицейского дома, ожидая решения своей участи. После ареста большинства рабочих-делегатов 2-го съезда фабрично-заводских врачей (остальные отказались участвовать в его работе в знак протеста) группа московских меньшевиков приступила к подготовке всероссийского съезда социал-демократов – деятелей профессионального движения. В группу входили знавшие друг друга В.В.Шер, А.С.Орлов (И.Круглов), В.Ежов (С.О.Цедербаум), П.Н.Колокольников (К.Дмитриев), Б.С.Кибрик (С.Яковлев), Л.М.Хинчук, В.Г.Чиркин, Л.С.Виленский (3.Ленский) и Р.В.Малиновский. Когда от переписки и совещаний, на которых разработали программу съезда и проекты резолюций, инициаторы решили перейти к объездам городов, поручив это Кибрику, Чиркину и Шеру, все трое были тут же арестованы. Момент для ареста выбрали, конечно, хозяева Малиновского. При этом, кроме Малиновского, были предусмотрительно оставлены на свободе еще несколько членов инициативной группы[167]167
Шер В. Страничка из воспоминаний // Материалы по истории профессионального движения в России. М., 1925. Сб. 4. С. 75.
[Закрыть].
Если охранка и допустила оплошность, так только в том, что рабочие-москвичи, заподозрившие Малиновского, и арестованные вслед за ними инициаторы несостоявшегося меньшевистского съезда оказались почти одновременно в «ближней» ссылке – в Вологодской губернии, получив, благодаря этому, возможность обменяться впечатлениями о Малиновском в связи с тем и другим арестами. В.Г.Чиркин свои сомнения, аналогичные догадкам Шера («странные» аресты!), высказал Бронникову, а весной 1912 г. еще одному ссыльному, знакомому по Петербургу рабочему-большевику Сергею Малышеву. Малышев, однако, возмутился, усмотрев в его словах проявление личной неприязни; еще в петербургском союзе металлистов, вспомнил он, у Чиркина с Малиновским были «нелады». Когда Малиновский стал депутатом Думы, Малышев посчитал необходимым письменно сообщить ему о «нетоварищеском», «непорядочном» поведении Чиркина, а заодно о том, что сказанную им «большую гадость» повторял кое-кто из «единоверцев», он же, Малышев, с ними «ругался», а с Чиркиным «порвал всякую связь». Сообщил Малышев и о том, что в начале избирательной кампании по выборам в IV Думу снова были попытки со стороны некоторых ссыльных выразить Малиновскому недоверие, но успеха они не имели[168]168
РЦХИДНИ. Ф. 448. On. 1. Д. 69.
[Закрыть].
Весьма показательно: несмотря ни на что, переписывались с Малиновским и подозревавшие его рабочие-москвичи. Плетнев, узнав о выдвижении Малиновского в Думу, решил, что протестовать не следует, ввиду отсутствия конкретных фактов и документальных доказательств. По той же самой причине Шер отговорил одного из товарищей-ссыльных – А. И. Виноградова – от того, чтобы поднимать дело официально, а после избрания Малиновского депутатом сам тепло поздравил его[169]169
Дело провокатора Малиновского. С. 84, 129; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 25. С. 161; Из эпистолярного наследия Н.И.Бухарина. С. 207.
[Закрыть].
Возможно, еще одним упрямым товарищем был все тот же Василий Чиркин. Как показал в 1917 г. Козлов, по возвращении из ссылки в Петербург в октябре 1913 г. Чиркин беседовал о Малиновском с депутатом-меньшевиком Н.С.Чхеидзе. В свою очередь, Чхеидзе рассказал, что получил несколько писем насчет Малиновского на Москвы, но опять-таки без «фактических данных»[170]170
Дело провокатора Малиновского. С. 129.
[Закрыть]. Если этот разговор действительно имел место, то Чхеидзе или не принял слона Чиркина всерьез или посещение Чиркина вообще выпало у него из памяти: отвечая в 1917 г. следователю Чрезвычайной следственной комиссии на вопрос о знакомстве с Малиновским, он определенно утверждал, что ничего о жизни и деятельности Малиновского н период, предшествовавший избранию его депутатом, не знает; в III Государственной думе видел его лишь однажды; не вспомнил он ни о Чиркине, ни о письмах из Москвы[171]171
Падение царского режима. Л., 1925. Т. 3. С. 484–485, 500.
[Закрыть]. Правда, по сведениям Л.О. Дан, Чхеидзе и Скобелев получали какие-то анонимные письма, но решили, что это полицейская интрига[172]172
Из архива Л.О.Дан. Амстердам, 1987. С. 103.
[Закрыть].
И еще один факт, которым нельзя пренебречь, выясняя, имел ли место демарш Чиркина: ликвидаторская газета указывала в 1914 г. как на источник слухов о Малиновском сведения, полученные от «отдельных правдистов», но не от меньшевиков[173]173
Наша рабочая газета. СПб., 1914. 25, 30 мая.
[Закрыть].
А Бухарин? 21 июня 1911 г. его отправили в ссылку в Онегу Архангельской губернии, откуда он уже 30 августа совершил побег. Заграничный паспорт на имя купца Орлова раздобыл ему В.М.Шулитиков; на даче, которую тот снимал с семьей в Кунцеве, Бухарин скрывался после побега [174]174
Шулятиков В. Письма из-за границы // Учительская газета. 1988. 4 окт.
[Закрыть]. Видимо, Шулятикову – члену МК РСДРП, входившему, между прочим, в комиссию по борьбе с провокаторами, – Бухарин и сообщил то, что поведали ему четверо рабочих. Вскоре после этого Шулятиков умер, и что он сумел сделать, неизвестно. Бухарин в этот момент был уже за границей. Нет никаких сведений о его беседе с Лениным на эту тему осенью 1912 г., когда они впервые встретились, ни тем более об очной ставке с Малиновским. Забывчивость Бухарина, да и другие данные позволяют отнести первую его попытку проинформировать Ленина о старых слухах только к осени 1913 г. А во время избирательной кампании 1912 г. он ограничился тем, что выразил удивление, почему выдвинули кандидатом в депутаты Думы человека, известного своей принципиальной неустойчивостью[175]175
Дело провокатора Малиновского. С. 95.
[Закрыть].
Давая в 1914 г. показания партийной следственной комиссии, Бухарин указал на еще одно обстоятельство, которое заставляло осторожно относиться к иным подозрениям: причиной недоброжелательства могла быть любвеобильная натура Малиновского. Шер знал, например, о романтической истории между женой Чиркина и Малиновским; предметом соперничества Виноградова и Малиновского в Москве была учительница Дорогомиловской школы М. И. Лазарева[176]176
Материалы следственной комиссии… // Вопросы истории. 1993. № 9. С. 116; № 10. С. 93.
[Закрыть].
Попробуем подвести итог. Итак, никто из москвичей – потенциальных свидетелей против Малиновского не предпринял в 1910–1912 гг. сколько-нибудь серьезных шагов в связи с появившимися у них сомнениями. И Бухарину и его информаторам имевшиеся тогда данные представлялись косвенными и недостаточными, таковыми они, собственно говоря, и являлись. Ни меньшевики, ни Бухарин вовсе не были убеждены в справедливости подозрений.
Пассивность их может теперь показаться удивительной, но это связано в значительной мере с тем, что, максимально вычленив факты, касающиеся Малиновского, мы отвлеклись от других. Малиновский был не первым и не единственным агентом московской охранки. Известно, что в Москве чуть ли не каждому арестованному по политическому делу предлагалось пополнить их число, – настолько, писал большевик И. И.Скворцов-Степанов, «охранка обнаглела». В 1919 г. он торжествующе вспоминал о «непроходимой глупости» охранников, предполагавших, «будто человек, связанный с революцией полтора десятка лет и занимавший ответственные посты, способен из-за мелких выгод или удобств уничтожить или оплевать все свое прошлое и больше всего – самого себя»[177]177
Материалы следственной комиссии… // Вопросы истории. 1993. № 9. С. 116; № 10. С. 93.
[Закрыть]. Скворцову-Степанову посчастливилось не дожить до того времени, когда тысячи большевиков, раздавленных сталинской охранкой, оплевывали себя и свое прошлое. Поив царские времена не-все находили в себе силы устоять перед куда более мягким нажимом.
Многочисленная рать провокаторов действовала настолько успешно, что окончательная ликвидация РСДРП представлялась руководству охранки делом вполне реальным и близким[178]178
На заре рабочего движения в Москве. М., 1919. С. 112–113.
[Закрыть]. С июня 1907 г. по ноябрь 1910 г. Московская организация РСДРП подвергалась групповым арестам 11 раз. Только в течение 1910 г. в Москве было арестовано свыше 250 членов партии, члены ряда районных комитетов, три состава Исполнительной комиссии МК и Московского областного бюро[179]179
Очерки истории Московской организации КПСС. М., 1979. Кн. 1. С. 210, 259.
[Закрыть].
Разгул провокации имел разнообразные последствия. Немалые усилия, предпринимавшиеся, чтобы усовершенствовать конспирацию, обнаружить и обезвредить полицейскую агентуру, то и дело прерывались новыми арестами и неизбежным, вследствие этого, нарушением преемственности партийной работы. В.М.Шулятиков сообщал в одном из писем: «Почти вся работа уходит на поиски провокаторов. Одно время МК не мог даже функционировать.
Два секретаря МК были подозрительными элементами. Такая форма борьбы поглощала много сил»[180]180
Шулятиков В. Указ. соч.
[Закрыть].
Помимо прямого урона и отвлечения сил, распространение провокации не могло не отразиться на взаимоотношениях в партийной среде. Этот момент особо оттеняла в одном из писем Инесса Арманд: «Провокаторство, принявшее такие большие размеры, – ужасное явление, при котором должно быть очень тяжело работать. Мне писали из Москвы, что подозрительность ко всем и каждому развита до мании, – каково вести партийную работу с людьми, которым доверяешь лишь вполовину, которых готов постоянно заподозрить в провокаторстве!»[181]181
Голоса истории. [Вып. 2]. М., 1992. С. 31.
[Закрыть]. Известны случаи психических заболеваний на этой почве; в конце 1908 г. признаки мании преследования обнаружились у московского большевика С.Я.Цейтлина[182]182
На заре рабочего движения в Москве. С. ИЗ.
[Закрыть].
Так обстояло дело еще до появления в Москве Малиновского, еще до того, как охранка завербовала Полякова, Маракушева, Романова, Поскребухина, Лобова – самых известных московских провокаторов – социал-демократов. Не удивительно, что в 1910–1911 гг. картина не изменилась к лучшему; Бухарин рисовал ее теми же красками, что Шулятиков и Инесса Арманд: «… В то время в Москве была эпидемия шпиономании, которая часто превращала всю нелегальную партийную работу в перманентное следствие. Слухов ходило n+1… Мне лично известен был ряд случаев, чрезвычайно мучительно переживавшихся, когда бывали подозреваемы лица, абсолютно чистые…»[183]183
Дело провокатора Малиновского. С. 85–86.
[Закрыть]
И уже в советское время, на вечере, посвященном памяти И.И.Скворцова-Степанова, когда Бухарину казалось, что все это в далеком прошлом, он повторил: «…Партийная организация разъедалась коррозией провокации… Сколько я могу назвать имен весьма почтенных, уважаемых и ценимых, которые потом сыграли крупную роль в истории нашей партии, на которых было подозрение, что они на службе в охранном отделении. Гнуснейшее было время. Так было всюду напихано провокаторов, что, я помню, со мной произошел такой случай. Будучи выпущенным из тюрьмы, будучи членом комиссии по выявлению провокации, я получил определенную партийную явку, чтобы передать материал, и сдал его в руки человеку, который оказался именно провокатором»[184]184
Выступление Н.И.Бухарина, посвященное памяти И.И.Скворцова-Степанова // Вопросы истории. 1988. Ms 5. С. 78. Аналогичное положение было в Петербурге. Делегат Пражской конференции П.А.Залуцкий рассказывал, что работе членов Российской организационной комиссии по созыву конференции мешало 4недоверие, которое встречает каждого нового человека. Слишком много питерские рабочие испытывали приемов охранки» (Протоколы VI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП // Вопросы истории КПСС. 1988. Ms 5. С. 33).
[Закрыть]. Москва исключением не являлась, так было везде.
Подозрительность была реакцией на многочисленные провалы и аресты. Ее искусно подогревала охранка: настоящие провокаторы, чтобы отвлечь от себя внимание, стремились бросить тень подозрения на других, слухи раздувались и для того, чтобы вызвать панические настроения и бегство из нелегальных организаций. Ряд фактов свидетельствует о том, что эта тактика давала определенный эффект. Так, в январе 1909 г., после захвата полицией строго законспирированной типографии, где печатался нелегальный орган МК РСДРП «Рабочее знамя», безосновательно обвинили в сотрудничестве с охранкой секретаря МК И.В.Орловского (Никифора). Через несколько лет он снова был «разоблачен» – уже в Сибири. Сообщая об этом в 1913 г. большевик А.В.Калинин писал, что «политическая ссылка кроет в себе массу лиц или имеющих или имевших соприкосновение с охранным отделением»[185]185
Письма политических ссыльных в Восточной Сибири (конец XVIII-начало XX в.). Иркутск, 1978. С. 251.
[Закрыть].