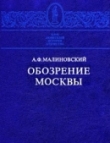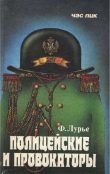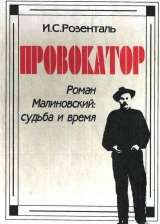
Текст книги "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время"
Автор книги: Исаак Розенталь
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Так или иначе, но показания Розмирович не поколебали тогда сложившегося у членов комиссии мнения о невиновности Малиновского. «Мы допросили немало свидетелей, устроили очные ставки с Малиновским, исписали не одну сотню страниц протоколами этих показаний… Решительно никаких доказательств ни один член комиссии открыть не мог… Общее убеждение всех трех членов комиссии сводились к тому, что Малиновский не провокатор…»[550]550
Там же. С. 52.
[Закрыть] – так характеризовал работу комиссии три года спустя Ленин, забыв уже, что свидетелей было как раз немного. Примерно так же, но все же с указанием на ограниченность имевшегося материала, описывал эту работу В.Краевский, знавший о ней, по-видимому, от Ганецкого: «Комиссия эта самым тщательным образом рассмотрела все, что было тогда доступно по этому делу. Доступно, впрочем, было, к сожалению, очень немного данных. Никаких улик провокации Малиновского не было найдено..[551]551
Краевский В. Указ. соч. С. 6.
[Закрыть].
Все сказанное не означает, что Ленин с самого начала расследования не сомневался в Малиновском; напротив, вначале, как видно из первого его письма к И.Арманд, он испытывал мучительные сомнения, об этом мы знаем также из воспоминаний Бухарина и Крупской[552]552
Правда. 1925. 21 янв.; Воспоминания о В.И.Ленине: В 5-ти т. Т. 1. С. 391–392.
[Закрыть]. Если же сомнения были им довольно быстро отброшены, то не только в результате свидетельских показаний, признанных неубедительными, и комплекса иных причин, о которых говорилось выше, но и на основе анализа самой возможности провокации в сложившихся обстоятельствах.
Разумеется, нельзя было исключать возможность проникновения агента охранки в руководство партии уже потому, что такой прецедент имелся – история Азефа. Не забылось также, как долго члены эсеровского ЦК не верили Бурцеву. Зиновьев вспоминал, как Лепин говорил в начале расследования: «Конечно, такой слепоты, как эсеровские цекисты в отношении Азефа, мы не допустим, давайте исходить из того, что все возможно»[553]553
Зиновьев Г.Е. Указ. соч. С. 198.
[Закрыть].
На деле избежать подобной же слепоты не удалось. Ленин и Зиновьев оказались в 1914 г. ничуть не лучше эсеровских лидеров Чернова и Натансона, привыкших, как писал Бурцев, все слепо подчинять интересам своей партии – «интересы родины, принципы, правду, логику»[554]554
Бурцев Вл. Борьба за свободную Россию: Мои воспоминания (1882–1924 гт.). Берлин, 1924. Т. 1. С. 272–273.
[Закрыть]. Но Азеф тем не менее был разоблачен. Решающим оказалось признание бывшего директора департамента полиции Лопухина, подтвердившего, что Азеф – провокатор. У большевиков таких свидетелей не нашлось, да и сам Бурцев поддержал большевистских «цекистов», а не обвинителей, не обнаружив на этот раз прежней проницательности.
Если продолжить сравнение двух ситуаций, как они рисовались в то время, то, несомненно, что Ленин, видевший их сходство, не мог считать их во всем тождественными, ввиду различий между эсеровской и большевистской тактикой и соответственно – между партийной работой террориста Азефа и депутата Малиновского. Исходя из этих различий, он не допускал, что охранке мог понадобиться в качестве агента депутат Думы: провокаторство внутри думской фракции казалось ему бесполезным с точки зрения интересов охранки. Реконструируя в 1917 г. ход своих мыслей в период партийного расследования, он писал: «Мне лично не раз приходилось рассуждать так: после дела Азефа меня ничем не удивишь. Но я не верю-де в провокаторство здесь не только потому, что не вижу ни доказательств, ни улик, а также потому, что, будь Малиновский провокатор, от этого охранка не выиграла бы так, как выиграла наша партия от «Правды» и всего легального аппарата»[555]555
Дело провокатора Малиновского. С. 52.
[Закрыть].
Ленин не догадывался, что легальный аппарат «просвечивался» не меньше, чем нелегальный; не знал он и насколько велик интерес департамента полиции к информации о Государственной думе. Еще во времена I Думы важное значение придавал ей Столыпин, ее поставлял, между прочим, и Азеф; Белецкий лишь продолжал эту практику. Позднее думская агентура была расширена, на это ассигновали дополнительные средства; наряду с освещением фракционных заседаний и совещаний, тщательно записывались разговоры депутатов в кулуарах и даже разговоры публики, посещавшей думские заседания[556]556
Николаевский Б. История одного предателя. М., 1991. С. 186–187; Падение царского режима. Т. 4. С. 451–452.
[Закрыть]. Малиновский, пусть даже не единственный осведомитель по думским делам, был как депутат безусловно полезнее Азефа.
Что касается «выигрыша» для большевиков, о котором так много говорил Ленин, то объем работы Малиновского в интереса^ партии действительно превышал меру обычной для провокатора маскировки. Он определялся, во-первых, повышенными требованиями большевистского руководства к депутатам Думы, так как они обладали возможностями, превосходившими возможности подпольщиков, во-вторых, появлявшимися время от времени сомнениями в политической честности Малиновского и, наконец, в-третьих, естественным увлечением, с каким Малиновский отдавался партийной работе. Но даже если бы Малиновский захотел, он никак не мог ограничиться ролью преимущественно осведомителя, на чем настаивали – впрочем, не слишком твердо – Белецкий и Виссарионов.
Ленин, рассуждая за руководителей царской системы политического сыска («охранка не выиграла бы…»), переоценил их дальновидность; лишь некоторые из них пришли к выводу о том, что совмещение функций «неприкосновенного» депутата Думы и агента охранки наносит вред интересам правительства. Но этот вывод был сделан ими постфактум, на основе анализа деятельности Малиновского, тогда как Ленин предполагал, что в охранке все было просчитано заранее.
Таково сложное переплетение фактов и обстоятельств, обусловивших прямо или косвенно ошибочные выводы следственной комиссии. Ясно, что элементарной схемой объяснения – большевики не верили в провокаторство, а меньшевики в нем не сомневались – здесь не обойтись. Идеологически тс и другие все же еще до конца не разошлись. Поэтому и большевиков и меньшевиков, верных «рабочепоклонству», завораживала талантливость «русского Бебеля» (в 1914 г. проявившаяся и в том, как искусно он защищался, изображая себя жертвой трагических обстоятельств). Поэтому и меньшевики не всегда выглядели в сложившейся ситуации достойно.
И еще один существенный момент, о котором обычно забывают, говоря о характере расследования. Конечно, это не был с формальной точки зрения «правильный суд», как, впрочем, все разбирательства но делам о провокаторах. Открытый суд отвергали и большевики и меньшевики. Но ни Ленин ни другие члены комиссии не допускали мысли о возможности осуждения без реальных улик, исключали вынесение приговора только по подозрению, наподобие вынесенного когда-то нечаевской организации «Народная расправа» (не говоря уже о судилищах сталинских времен, организаторов которых уже ни в коей мере не смущала проблема доказательств). Нельзя не заметить, что и многие из подозревавших Малиновского не возводили свои подозрения и сомнения в ранг бесспорных доказательств и даже сами подчеркивали, что отсутствие или недостаточность таких доказательств не позволяет делать решающие выводы. Не вызывало ни у кого сомнений и право обвиняемого на защиту.
Но это стремление к доказательности сочеталось в повседневной практике партийной работы с заметным снижением нравственной требовательности по мере все большего обособления большевиков от других фракций и течений в РСДРП. На первых порах и отдельные большевики отмечали такие явления, как снисходительность к нравственным изъянам тех или иных лиц единственно потому, что они были «своими», перехлесты полемики с идейными оппонентами. В уже упоминавшемся письме Осинского Бухарину, рассчитанном на передачу его содержания Ленину, прямо говорилось, что, выдвигая на ответственные посты «образцовую дрянь» вроде Малиновского и Лобова, руководители партии подрывают свой авторитет.
«…Я не могу понять, – писал Осинский, – как порядочные люди среди «правдистов» могут молчать, подчиняясь активным господам самого гнусного свойства… Можно ли в здравом уме и твердой памяти отринуть Богданова и принять в свои объятия гг. «Данского», «Демьяна Бедного» и т. н. Именовать первого «авантюристом», а вторых «уважаемыми товарищами» – ведь это же бесстыдно. А потом этот стиль, изо дня в день… ведь можно «спереть с последних остатков», читая эту отвратительную полемику. По-моему, ругаться нужно, но не нужно брать себе в качестве идеала ругань пьяных проституток»[557]557
ГАРФ. Ф. 111. Оп. 5. 1914. Д. 512. Л. 239 об.
[Закрыть].
«Полемика «Правды» и «Луча» развратила рабочих вовсе, – сетовала М.И.Бурко. – Не стесняясь, ничуть не задумываясь, обзывают друг друга и лидеров своих самыми позорными именами. Как скверно, что наши газеты не церемонятся в приемах. Это прямо разврат. С легким сердцем подозревают друг друга прямо в нелепых вещах»[558]558
Там же. Ф. 102. On. 265. 1914. Д. 968. Л. 40.
[Закрыть].
Предостерегающие голоса не были услышаны. Только ли потому, что Ленин вообще плохо разбирался в людях, как думает, например, Р.К.Элвуд? По его мнению, поддержка таких одиозных личностей, как Виктор Таратута, Малиновский и «чудесный грузин» Сталин, говорит о том, что большевистский вождь был плохим знатоком человеческого характера и политической ориентации своего окружения[559]559
Элвуд Р.К. Ленин и Грамматиков. История одной рекомендации // Отечественная история. 1992. Ms 4. С. 189
[Закрыть].
Известно, однако, что политическая ориентация всех этих трех деятелей была безусловно большевистской. Нельзя сказать, что являлись тайной и их индивидуальные качества. Поэтому отношение к ним Ленина не должно нас удивлять. У Ленина имелась вполне продуманная точка зрения по «кадровому вопросу», он высказывал ее еще раньше, в годы первой революции. Ее принимали тогда и некоторые другие видные большевики, например, тот же А.Богданов, несмотря на философские и иные разногласия с Лениным. Услышанное от них в 1906–1907 гг. воспроизвел в своих воспоминаниях В.С.Войтинский:
«Любимой темой «агитации» в тесном товарищеском кругу была для Ленина борьба с предрассудками, остатками «либеральных благоглупостей», которые он подозревал у новичков. Это была неуклонная, чрезвычайно ловкая, талантливая проповедь революционного нигилизма…
– Партия не пансион для благородных девиц. Нельзя к оценке партийных работников подходить с узенькой меркой мещанской морали. Иной мерзавец может быть для нас именно тем и полезен, что он мерзавец…
Когда при Ленине подымался вопрос о том, что такой-то большевик ведет себя недопустимым образом, он иронически замечал:
– У нас хозяйство большое, а в большом хозяйстве всякая дрянь пригодится…
Снисходителен был Ленин не только к таким «слабостям», как пьянство, разврат, но и к уголовщине. Не только в «идейных» экспроприаторах, но и в обыкновенных уголовных преступниках он видел революционный элемент{3}.
Среди ближайших соратников Ленина эта тенденция принимала порой совсем курьезные формы. Так, А. Богданов – один из образованнейших писателей-большевиков – говорил мне:
– Кричат против экспроприаторов, против грабителей, против уголовных… А придет время восстания, и они будут с нами. На баррикаде взломщик-рецидивист будет полезнее Плеханова»[560]560
Войтинский В.С. Годы побед и поражений. Берлин, 1924. Кн. 2. С. 102–103.
[Закрыть].
Ленин, однако, не находил в этом ничего курьезного. Специфические качества, присущие уголовным элементам, он считал небесполезными и на ответственных партийных постах. По мнению Ленина (оно было им высказано С.Вольскому и Н.А.Рожкову), работоспособсность ЦК партии могло обеспечить наличие в его составе «талантливых журналистов, способных организаторов и нескольких интеллигентных негодяев»; на V съезде партии он рекомендовал в ЦК В.Таратуту – по его же словам, прожженного негодяя, который тем и хорош, что ни перед чем не остановится[561]561
Там же. С. 103; Шуб Д. Бакунин, Нечаев и Ленин // Новый журнал. 1958. Кн. 15. С. 265.
[Закрыть].
В тот же период П.А. Красиков так «популяризировал» большевистскую тактику: «Всем в морду! Кадет – так кадету в зубы! Эсер – так эсеру в ухо! Меньшевик – так меньшевику в рыло![562]562
Войтинский В.С. Указ. соч. С. 485–486.
[Закрыть]Этот анекдотический инструктаж предназначался для членов социал-демократической фракции II Государственной думы и также вытекал из установки Ленина: посеять среди рабочих «ненависть, отвращение, презрение к несогласномыслящим»[563]563
Шуб Д„Указ. соч. С. 267. Н.К.Крупская уже в советское время, в 1927 г. продолжала твердить усвоенное при жизни Ленина: «…У марксистов не может быть таких абсолютных категорий, как правда и ложь… к любому грязному делу нельзя подходить в чистых перчатках своей тончайшей совести, а надо исходить из интересов дела* (Музей революции. № 30339/1. Л. 103).
[Закрыть].
В свете таких давно определившихся предпочтений очевидно, что недоуменные вопросы Осинского и Бурко, если они дошли до Ленина, восприняты были им как «благоглупости». Тем более не принимались в расчет размышления деятелей иных воззрений, например, патриарха анархизма П.А. Кропоткина, который предлагал в разгар разоблачения Азефа задуматься не только над внешними причинами провокации, но и внутренними, свойственными революционному движению: «Якобинство» в худшем смысле слова – в смысле взаимной конспирации друг против друга и «чиноначалия» с самого начала парализовало все лучшее в русской революции, и теперь дошло до того, что нельзя подобрать 4–5 человек без того, чтобы один из них не преследовал своих целей, не вел свою игру. Вот против чего следовало бы теперь направить усилия»[564]564
Сидоров Н.А., Тютюнник Л.И. В.Л.Бурцев и российское освободительное движение // Советские архивы. 1989. № 2. С. 58.
[Закрыть].
Несомненно, что «взаимная конспирация друг против друга» в деле Малиновского сослужила большевикам плохую службу, помешав собрать и непредвзято сопоставить все имевшиеся тогда данные. Она исключила также возможность межпартийного суда (раньше такой суд большевики допускали)[565]565
Ленин В.И. Полн. собр. сч. Т. 47. С. 189, 205.
[Закрыть].
И уж подавно не могло быть принято во внимание выступление «веховца» С. Н. Булгакова в Московском религиозно-философском обществе «Русская трагедия. О «Бесах» Ф.М.Достоевского», текст которого был опубликован буквально накануне ухода Малиновского из Думы. Вопрос, поставленный Достоевским, – случайное или неслучайное явление герои «Бесов» Ставрогин и Верховенский – должен был, но мнению Булгакова, в переводе «на язык наших исторических былей» звучать так: «Представлял ли собой Азеф-Верховенский и вообще азефовщина лишь случайное явление в истории революции, болезненный нарост, которого могло и не быть, или же в этом обнаруживается коренная духовная ее болезнь?» Булгаков считал, что верно второе[566]566
Русская мысль. 1914. N? 4. С. 23.
[Закрыть] (о чем он уже писал раньше в «Вехах», сразу после установления провокаторства Азефа: «Разоблачения, связанные с именем Азефа, раскрыли, как далеко может идти при героическом максимализме эта неразборчивость в средствах, при которых перестаешь уже различать, где кончается революционер и начинается охранник или провокатор»[567]567
Вехи. Сб. статей о русской интеллигенции. М., 1909. С. 45.
[Закрыть].
Поводом для нового выступления Булгакова на ту же тему в 1914 г. явились споры вокруг постановки «Бесов» в Художественном театре и, в частности, отрицательное отношение Максима Горького к самой идее инсценировать роман Достоевского, традиционно толкуемый как пасквиль на революционеров[568]568
Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1953. Т. 24. С. 146–157; Натова Н. Театральная судьба романа «Бесы» // Новый журнал. 1981. № 145.
[Закрыть]. Ленин в этом споре поддержал Горького[569]569
Ленин В.И Поли собр. соч. Т. 48. С. 226.
[Закрыть]. Неизвестно, читал ли он статью Булгакова, но известно свидетельство В.В.Воровского (в изложении Н.Валентинова): еще в молодости Ленин решил, что чтение такой «явно реакционной гадости», как «Бесы», – бесполезная трата времени, и поэтому лишь перелистал книгу и швырнул ее в сторону[570]570
Валентинов Н. Недорисованный портрет… М., 1993. С. 62.
[Закрыть]. Мнение Булгакова также не представляло интереса: ведь он был кадетом, якобы равнодушным, как и другие веховцы, к «исстрадавшимся народным массам», чем Ленин и объяснял их проповедь «моральной греховности революции»[571]571
Ленин В И Поли собр. соч. Т. 19. С. 171.
[Закрыть]. С партийной точки зрения не могла иметь какой-либо ценности и сделанная Булгаковым оговорка: «Речь идет… не о политическом содержании революции и не о полицейской стороне провокации, но о духовном ее существе»[572]572
Русская мысль. 1914. № 4. С. 23.
[Закрыть].
Между тем ничего специфически партийно-кадетского в рассуждении Булгакова о причинах провокаторства не заключалось. Бывший большевик Алексей Гастев либералом не стал, однако и для него было очевидно, что к провокаторству революционеры приходили «путем отрицания всего святого и пропаганды [принципа] «все позволено»[573]573
Жизнь для всех. 1910. 2. С. 103.
[Закрыть].
Для Ленина же духовная сторона проблемы не существовала, так как он исходил из соображений только прагматических. С позиций политической выгоды и устремленности к одной цели (плехановская формула: успех революции – высший закон) именно биполярное видение действительности позволяло найти самый прямой путь к этой цели, списывая «издержки» классовой борьбы, включая провокацию, на самодержавие и «буржуазную интеллигенцию», к которой причислялись то одни, то другие инакомыслящие. Иные соображения Ленин и его сторонники считали посторонними и бесполезными.
Когда большевики называли себя «последовательными марксистами», это вызывало со стороны меньшевиков насмешки. Но концепция партии «нового типа» подразумевала последовательное отстаивание всеми партийцами единой линии, определяемой взглядами вождя. Авторитарная модель партии рассматривалась как условие успешной борьбы с авторитарным режимом. В такой партии должно было найтись место и своеобразному аналогу фаворитизма. Отсюда нечто вроде аберрации зрения в отношении членов следственной комиссии к Малиновскому: не он, а подозревавшие Малиновского казались людьми раздвоенными, податливыми к чуждым влияниям, а «последовательный марксист» Малиновский – истинно пролетарской, внутренне цельной натурой. И когда в 1917 г. его разоблачили, первое, в чем Ленин усомнился, – действительно ли он вел легальную работу, как думали до сих пор руководители партии, «в духе непримиримой борьбы с ликвидаторством и неуклонной верности революционным принципам». Проверить, так ли это было, он рекомендовал Чрезвычайной следственной комиссии Временного, правительства (!). Но с этой-то стороны Малиновский был безупречен.
«…Совершенно выбитый из колеи, растерянный Малиновский околачивался в Поронине. Аллах ведает, что переживал он в это время. Куда он делся из Поронина – никто не знал»[574]574
Крупская Н.К. Воспоминания оЛенине. М., 1957. С, 223.
[Закрыть]. Документальные данные опровергают это, на первый взгляд, правдоподобное описание финала поронинского следствия из воспоминаний Крупской. Растерянным Малиновский был лишь в первые дни, а дальше, по ходу следствия, он держался все более уверенно. И куда он делся из Поронина, когда следствие закончилось, Крупской было хорошо известно, так как свои намерения он не скрывал и, вероятно, согласовал их с партийным руководством. Вопреки обещанию, данному Попову и Иванову, он решил вернуться в Россию.
11(24) июля 1914 г. Малиновский прислал Ленину из Кракова короткое письмо: встретиться с родственниками в русской Польше ему пока не удалось – из-за опасности войны сообщение между Краковым и Варшавой затруднено; поэтому сам он выезжает в Варшаву, а затем в Петербург только в среду (то есть 16(29) июля) и на случай своего ареста оставляет для пересылки два письма – сестре и брату, а также адрес – в Ямбурге, на имя жены. Этим адресЪм, очевидно, мог воспользоваться и Ленин. «Еще раз выражаю Вам свою глубокую благодарность. Привет Надежде Константиновне, Григорию, Зине и т. д. Ваш Роман», – так кончалось это письмо[575]575
РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 807. Л. 1 об.
[Закрыть]. Концовка обычная, если забыть, что на сей раз подследственный обращался к следователям, и только что – утром того же дня – состоялась последняя очная ставка с Розмирович.
Благодарить было за что. Малиновский определенно уже знал, к каким окончательным выводам пришла следственная комиссия. Ленин, Зиновьев и В.А.Тихомирнов написали подробное заключение комиссии – брошюру, состоявшую из нескольких частей: 1) уход из Думы; 2) политическая биография Малиновского; 3) разбор слухов и подозрений; 4) данные о распространителях слухов. Преимущественное место отводилось критике меньшевиков – вологодских ссыльных, венских «августовцев» и Мартова, а также Бухарина, который якобы способствовал «возбуждению паники» Шером; выступление (?) последнего квалифицировалось как «преступное».
Обвинения в провокаторстве снова объявлялись «не выдерживающими самой слабой критики». Поскольку в тексте заключения никак не были отражены показания Розмирович и ее спутников, можно с уверенностью считать, что комиссия составила этот документ еще до их допросов, а после допросов не сочла нужным вносить какие-либо изменения. Заявлялось об истинности первых же выводов, выраженных в постановлении ЦК от 31 мая (причем дело изображалось так: членам комиссии очень скоро стало совершенно ясно, что все темные слухи абсолютно вздорны, и это единогласное убеждение было сообщено ЦК; таким образом, читателю внушалось, что ЦК и следственная комиссия состоят из разных лиц, и, следовательно, в беспристрастности комиссии можно не сомневаться). Примечательна и подпись под заключением: «Следственная комиссия по делу о распространении гнусных слухов про Р.В.Малиновского».
«Личную историю» Малиновского комиссия решила не оглашать, в тексте заключения показания его не сей счет также не отразились. Но, как вспоминал Зиновьев, учитывая, что Малиновский назвал ряд лиц, которые могли подтвердить его объяснения, решено было направить в Россию Ганецкого с целью их проверки, в частности, в Казань, где жил старший брат Малиновского. Разгром «Правды» 8 июля не позволил опубликовать заключение, а начавшаяся вскоре война сделала поездку невозможной и вообще отодвинула это, по признанию Крупской, крайне тяжелое, но, как казалось в тот момент, в основном исчерпанное дело[576]576
Материалы следственной комиссии..// Вопросы истории. 1993. № 11–12. С. 74–83; Дело провокатора Малиновского. С. 52; Социал-демократ. 1917. 31 янв.
[Закрыть]. С трудом припоминая в начале 30-х гг. рассказ Малиновского на партийном следствии, Зиновьев именовал его брата профессором: «А между тем у него есть брат-профессор, замечательная личность (где живет этот брат? Кажется, он сказал, не то в Казани, не то в Плоцке; запомнились оба эти города)»[577]577
Зиновьев Г.Е. Указ. соч. С., 199.
[Закрыть]. Ленин вообще забыл, что «профессор» – это брат Малиновского. Все эти загадки мало его занимали – ведь довольствовался же он много лет псевдонимами Иосифа Джугашвили, не зная его настоящей фамилии.
Неизмеримо важнее для Ленина была кризисная политическая обстановка, сложившаяся летом 1914 г. в Петербурге. Она настраивала его на оптимистический лад. В канун войны, 12(25) июля, то есть на следующий день после окончания допросов по делу Малиновского, он поздравлял Инессу Арманд «с приближающейся революцией в России»[578]578
РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 1. Д. 3341.
[Закрыть].