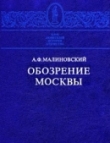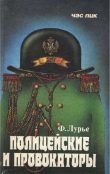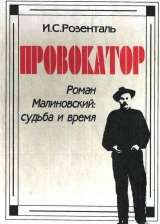
Текст книги "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время"
Автор книги: Исаак Розенталь
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Отвергая все объяснения обвиняемого и в то же время опровергая свой же материалистический тезис насчет «продукта социальной системы», «Крыленко старался доказать, что Малиновский вовсе не был жертвой обстоятельств: количество совершенных им в молодости уголовных преступлений – свидетельство извращенпости натуры, «у которой поколеблены все понятия и уже не работают сдерживающие центры». «Человек без чести и без принципов, извращенный и аморальный с первых своих шагов, решившийся стать предателем, как он сам говорит, «без угрызения совести», человек, поставивший своей задачей чистый авантюризм и цели личного честолюбия и для этого согласившийся на страшную двойную игру, – человек крупный, в этом нет сомнения, но потому вдвойне, в сотни раз более опасный, чем кто-либо другой,, слуга и холоп департамента полиции, а не мучающийся своим предательством человек… – вот черты Малиновского, которые обнаруживаются из этих фактов…».
Поверить в раскаяние такого человека, утверждал Крыленко, невозможно. На поставленный вначале вопрос он отвечал следующим образом: остаться за границей означало бы для Малиновского «жить в бесславии, влачить дни под гнетом всеобщего презрения и ненависти» (?). Следовательно, логика авантюриста должна была подсказать ему противоположный, хотя и рискованный шаг: «А вдруг помилуют? А вдруг – выйдет? А вдруг – удастся последний кунштюк?» – ведь «революционеры не злопамятны». Возвращение в Советскую Россию было его «последней картой»[662]662
Там же. С. 222–223; Крыленко Н.В. Судебные речи: Избранное. М., 1964. С. 26–38.
[Закрыть].
Публикуя в 1923 г. свои обвинительные речи, существенно отредактировав (а вернее – написав заново) речь по делу Малиновского, Крыленко сделал оговорку: он не претендует на то, что его ответ на вопрос о мотивах возвращения Малиновского был совершенно правилен, но «в условиях, как они были установлены на процессе, другой разгадки едва ли можно дать»[663]663
Его же. За пять лет. М.; Пг., 1923. С. 9.
[Закрыть].
Объяснение Крыленко не осталось единственным. Правда, воспоминания Зиновьева, в которых была выражена иная точка зрения, почти 50 лет пролежали под спудом. Можно считать и плюсом и минусом то, что в прошлом Зиновьев больше, чем Крыленко общался с Малиновским и симпатизировал ему. Но высказанное им мнение заслуживает во всяком случае внимания. Как было уже сказано выше, Зиновьев был убежден в том, что революционно-интернационалистскую агитацию в плену Малиновский вел совершенно бескорыстно (в обвинительном заключении утверждалось нечто противоположное и малопонятное: он там «продолжал свою якобы революционную деятельность для того, чтобы снова подорвать и дискредитировать революцию и ее вождей в глазах трудовых масс»). Во-вторых, вернувшись в Советскую Россию в разгар красного террора, Малиновский сознательно отказался от возможности «спрятаться в Германии или еще где-либо (если бы он хотел пойти с белыми против нас)», и это, несмотря на то, что «его бы покупали наши враги за большие деньги». Следовательно, заключал Зиновьев, «этот Иуда был раздвоен и надломлен с самого начала. В том, что он говорил о своей личной биографии, была частичка правды, – что не меняет, конечно, существа дела ни капельки»[664]664
Зиновьев Г.Е. Указ. соч. С. 195, 205.
[Закрыть].
Этот вывод соответствует фактам, приведенным выше. Могло ли быть иначе? Мы знаем, что по крайней мере в поведении еще одного известного провокатора из рабочих – меньшевика В.М.Абросимова – надлом выражался очень похоже. Квалифицированный питерский металлист, хороший организатор и оратор, Абросимов производил в разное время неодинаковое впечатление. Он тоже отличался неуравновешенностью и нервностью, был неуживчив и резок, жил как бы толчками, порывами. Товарищи-рабочие его недолюбливали, а меньшевики-интеллигенты склонны были и после его разоблачения думать, что он до известной степени разделял убеждения, которые так горячо, «с огнем в глазах» отстаивал, и, видимо, временами он забывал о своих обязанностях наемного слуги царского правительства…[665]665
Левицкий В. Провокатор Абросимов // Каторга и ссылка. 1929. 6. С. 64-65, 72–74.
[Закрыть]
Анализ Зиновьева – более всесторонний, чем откровенно прямолинейная версия Крыленко – все же проигрывал ей в том, что затушевывал главную особенность личности Малиновского и важнейший внутренний стимул его поведения – «вождизм», желание непременно быть «начальством». Эта черта совмещалась с беспринципностью и раздвоенностью, но именно она определяла для него иерархию предпочтений, побуждая отказаться от возможности «спрятаться» или же быть где-то на вторых ролях, заставляя идти на риск, даже смертельный. Значение этого фактора признал на суде сам Малиновский, когда говорил о своем возвращении: «…Знал уже, что, если вернусь, то в партии работать не могу, потому что не смогу быть рядовым работником; в силу присущих мне качеств, я бы опять выдвинулся на высоту»[666]666
Дело провокатора Малиновского. С. 218.
[Закрыть].
Крыленко был прав, кроме того, когда предполагал, что Малиновский питал надежду на незлопамятность большевиков. Даже узнав, что всех провокаторов ждет в Советской России расстрел, он вполне мог допустить, что станет исключением, так как помнил сказанное в свое время о его праве искупить вину честным служением революции и, разумеется, помнил оценку его деятельности в период войны (недаром он прихватил с собой конспекты лекций и полученные в плену письма «от лиц и организаций»). Может показаться парадоксальным такое предположение: Малиновский вернулся именно потому, что власть захватили большевики, в возможность чего он раньше не слишком верил. Но это отвечало не только авантюристическому складу его характера, но и обуревавшей его жажде власти.
На суде была предпринята попытка вынести обсуждение за рамки индивидуальной судьбы обвиняемого. Защитник Оцеп назвал Малиновского «человеком со злосчастной судьбой», но одним из «целого ряда людей, которые парализовали революционное движение в России». Разобраться в «этом особом народном явлении», выяснить, чем оно было обусловлено, – задача объективного историка и психолога, говорил Оцеп; только им дано ответить, одни ли корысть и тщеславие двигали Малиновским, разгадать его психологическую загадку[667]667
Там же. С. 231–235.
[Закрыть].
Фактически Оцеп повторил основную мысль исповедального письма другого провокатора – Ю.О.Серовой М.Горькому (май 1917 г.). Оно было опубликовано им в одной из статей цикла «Несвоевременные мысли» без упоминания фамилии автора письма: «Ведь нас – много! – все лучшие партийные работники. Это не единоличное уродливое явление, а, очевидно, какая-то более глубокая общая причина загнала нас в этот тупик». Возможно, у адвоката здесь не было прямого заимствования, ибо Серова и Малиновский независимо друг от друга защищались единообразно. И Серова утверждала, что верила «всей душой в партию, в социализм, во все святое и чистое», и так же, как он, призывала вникнуть, преодолевая отвращение, в психологию провокаторов, которые могли «честно» служить в охранке и, презирая себя, все же находили возможным жить»[668]668
Горький М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. М., 1990. С. 88–89.
[Закрыть]. Нечто сходное было со старым партийным работником и секретным сотрудником охранки костромским рабочим П.И.Одинцовым. В качестве выборщика он голосовал за Н.Р.Шагова, а затем, когда тот стал депутатом, «освещал» его внедумскую деятельность в Костромской губернии. На суде после Октябрьской революции он заявил, что перед смертью Шагова в 1918 г. покаялся ему и получил прощение.
Основываясь прежде всего на письме Серовой, но также на признаниях и других разоблаченных провокаторов, в том числе рабочих, Горький допускал, что они были искренни в каждый данный момент – и когда работали на революцию, и когда предавали, и когда каялись. В 1924 г. в рассказе «Карамора» он изобразил эту особенность их психологии через внутренний монолог провокатора. Рисуя «ирреальное, полуфантастическое, дьявольски русское», столь многообразно проявившееся в революционную эпоху, Горьки# явно уходил от классово-рационалистического подхода, обращаясь теперь к Достоевскому, которого раньше отвергал вместе с Лениным. А.К. Воронений – его эта тема тоже занимала, как и многих других литераторов-большевиков, – рассказ не одобрил: «…Нельзя так двойственно писать о провокаторах, нельзя, особенно у нас в России». Напротив, Н.И. Бухарин отметил глубину рассказа, мастерство, с каким он написан[669]669
Примочкина Н. «Донкихоты большевизма*: Максим Горький и Николай Бухарин // Свободная мысль. 1993. Jse 4. С. 67.
[Закрыть], но вряд ли практика большевиков позволила и ему принять главный вывод Горького – о неразрывной связи такого рода искренности провокаторов с «моральной сумятицей», с отсутствием «в нашем обществе» «чувства органической брезгливости ко всему грязному и дурному», что было свойственно, как хорошо знал Горький, и революционерам, включая большевиков.
Об этом говорил и герой рассказа – рабочий-социал-демократ, ставший провокатором, вспоминавший, как в ходе фракционной борьбы практиковались «жульнические подвохи и даже подленькие приемы азартных игроков», «бесстыднейший иезуитизм», оправдываемые тем, что «в борьбе все средства хороши»[670]670
Горький М. Несвоевременные мысли… С. 89; Российские фантасмагории: Русская советская проза 20-30-х годов. М., 1992. С. 4–7, 194–195, 520–521.
[Закрыть]. Легко узнаваемы здесь интонации самого Горького – автора не только «Несвоевременных мыслей» 1917–1918 гг., но и писем к Ленину тех времен, когда он пытался воздействовать на вождя большевиков, чтобы прекратить «склоку». Но так и в самом деле рассуждали провокаторы – наедине с собой, а иногда и в откровенных разговорах. Вероятно, и Малиновский имел это в виду, но обличать судивших его большевиков не решился.
В речи защитника заслуживает внимания еще один момент. Оцеп просил судей проявить гуманность к его подзащитному и потому, что смерть понятна на фронте – там орудия «творят дело социализма», но в тылу, «в тиши спокойствия, при такой обстановке так не вяжутся, не мирятся со смертью те лозунги, которые провозглашает социализм…»[671]671
Дело провокатора Малиновского. С. 235.
[Закрыть], Членам Ревтрибунала такое представление о социализме, вероятно, показалось старомодным, да и спокойствия в тылу Республики Советов они не ощущали. Приговор, несомненно, был предрешен – независимо от аргументации обвинителя и защитника.
Некоторые современники и историки сообщали, что на заседании суда присутствовал Ленин[672]672
Кочетов Ю.И. Указ. соч. С. 185; Большевики. 1903–1916. Нью-Йорк, 1990. С. 307 (вопреки сказанному здесь, ни Ленин, ни Бухарин, ни Роэмирович свидетелями на суде не выступали).
[Закрыть], и после вынесения приговора Малиновский написал Ленину письмо с просьбой сохранить ему жизнь[673]673
Деготь В. Под знаменем большевизма: Записки подпольщика. М., 1933. С. 178.
[Закрыть]. Несомненно лишь то, что приговор был приведен в исполнение в ту же ночь. Зиновьев не запомнил никаких заседаний и обсуждений в ЦК РКП(б) по поводу суда над Малиновским, и никто не рассказывал ему каких-либо подробностей о суде – «время было напряженное – не до того было»[674]674
Зиновьев Г.Е. Указ. соч. С. 204.
[Закрыть]. Ситуация была действительно такова, и потому, в частности, малоправдоподобно утверждение Бертрама Вулфа со ссылкой на Бурцева (который якобы слышал это в тюремной камере от Белецкого): рабочие организации Москвы послали своих представителей присутствовать на суде, «чтобы Ленин снова не реабилитировал Малиновского»[675]675
Wolfe B.D. Three Who Made a Revolution. A Biographical History. London, 1956. P. 555–556.
[Закрыть]. Об этом Ленин, конечно, не помышлял, но интерес рабочих к процессу также не был настолько велик, как кажется историку.
Бурцев действительно находился в заключении вместе с Белецким: в ночь на 26 октября 1917 г. его арестовали пришедшие к власти большевики, закрыв одновременно его газету «Наше общее дело». Доктор И.И.Манухип, приглашенный еще председателем Чрезвычайной следственной комиссии Муравьевым врачевать узников Петропавловской крепости, вспоминал: «Бурцев упросил меня выхлопотать ему камеру рядом с камерой Белецкого и теперь с увлечением перестукивается с ним, дабы выведать все ему интересное»; когда же заключенных перевели в другую тюрьму – «Кресты», Бурцева и Белецкого поместили на смежных койках в тюремной больнице[676]676
Манухин И. Воспоминания о 1917-18 // Новый журнал. 1958. Кн. 54. С. 106.
[Закрыть]. Возможно, Бурцеву удалось что-то еще выведать и о Малиновском. Но все это было значительно раньше возвращения Малиновского в Россию, о суде над ним они беседовать никак не могли, а к моменту суда Белецкий был уже расстрелян. Не присутствовал на суде и еще «целый ряд свидетелей», перечисленных Б. Вулфом.
«Известия» напечатали довольно подробный отчет о следствии и суде над бывшим провокатором[677]677
Известия. 1918. 3 и 6 нояб.
[Закрыть], но в канун Октябрьской годовщины событие это не привлекло к себе сколько-нибудь широкого внимания. Новая власть мобилизовала старые и новые средства, чтобы утвердить свою незыблемость, все еще для многих проблематичную. Как когда-то к приездам царя, праздничный облик столицы должен был отвлечь народ от повседневных тягот. По словам случайно застрявшего в Советской России французского журналиста и художника Э.Авенара, «Москва была предоставлена кистям и пульверизаторам футуристов, чья смелость как в области цвета, так и рисунка вызывала растерянность профанов и священное восхищение знатоков и красногвардейцев. Повсюду вдоль стен висели оригинальные по форме плакаты, а в центре Москвы спокойные пустые площади, покрытые снегом, превратились в пестрые декорации, весь вид которых яркими или приглушенными тонами и живыми контрастами провозглашал официальную бесспорную победу»[678]678
Карлюченко Н.Ф. Москва в первую годовщину Октября глазами французского художника // Музейные коллекции как источник изучения и пропаганды истории Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1987. С. 55.
[Закрыть].
Другой очевидец, историк Ю. В. Готье (кстати, знакомый Э.Авенара), записал в своем дневнике в день суда над Малиновским, что эмблемы и украшения на улицах Москвы были «с кровожадными лозунгами»; соединение передовых политических и социальных идей с кубизмом и футуризмом Готье расценил как высшую степень уродства. Отметил он и такой факт: по случаю праздника новые «владыки» выдали «несколько усиленные порции сладостей, мяса, масла». Но Малиновского и суд над ним он даже не упомянул. И петроградского архивиста Г.А.Князева, который, как и Готье, тщательно фиксировал в дневнике приметы революционного времени, но больше, чем Готье, уделял внимания содержанию большевистских газет, занимала в эти дни все та же тема хлеба и невиданных еще зрелищ, подобных московским, но никак не судьба Романа Малиновского[679]679
Готье Ю.В. Мои заметки // Вопросы истории. 1991. М? 12. С. 151–152; Князев Г.А. Из записной книжки русского интеллигента за время войны и революции (1918 г.) // Русское прошлое. СПб., 1993. Кн. 4. С. 123–124.
[Закрыть].
Под бременем новых забот и ошеломляющей пропаганды все более ускользала связь между днем нынешним и минувшим. Малиновский, провокаторы, охранка – все это, казалось, всецело принадлежало прошлому.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тайная полиция существует для охраны государства от внешних врагов, которые, как правило, живут внутри страны и даже составляют основное ее население.
Ф. Кривин
«Исторические параллели всегда рискованны», – поучительно произнес однажды И. В.Сталин[680]680
Сталин И.В. Соч. Т. 13. С. 104.
[Закрыть]. Историческая параллель, возникшая летом 1953 г. у Г.И.Петровского, была рискованной в тот момент в буквальном смысле этого слова: узнав об аресте Лаврентия Берии, бывший депутат Государственной думы, а ныне милостью Сталина завхоз Музея Революции вспомнил Малиновского. В письме одному из своих старых товарищей С.Н.Власенко он заметил, что, «пожалуй, тут есть основание для параллели». В ответном письме Власенко продолжил эту мысль: «Малиновского создавало царское правительство; боюсь, что и Берия существовал не без сильной поддержки – сознательно или не сознательно, но мне кажется, что это так»[681]681
Музей революции. М 32598/227.
[Закрыть].
Петровский, конечно, знал, что «сознательно» и что явление, персонифицированное в Малиновском, принадлежит не только дореволюционным временам. Страх, однако, был еще велик, и прямо назвать имя покровителя Берии старые большевики не решились. Но Петровский предпочел не вспоминать и другое, а именно: кто, кроме царского правительства, «создавал» Малиновского, чьим он был «любимчиком», как точно выразился в свое время сам же Петровский.
В этом замалчивании существенной стороны памятного ему сюжета истории большевизма Петровский следовал примеру Ленина. В январе 1918 г., в дни III Всероссийского съезда Советов, проходившего в Таврическом дворце, где когда-то заседала Государственная дума, А.К.Воронений напомнил Ленину, как на Пражской конференции большевики избрали провокатора в ЦК партии. «Я ждал, – пишет Воронений, – что он с готовностью скажет: – да, да, вы были правы, я тогда опростоволосился. Выслушав меня, Ленин отвел взгляд куда-то в сторону, мельком скользнул по густым группам делегатов, перевел его затем вверх, куда-то сначала на стенку, потом на потолок, прищурился и, как бы не понимая, куда я направляю разговор, действительно с сокрушением промолвил:
– Да, что поделаешь: помимо Малиновского, у нас был тогда еще провокатор.
Он посмотрел на меня с добродушным соболезнованием»[682]682
Воронский А.К. За живой и мертвой водой. М., 1934. С. 519.
[Закрыть].
Второй послеоктябрьский случай, когда Лепин сам упомянул Малиновского, описан в известном очерке М.Горького «В.И.Ленин». Горький как-то заговорил об Г.А.Алексинском – бывшем большевике, а затем яростном противнике Ленина, в 1917 г. публично обвинившем его в получении денег от немцев. В ответ Ленин заметил: «Можете представить: с первой встречи с ним у меня явилось к нему чисто физическое отвращение… И, удивленно пожав плечами, сказал:
– А вот негодяя Малиновского не мог раскусить. Очень это темное дело, Малиновский…»[683]683
Горький М. Собр. соч.: В ЗО т. М., 1952. Т. 17. С. 43–44,
[Закрыть].
Но и тема обманутого доверия не получила какого-либо развития в ленинских сочинениях. Дело Малиновского явилось предметом его анализа только в 1920 г. и в другой плоскости – с точки зрения применимости опыта большевизма в странах Запада. Речь шла о тактике и кадровой политике коммунистических партий, копировавших большевиков в надежде на близкую мировую революцию.
В книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», где в сжатом виде излагался эпизод с Малиновским, Ленин сравнивал условия устойчивого легального положения рабочих партий, обеспечивающие «нормальное, простое отношение между вождями, партиями и классами», с условиями полу подпольной деятельности, подобными тем, что были в царской России. Такие условия, заставляя с особой тщательностью скрывать «главный штаб» партии, ее ЦК, порождали и «глубоко опасные явления», худшим из которых оказалось проникновение в этот штаб Малиновского[684]684
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 28.
[Закрыть].
Отсюда следовало, что ошибки не могло не быть по причине неосуществимости для нелегальной партии того требования, которое Ленин же провозгласил еще в 1903 г.: вся партия должна видеть как на ладони каждого кандидата на руководящий пост со всеми его индивидуальными особенностями[685]685
Там же. Т. 8. С. 96.
[Закрыть]. Фактически согласившись с меньшевиками, Ленин отказался от прежней уверенности в том, что можно парализовать провокацию при хорошо налаженной конспиративной технике, дисциплине и организованности. На сей раз из опыта большевиков извлекался более осторожный вывод: зло, причиняемое провокаторами, можно лишь уменьшить путем правильной постановки соотношения легальной и нелегальной работы («чтобы снискать доверие у нас, Малиновский, как член Цека партии и депутат Думы, должен был помогать ставить нам легальные ежедневные газеты…помогать воспитанию десятков и десятков тысяч новых большевиков через легальную прессу»)[686]686
Там же. Т.41. С. 29.
[Закрыть].
Итак, то, что Ленин излагал в 1917 г. следователю Чрезвычайной следственной комиссии, теперь предлагалось взять как образец партиям Коминтерна. В 1921 г., накануне III конгресса Коминтерна он повторил этот вывод в третий раз, рекомендуя О.В.Куусинену – автору проекта тезисов по организационному вопросу дополнить проект параграфом о борьбе с шпионами и провокаторами, в частности, путем сочетания легальной работы с нелегальной и проверки пригодности того или иного лица к нелегальной работе посредством продолжительной легальной[687]687
Там же. Т. 44. С. 56.
[Закрыть]. В тексте, принятом конгрессом, утверждалось, что такая проверка позволит испытать, «кто достаточно надежен, смел, добросовестен, энергичен, ловок, чтобы ему могла быть доверена соответствующая его способностям нелегальная работа»[688]688
Коммунистический Интернационал в документах: Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919–1932. М, 1933. С. 223–224.
[Закрыть].
Инструкция Ленина – Куусинена для коминтериовских кадровиков оказалась, однако, в противоречии со своей исходной фактической основой: ведь Малиновский – и не только он – прошел искус довольно продолжительной легальной подготовки и обладал чуть ли не всеми перечисленными достоинствами. Сомнительно, чтобы этот рецепт помог компартиям Запада.
В «Детской болезни» Ленин вообще не касался уроков дела Малиновского применительно к той единственной компартии, которая превратилась в правящую и, следовательно, по Ленину, обрела, наконец, идеальное отношение между вождями и классами. «Глубоко опасных явлений» в жизни РКП(б) он пока не видел. Между тем дело Малиновского сфокусировало в себе не только внутреннюю противоречивость революционного движения и неизбежную разнородность его участников, но и неоднозначность его последствий. Все это осталось за пределами ленинского анализа.
Российское провокаторство начала века имело сложную природу. Еще в 1906 г. под впечатлением публикаций журнала «Былое» Е.В.Тарле писал: «Дегаевщина и все, что Дегаева касается, убедили меня, что история иногда бывает Федором Михайловичем Достоевским и показывает такие мрачные пучины человеческой души, какие только Достоевский умел показывать». Если же говорить о таких фигурах, как Малиновский, Абросимов, Серова, то психологически провокаторство было родственной той раздвоенности чувств, какую 3.Фрейд считал наследием душевной жизни человека первобытных времен с приматом в ней бессознательного. «Кто попеременно то грешит, то, раскаиваясь, ставит себе высокие нравственные цели…, напоминает варваров… Эта сделка с совестью – характерная русская черта», – писал оп, ссылаясь на Ивана Грозного и героев Достоевского. Современный исследователь полагает, что в своем обобщении Фрейд отдавал дань стереотипу восприятия России, который сложился на Западе. Вместе с тем он находит убедительные параллели наблюдениям Фрейда в творчестве писателей и философов «Серебряного века», в сходной трактовке ими противоречий «русской души»[689]689
Из литературного наследия академика Е.В.Тарле. М„, 1981. С. 189; Эт-кинд А.М. Эрос невозможного: История психоанализа в России. М., 1994. С. 94–99.
[Закрыть]. С этой точки зрения провокаторство было лишь частным случаем психологического феномена, имевшего не только политическое измерение.
Это был и социальный феномен. Малиновский и ему подобные, оставаясь связанными с той средой, в которой выросли и действовали, не могли быть просто «оборотнями». В их поведении обнаруживались маргинальные черты психики: постоянное чувство тревоги, ощущение непрочности своего положения, агрессивность и неуживчивость, обостренное честолюбие.
Интеллигенция предлагала разные объяснения распространенности провокаторства – от признания нравственной деградации революционного движения, порожденной уродствами политической культуры подполья, до констатации изначальной порочности менталитета революционеров, стирающего грань между революционным максимализмом и авантюристическим двурушничеством. В конечном же счете сближение того и другого было обусловлено кризисным состоянием общества, внутриполитической обстановкой после 1905 года. Маргинализация низов и разложение правящей верхушки сопровождались раздроблением морально-правового пространства. Праву все чаще противопоставлялись индивидуальные и групповые представления о жизни «не по законам, а по совести». Правовой нигилизм оправдывался тем самым этически: если черносотенцы прославляли «народный самосуд» над «крамольниками» ради высшей цели – спасения самодержавия, то левые радикалы – «революционное творчество масс», всевозможные виды «захватного права». Крайности сходились в однотипном «баррикадном сознании».
В революционные эпохи далеко не случайно приобретает особую остроту проблема соотношения политики и нравственности.
Режим, против которого ведется борьба, и его функционеры объявляются с большим или меньшим основанием глубоко безнравственными. Революция понимается (или изображается) как способ радикального нравственного очищения. Тон морального суда над царизмом господствовал в общественном мнении накануне и после Февральской революции, когда Государственная дума и пресса усиленно эксплуатировали такие темы, как роль Распутина и других «темных сил» при дворе Николая И, национальная измена (сначала представителей старой власти, а уж затем большевиков).
В этих кампаниях было немало конъюнктурной «пены», но присутствовала и высокая нота нравственной требовательности, характерной для той части образованного общества, где еще сохранял свое значение моральный климат, созданный историей интеллигенции в России. Александр Блок так описывал бывших руководителей политического розыска во время их допросов в Чрезвычайной следственной комиссии: «Культуры никакой в Белецком нет. Откуда же ему быть не таким «деловым»; «Когда речь заходит о морали, о преступлении, лицо Белецкого делается равнодушным»; «Муравьев взывает к впечатлительности, к чувствам Виссарионова, а тот не может ничего сказать, молчит. Понятно: ничего же они не чувствовали, друг другу не верили, завидовали, подводили»[690]690
Блок А. Записные книжки 1901–1920. М., 1965. С. 324, 325, 363; Его же. Собр. соч. Т. 6. С. 444; Первые правозащитные организации Российской федерации в 20-е годы // Отечественная история. 1995. М® 4. С. 162.
[Закрыть].
В тот, согласно позднейшему определению Муравьева, «краткий период романтически-бережного отношения к правам личности» Блок и члены комиссии занимали, таким образом, примерно одни и те же позиции: поэт отождествлял нравственность и культуру чувств, а юристы, входившие в комиссию, руководствовались в расследовании деятельности охранки пониманием права как частичного воплощения нравственности (такой взгляд обосновал в начале века известный правовед Л.И.Петражицкий). Но масса участников революции не могла подняться до такого понимания. Надежда помочь нравственному оздоровлению народа путем публикации «собственных слов» царских сановников, «ничего не украшая», оказалась очередной просветительной иллюзией интеллигенции.
Революционный взрыв, нарушив шаткий баланс процессов преемственности и обновления, привел и на этот раз к резкому сдвигу в обыденном сознании и в отношении к традиционным нормам поведения. Демагогическая риторика на темы морали этому способствовала. Осуждая тех, кто уже лишился власти, участники революции не склонны были столь же сурово спрашивать с себя.
Провокаторство как крайнее воплощение аморализма ассоциировалось вначале только с самодержавием. Покончившая с ним в считанные дни революция породила у интеллигенции убеждение в бесплодности усилий «корыстных предателей молодой и революционной России», «больших и малых торговцев честью и совестью»[691]691
Осоргин М.А. Охранное отделение и его секреты. М., 1917. С. 1–2.
[Закрыть]. На первый взгляд, дело обстояло именно так: вопреки целям и намерениям руководителей департамента полиции, практика «секретного сотрудничества» не столько укрепляла, сколько дискредитировала и расшатывала царский режим. Исключительно с этим режимом связывал, как и другие большевики, предательство Малиновского Крыленко, когда говорил в 1918 г. о его «аморальности».
Сам же Малиновский, уже разоблаченный, изображал себя (и нельзя сказать, что совершенно безосновательно) более близким к политической культуре «рабочей интеллигенции». Представители этого слоя, рабочие-социалисты, были убеждены, что, углубляя революцию, они бесповоротно порывают со «старым миром» с его «эгоизмом и пошлостью», что этот радикальный разрыв необходим для достижения «новой, гармонически-красивой, свободнорадостной жизни всеобщего счастья». Безупречный герой – пролетарий Павел Власов из повести М.Горького представлялся им «образцом совершенства», к которому следует стремиться рабочим, усвоив «мораль и этику Павла, его правила, смысл и цель жизни». Антипод его – интеллигенция, те кто «торгуют своими знаниями и умом»: раньше, отринув «бессердечный чистоган своих отцов», интеллигенция «курила фимиам перед «Его Величеством пролетариатом Всероссийским», теперь же она «становится на задние лапы перед новым работодателем» – буржуазией.
Эти строки были написаны петербургскими рабочими-большевиками из ближайшего окружения Малиновского (А.В.Шотман, И.Г.Правдин, С.В.Малышев и другие) еще в 1908 г.[692]692
Архив А.М.Горького. КГ-рл. 3–8/2; Труженик СПб., 1908. № 13–14. С. 37–38.
[Закрыть] Их революционно-романтическое мировосприятие сложилось под влиянием русской литературы и социалистической пропаганды. Та мораль, которую они отстаивали, вытекала из мессианской веры в пролетариат, в его безусловное превосходство и над буржуазией и над интеллигенцией. По существу это означало идейно-нравственное отторжение не только от старой системы власти, но и от всего общественного строя. В 1917 г. антибуржуазную – в неопределенно широком смысле – ориентацию приобрело массовое сознание рабочих и солдат. Слово «буржуй» стало "ругательством, политическим ярлыком и, как было еще недавно только с приверженцами монархии, обозначением всего негативного в этическом плане. Как писал Н.А.Бердяев, в результате распространения такого «исключительного морализма» «проблема социальная превратилась в проблему розыска тех «подлецов» и «мерзавцев», тех «буржуев», от которых идет все зло»[693]693
Колоницкий Б.И. Антибуржуазная пропаганда и «антибуржуйское» сознание // Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. СПб., 1994. С. 188–202.
[Закрыть].
Первоначально классовая мораль вырастала из потребности рабочих в коллективной самозащите. Какое-то время параллельно существовали, частично совмещаясь, солидарность и мораль рабочих, анархический и «антибуржуазный» настрой широких масс и специфически большевистская партийная солидарность, требовавшая полного отказа от внепартийных норм поведения. Еще до 1917 г. в духе той же корпоративной морали преломлялись в рабочих коллективах нравственные представления и оценки, приобретая политическую окраску: «Ты стоишь за…больших и малых фараонов, ты – Пуришкевич… Ты – «и нашим и вашим», ты кадет. Ты прямой, неподкупный – ты свой человек»[694]694
Жизнь для всех. СПб., 1910. № 3– Стлб. 62.
[Закрыть].
Современники относили к числу примечательных особенностей предвоенного периода страстное обсуждение в рабочей среде «вопросов чести и совести». Линия косвенного самооправдания, избранная Малиновским на суде в 1918 г., находит объяснение именно в тогдашнем умонастроении: он обращался в лице судей к рабочим, какими он знал их до того, как попал в плен. Он помнил их непримиримость после его «дезертирства» из Думы. Помнил он также, как профсоюзная печать осуждала эпидемию падения нравов после 1905 г. на петербургских заводах. Отсюда объяснение предательства страхом, что товарищи узнают о позорном пятне в его жизни – воровстве. Как бы мы не оценивали степень искренности Малиновского, нельзя не заметить, что его покаяние на суде – своеобразный слепок многочисленных покаянных писем штрейкбрехеров, печатавшихся накануне войны в легальных рабочих газетах. Вот одно из них: «Я, нижеподписавшийся, станковый печатник Павлов приношу свое чистосердечное раскаяние перед вами, товарищами, в том, что во время забастовки у Шварца, я по своему малосознанию нарушил рабочие интересы и был штрейкбрехером…» и т. д.[695]695
Современный мир. СПб., 1913. Т 4. С. 40.
[Закрыть] И точно так же Малиновский оправдывался на суде тем, что в момент поступления на службу в охранку он еще не был настоящим социалистом, но затем (в плену) стал им, и это позволяет ему надеяться на прощение хотя бы в далеком будущем…
До определенного момента в революционном сознании сохранялись гуманистические черты. М.М. Пришвин писал, что «чувство ответственности за мелкоту, за слезу ребенка, которую нельзя переступить и после начать хорошую жизнь», прививалось «в большой степени и социалистами»[696]696
Пришвин М М. Дневник 1930 г. // Октябрь. 1989. № 7. С. 175.
[Закрыть]. Но эта довольно слабая тенденция была оттеснена и подавлена, когда жесткое «классовое» противостояние переросло в гражданскую войну. В.И. Вернадский обращал тогда внимание на «явную аномалию»; в обоих враждующих лагерях, но особенно в большевистском, на авансцену вышли «не лучшие, а худшие», среди которых «теряются идейные, честные люди»; «жизнь выдвинула на поверхность испорченный, гнилой шлак, и он тянет за собой среднюю массу». Эти категории Вернадский различал, таким образом, не с точки зрения близости к собственным политическим взглядам, не по социальному положению или уровню образованности, а всецело на основании нравственных критериев. Худшие, пояснял он, это «воры, грабители, убийцы и преступные элементы»[697]697
Вернадский В. «Пересмотреть все основы нашей жизни» // Век XX и мир. 1989. № 6. С. 41.
[Закрыть].