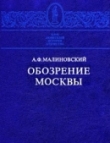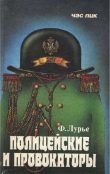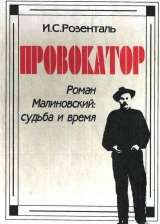
Текст книги "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время"
Автор книги: Исаак Розенталь
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Глава 2. ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Вероятно, он прибегал к недозволенным методам, ведь во всех странах полицейская служба больше похожа на царскую охранку, чем нам хотелось бы думать.
Г. Честертон
Мало кто в Москве не знал серый двухэтажный дом в Большом Гнездниковском переулке. Принадлежал он учреждению таинственному – Московскому охранному отделению. Непроницаемо забеленные стекла и решетки на окнах первого этажа ограждали происходящее внутри от излишне любопытных взоров. После того, как во время декабрьского восстания 1905 года в помещение охранки эсеры бросили ночью из промчавшейся мимо пролетки две бомбы, спешно сооруженная защитная «рогатка» отделила дом от тротуара, ограничив и без того узкий проезд.
Современник, побывавший в этом здании вскоре после свержения монархии, рассказывал, как «с невольным трепетом» перешагнул порог ворот и со двора, через один из девяти подъездов поднялся па второй этаж, где находился кабинет начальника охранного отделения – большая комната с медвежьей шкурой на полу и письменным столом с «бессчисленными телефонами». Телефоны связывали охранку прежде всего с полицейскими участками. Оттуда вызывали на допрос арестованных (но имелась и своя тюремная камера). Связь поддерживалась также с «черным кабинетом» на московском почтамте – там перлюстрировались подозрительные письма, после чего копии поступали в охранку для «разработки».
И еще один элемент оформления кабинета бросался в глаза: стены его были увешаны схемами, диаграммами, графиками, начиная с генеалогического древа российского свободомыслия и кончая чертежами, составленными на основе дневников наружного наблюдения. Помимо того, что они служили «наглядными пособиями» для обучения сыскной науке, вид их должен был поразить допрашиваемых, подталкивая к мысли: стоит ли упорствовать, если властям столь многое уже известно?[69]69
Вознесенский А.Н. Москва в 1917 году. М.; Л., 1928. С. 14–18.
[Закрыть]
Роман Малиновский очутился здесь весной 1910 г. – через четыре года после события, которое, казалось, открывало перед ним совсем другие пути.
30 апреля 1906 г. 2 тысячи петербургских рабочих-металлистов собрались в Народном доме графини Паниной, чтобы учредить свой профессиональный союз. Прошло две недели с момента подачи устава союза на регистрацию: согласно закону, это автоматически давало ему право действовать легально. Но 9 июля царь распустил I Государственную думу, столица была объявлена па положении чрезвычайной и усиленной охраны, все рабочие организации закрыты. Союз металлистов, однако, не только не распался, но и продолжал расти: накануне закрытия он насчитывал 9,5 тысяч членов, а в январе 1907 г. – 10,5. К маю удалось его заново легализовать.
До 1905 г. в России еще не было легальных профсоюзов, а в 1907 г. их действовало не менее 1150; 700 из них объединяли около 330 тыс. рабочих, и свыше 50 тыс. приходилось на столицу[70]70
История СССР. 1984. М» 1. С. 60–61.
[Закрыть]. Самым крупным был союз металлистов, он ставил своей задачей «активное вмешательство во все проявления общественной жизни в целях развития классового сознания рабочих и укрепления классовой организации» – но с оговоркой: «поскольку это не грозит явной опасностью открытому существованию и единству союза»[71]71
Материалы об экономическом положении и профессиональной организации петербургских рабочих по металлу. СПб., 1909. С. 138.
[Закрыть]. Здесь, как писали современники, была сосредоточена «соль» питерских рабочих[72]72
С-ский К Психология русского рабочего вопроса. СПб., 1911. С. 12.
[Закрыть].
Становление союза металлистов и укрепление его организационной структуры проходило при самом деятельном участии Романа Малиновского – с июля 1906 г. секретаря Петербургского районного отделения, с ноября – общегородского, а с мая 1907 г., после вторичной легализации, – секретаря центрального правления. Он охотно согласился занять эту нелегкую, но оплачиваемую должность. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что Малиновский входил в группу инициаторов создания союза, еще работая токарем на чугунолитейном, машиностроительном и арматурном заводе «Лангезипен», когда не было ни председателя правления, ни секретаря, ни платы за выполнение этих обязанностей.
Содержать «освобожденных» секретарей могли далеко не все профсоюзы того времени – материально немощные, преследуемые, организационно неокрепшие. Да и в союзе металлистов, самом многочисленном в столице и в стране, при 7,5 тыс. руб. в союзной кассе к концу 1907 г. в среднем приходилось 66 коп. на одного члена союза[73]73
Булкин (Семенов) Ф.А. На заре профдвижения: История петербургского союза металлистов. 1906–1914. Л., 1924. С. 184.
[Закрыть]. Малиновский получал за секретарство 40 руб. в месяц, из которых 10 руб. тратил на разъезды по делам организации. 17 мая 1908 г. он заявил на заседании правления, что «крайне стесненное материальное положение» заставляет его просить о прибавке жалования. Часть членов правления высказалась в том духе, что следует установить предел оплаты должностных лиц, но просьба Малиновского была уважена (с тем, что это решение должно быть утверждено общим собранием), и он стал получать 50 руб.[74]74
Вестник рабочих по обработке металла. СПб., 1908. М® 2. С. 6.
[Закрыть] Эта сумма и в дальнейшем, после Малиновского, оставалась наивысшей.
Отметим для сравнения, что заработок 11 % членов союза металлистов составлял тогда 60 руб. и выше, 39 % – от 40 до 60 и 50 % – менее 40[75]75
Материалы об экономическом положении и профессиональной организации… С. 101.
[Закрыть], и это при том, что союз охватывал, как говорили тогда, «лучше поставленные слои» среди металлистов столицы, а питерские металлисты вообще превосходили по уровню заработной платы рабочих других районов и отраслей промышленности[76]76
Кирьянов Ю.И. Жизненный уровень рабочих России (конец XIX – начало XX вв.). М., 1979.
[Закрыть]. И еще одно свидетельство, чтобы покончить с вопросом, действительно ли Малиновский примкнул к рабочему движению «в корыстных целях». По словам большевика И.П.Гольденберга (Мешковского), Малиновский тогда «вел прямо полусобачье существование в какой-то каморке», но «отличался полным бескорыстием – через его руки проходили большие суммы, и никогда ничего не пропадало»[77]77
Дело провокатора Малиновского. С. 32.
[Закрыть]. Корысти материальной здесь бесспорно не было.
Выступая перед рабочими, он внушал им, что петербургский союз металлистов превратится в дальнейшем во всероссийский, что он принципиально отличается от формально тогда еще существовавшего общества, созданного Г.Гапоном, и так называемого смесовского союза, оторванных от общепролетарского движения (оба они сошли со сцены в 1907 г.). «Мы имеем полное основание рассчитывать на блестящее будущее нашего союза», – говорил Малиновский[78]78
Рабочий по металлу. 1906. № 2.
[Закрыть].
Будучи уже депутатом IV Государственной думы, Малиновский в одном из выступлений рассказал об этой организации, членом которой он был «в продолжение трех с половиной лет со дня [начала] ее существования». Если, говорил он, «российское профессиональное движение развивалось… в небольших размерах», то петербургский союз металлистов – «дело совершенно другое…тут мы имеем дело уже с организацией западно-европейского типа». И дальше бывший секретарь союза со знанием дела сообщил равнодушно внимавшему большинству депутатов о суммах выдававшихся союзом пособий, о расходах на культурные цели, о том, что в библиотеке союза было 5200 томов книг, об издании печатного органа союза металлистов (64 тыс. экземпляров!), о научных докладах и анкетных обследованиях, об оказываемой членам союза юридической и медицинской помощи. Он спрашивал: какие мотивы руководят семейным рабочим, имеющим «ничтожный заработок» – 90 коп. в день, когда он платит 40 коп. профсоюзных взносов в месяц? – и отвечал: «Я думаю, что если бы я в сберегательную кассу вносил ежемесячно не 40 коп., а 50 коп., то не сделал бы того добра для своих детей, которое я сделаю, если буду укреплять рабочую организацию»[79]79
Государственная дума. 4-й созыв. Стенографические отчеты 1912–1913 гг. Сессия I. Ч I. СПб., 1913. Стлб. 781.
[Закрыть].
Видимо, это прошлое, которому он уже изменил, было ему все еще дорого. Тогда он отдавал союзу металлистов все свои силы и способности. Никто не мог лучше, чем он, воодушевить, заинтересовать, втянуть в работу новых людей, действуя в нелегких условиях наступавшей реакции и апатии рабочих. Его выступления производили впечатление убежденностью, ораторским искусством и в то же время основательной подготовленностью, о чем бы он не говорил. Душой союза называл его историограф союза металлистов Ф.А.Булкин (Семенов), сам работавший в этой организации.
И он утверждал, что Малиновский «был мастер на интриги и склоку, но умел всегда прикрываться видимостью фракционных и идейных разногласий». Он вспоминал, как Малиновский кичился своим шляхетским происхождением и любил «разыгрывать начальство», а, с другой стороны, под видом защиты самодеятельности и идейной самостоятельности рабочих старался оттеснить от работы в союзе социал-демократов – интеллигентов[80]80
Булкин (Семенов) Ф.А. Указ соч. С. 199–200.
[Закрыть]. Сходным образом действовал он в рабочем кооперативе «Трудовой союз»[81]81
Поссе В.А. Мой жизненный путь. Дореволюционный период (1864–1917 гг.). М; Л… 1929. С. 431, 435.
[Закрыть]. Да и сам Малиновский впоследствии не скрывал: отношения его с редакторами союзного журнала «Наумом» (А.М.Гинзбургом) и «Томским» (В.Л.Коппом) «все время были натянутые», но якобы на почве партийных разногласий (сам он тоже входил в редакцию)[82]82
Материалы следственной комиссии ЦК РСДРП по делу Р.В. Малиновского // Вопросы истории. 1993, >$> 10. С. 93. Большевик М.П Томский (Ефремов), о котором говорится в примечании к публикации (с. 104), в союзе металлистов не работал.
[Закрыть]. Но преобладало мнение о Малиновском как о человеке талантливом, энергичном, волевом и темпераментном, способном влиять на других.
А ревнивое, недоверчивое отношение к интеллигенции было свойственно не одному Малиновскому, грешил по этой части тот же Булкин. Рассказывая в книге о союзе металлистов о том, как Малиновский «вел травлю работавших в союзе интеллигентов», «он в то же время утверждает, что отстранение интеллигентов от союзной работы было явлением неизбежным, «рабочая интеллигенция» (к которой он причислял и себя) «естественно» должна была претендовать на полное руководство, так что Малиновский своими интригами только ускорял объективный процесс[83]83
Булкин (Семенов) Ф.А. Указ. соч. С. 200.
[Закрыть]. Для биографии Малиновского здесь важно то, что его поведение не воспринималось как из ряда вон выходящее и, вероятно, находило сочувствие-у рядовых членов союза металлистов.
В составе рабочих (социал-демократических) групп делегатов Малиновский принимал участие в трех легальных всероссийских съездах – в съезде обществ народных университетов в Петербурге в январе 1908 г., в кооперативном в апреле 1908 г. и в съезде фабрично-заводских врачей в апреле 1909 г. (оба последних съезда проходили в Москве). Профсоюзы и другие рабочие организации не имели права на какие-либо совместные акции в масштабе страны; организованное участие в такого рода съездах позволяло им отчасти возместить недостаток легальных контактов и широко заявить о своей позиции по общим для всех профессий вопросам рабочего движения.
На съезде фабрично-заводских врачей Малиновский – единственный из членов рабочей группы – выступил с двумя докладами: «Страхование от инвалидности и старости» и «Медицинская помощь на петербургских заводах». Тема первого доклада была животрепещущей: правительственные законопроекты, внесенные в Государственную думу, предусматривали страхование рабочих только от болезни и несчастных случаев. Как всегда, во всеоружии фактов Малиновский показал, что предприниматели и правительство безразличны к судьбе «изношенных на службе капитала рабочих». Он доказывал, что страховое дело следует передать в руки самих страхуемых, назвал бездоказательными утверждения, будто рабочие не справятся с этим делом, и закончил тем, что от «современного правительства» не приходится ожидать справедливой реформы страхования, ибо для этого необходимо изменить налоговую систему в ущерб имущим классам. Несколько раз он выступал также в прениях по другим докладам.
Выступления Малиновского были замечены. Теперь его знали не только в Петербурге – отчеты и статьи о съездах публиковались в газетах разных направлений[84]84
Труды Первого Всероссийского съезда фабрично-заводских врачей и представителей фабрично-заводской промышленности. М., 1910. Т. 1. С. 89, 310–311, 336, 423–426; Т. 2. С. 51–55.
[Закрыть].
Съезды позволили ему ближе познакомиться с видными большевиками – Виктором Ногиным («Макаром») и Николаем Скрыпником («Г.Ермолаевым»). Первый руководил подготовкой рабочих делегатов к кооперативному съезду и был арестован накануне его открытия. Скрыпник участвовал и в кооперативном съезде и в съезде фабрично-заводских врачей; кроме того, еще раньше они встречались в кооперативе «Трудовой союз». Но в петербургских делегациях съездов преобладали меньшевики, и, судя по всему, их мнение значило для Малиновского больше. Среди видных социал-демократов, с которыми ему приходилось в той или иной мере общаться, были также Д.Б.Рязанов, Л.Б.Каменев, П.Н.Колокольников, В.Гриневич, Г.Е.Зиновьев.
В годы реакции он впервые соприкоснулся с российским «парламентом». По свидетельству И.П.Гольденберга – члена ЦК РСДРП, отвечавшего за помощь социал-демократической фракции III Государственной думы, Малиновский был деятельным членом образованной при фракции рабочей комиссии[85]85
Дело провокатора Малиновского. С. 32.
[Закрыть]. О ней он вспомнил, когда подобная же комиссия была создана в IV Думе: обращаясь к ее членам, он заметил, что старая комиссия в момент создания насчитывала 18 человек, а потом осталось всего лишь трое, и просил отнестись к делу серьезнее своих предшественников[86]86
ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1914. Д. 307. Л. 213.
[Закрыть]. В другой речи – уже с думской трибуны он говорил, что ему приходилось неоднократно посещать заседания III Думы, слушать заявления председателя Совета министров и министров[87]87
Государственная дума. 4-й созыв. Стенографические отчеты 1912–1913 гг. Сессия I. Ч. 1. Стлб. 314.
[Закрыть]. Как знать, быть может, еще тогда появилась у него честолюбивая мысль о депутатстве? Он ее, видимо, и не скрывал; когда выборы в новую Думу уже состоялись, один из петербургских товарищей П.Сицинский написал ему: «Доволен ли ты? Ведь исполнилась твоя заветная мечта. Ты так хотел быть депутатом»[88]88
ГАРФ. Ф. 1467. On. I. Д. 38. Л. 45.
[Закрыть].
Что можно сказать о политических взглядах Малиновского в петербургский период его деятельности? Свидетельства современников на этот счет чрезвычайно разноречивы. В 1912 г., в связи с избранием Малиновского в Думу, ликвидаторская газета «Луч» напечатала его биографию. По убеждениям он большевик, говорилось в ней, но это не помешало ему выступить против своих единомышленников в 1908 г., когда они добивались представительства партии в профсоюзах, и на 1-м съезде фабрично-заводских врачей[89]89
Луч. 1912. 28 окт.
[Закрыть]. Меньшевик Булкин также утверждал, но много позже, что, работая в союзе металлистов, Малиновский тяготел к большевизму и под влиянием Михаила Калинина окончательно примкнул к этому течению; стремление проводить в союзе директивы Петербургского Комитета РСДРП было причиной его столкновений с председателем союза меньшевиком Александром Яцыневичем[90]90
РЦХИДНИ. ф. 37. Оп. 2. Д. 35756; Булкин Ф. Департамент полиции и союз металлистов // Красная летопись. 1923. Мё 8. С. 226; Его же. На заре профдвижения. С. 199, 201.
[Закрыть].
Однако нет данных, говорящих о том, что своим единомышленником безоговорочно признавали его сами большевики. Вот как объяснял свой отказ от должности помощника секретаря союза металлистов (то есть Малиновского) Александр Шотман: «…Если бы ты знал, – писал он в октябре 1908 г. товарищу в Одессу, – что можно делать и что делают в настоящее время в союзе, то не удивился бы моему уходу. Вся работа там в руках ме-ков, и хотя бе-ки могли бы их оттуда вытолкнуть, но в настоящих условиях бе-ки все равно ничего не могли бы сделать, поэтому все бе-ки ограничиваются простым участием в союзе в качестве простых членов. Кроме работы в союзе, идет настоящая наша работа, которая меня больше интересует…»[91]91
ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1909. Д. 5. Ч. 51. Т. 2. Л. 70.
[Закрыть]. Но Малиновского та работа, которую Шотман называл «настоящей», – нелегальная, партийная работа – нисколько тогда не привлекала. Оставаясь вплоть до своего ареста 15 ноября 1909 г. секретарем союза, он не состоял членом каких-либо партийных комитетов, хотя кой-какую помощь – чисто техническую – Петербургскому комитету РСДРП оказывал (предоставлял квартиру для собраний, изготовлял печати для паспортов).
По свидетельству меньшевика Василия Чиркина, также работавшего в союзе металлистов, Малиновский был тесно связан с меньшевиками и крайне резко отзывался о большевиках[92]92
Дело провокатора Малиновского. С. 158.
[Закрыть].
А.М.Пирейко – единственный большевик, входивший в конце 1908 – начале 1909 гг. в Центральное бюро петербургских профсоюзов, называл Малиновского среди наиболее видных членов бюро-ликвидаторов, но относил его к «Болоту»[93]93
Пирейко А. Партийная работа во 2-м Городском районе Петербурга (1905–1910 гг.) // Пролетарская революция. 1923. Мё 4. С. 155.
[Закрыть]. По существу так же аттестовал его Г.Е. Зиновьев, избранный осенью 1907 г. вместе с Г.Д.Лейтейзеном (Линдовым) и М.П.Томским в состав комиссии Петербургского комитета РСДРП по работе в профсоюзах[94]94
Петербургский комитет РСДРП. Протоколы и материалы заседаний. Июнь 1902 – февраль 1917. Л., 1986. С. 201, 319.
[Закрыть]. У Зиновьева (согласно его показаниям в Чрезвычайной следственной комиссии) сложилось впечатление, что Малиновский тогда был ближе к меньшевикам, чем к большевикам, но в общем стремился занимать нейтральную позицию между обеими фракциями; и на общественных съездах он защищал линию партии, но никогда не примыкал вплотную к большевикам[95]95
Дело провокатора Малиновского. С. 55.
[Закрыть].
В воспоминаниях советского времени Зиновьев оценивал тогдашнюю позицию Малиновского по-другому: как и Яцыневич, Малиновский держался большевиком, но не вмешивался в острую фракционную драку, «сознательно держался несколько в сторонке», «осторожничал», не участвуя ни в собраниях ПК, ни в партийных конференциях, которые были ареной борьбы между большевиками и меньшевиками. Такая позиция нравилась многим рабочим, «ибо примиренческие настроения были различны в воздухе». Зиновьев ссылался также на мнение М.П.Томского, Н.А.Скрыпника и И. П.Ногина, сообщавших ему, когда он уже перебрался за границу, что Малиновский «остался верен партии, но еще больше осторожничает»[96]96
Зиновьев Г.Е. Воспоминания: Малиновский // Известия ЦК КПСС. 1989. Мё 6. С. 185–187, 189.
[Закрыть].
Так как же – «держался большевиком» или «был ближе к меньшевикам»? Если учесть, что воспоминания писались в начале 30-х гг., и Зиновьев, по его же словам, уже не помнил своих показаний в Чрезвычайной следственной комиссии, следует признать сказанное им раньше, в 1917 г. все же более точным. Бывало и так, что впечатление близости Малиновского к большевизму создавалось у рядовых членов союза (например, у будущего депутата А.Е.Бадаева) единственно благодаря яркой форме его выступлений.
А сам Малиновский убеждал в 1918 г. судивших его членов Революционного трибунала в том, что был социал-демократом и большевиком «потому, что попал на этот поезд, попади я на другой – возможно, что с такой же быстротой мчался бы и в другую сторону». Проще всего увидеть в этих словах саморазоблачение изначально беспринципного авантюриста. Но ведь тут же он заявлял, что никак не мог быть черносотенцем, ибо был поляком, сыном ссыльного и «до глубины души презирал и ненавидел проклятый строй», что ликвидаторскую тактику не одобрял, об эсерах вообще не знал, зато большевизм привлекал его «своей чистой, простой и без колебаний тактикой, от него пахло потом рабочей рубахи»[97]97
Дело провокатора Малиновского. С. 141, 211.
[Закрыть].
Видимо, для полной ясности нужно разобраться в том, что собой представлял в плане политическом тот «поезд», на который попал Малиновский, – российское профсоюзное движение, каковы были взгляды тех, с кем он постоянно общался, – профсоюзных активистов.
Допустив под натиском революции формальную легальность профсоюзов, правительство не дало им права защищать хотя бы экономические интересы рабочих. Буржуазные тенденции в политике царизма по рабочему вопросу так и не взяли верх над традиционной полицейски-охранительной линией. Давление «внешних условий» постоянно ставило стремившихся к профессиональному объединению рабочих перед выбором: отказаться от создания организаций, противостоящих так или иначе капиталистам и властям, или же, организуя профсоюзы на основе царского законодательства, выходить за рамки легальности, подвергаясь риску репрессий. Выросшие из бурного стачечного движения периода революции профсоюзы неизбежно приобретали в таком случае черты революционных организаций.
Первые же шаги профсоюзного движения показали, что в подавляющем большинстве профсоюзов преобладает социал-демократическое влияние. Это признавали все – и кадеты, пытавшиеся вначале крайне неудачно конкурировать с социал-демократами, и реакционеры, и, наконец, департамент полиции, усмотревший в массовых рабочих организациях новую опасность для существующего строя. Но при этом органы политического сыска на первых порах не различали в этих организациях большевиков и меньшевиков – и не столько из-за недостаточной осведомленности, сколько ввиду действительно не слишком глубокого размежевания среди рабочих-социал-демократов.
В составе профсоюзного актива, который, естественно, был более политически дифференцирован, доля нефракционных социал-демократов тоже была значительной. Так, среди 29 участников Всероссийской конференции профсоюзов металлистов (апрель 1907 г.) оказалось 11 меньшевиков, 5 большевиков, 10 нефракционных социал-демократов[98]98
Первая конференция профессиональных союзов рабочих по металлу Московского промышленного района. М., 1907. С. 101.
[Закрыть]; среди 64 делегатов Всероссийской конференции печатников, проходившей в том же году, – 26 меньшевиков, 8 бундовцев, 4 большевика, 3 польских социал-демократа, 6 нефракционных, 5 сочувствующих РСДРП и 7 эсеров[99]99
Печатное дело. М., 1907. Ms 25. С. 3.
[Закрыть]. Из 12 московских профсоюзов, представленных на 1-м Всероссийском съезде фабрично-заводских врачей (1–6 апреля 1909 г.), 6 профсоюзов представляли делегаты-большевики, 3 – большевики и меньшевики-партийцы, 1 – меньшевики, 2 – меньшевики-партийцы и социал-демократы с невыясненной фракционной принадлежностью. Из 7 петербургских профсоюзов 3 были представлены большевиками, 1 – меньшевиками и 3, в том числе союз металлистов, – нефракционными социал-демократами, одним из которых был Малиновский[100]100
Горелов И.Е., Шулятиков И.В. Состав рабочей группы 1-го Всероссийского съезда фабрично-заводских врачей // История СССР. 1978. Ne 6. С. 76.
[Закрыть].
Численность рабочих организаций сократилась, но «организованность» тех, кто оставался в их рядах, предполагала «сознательность», а сознательность понималась социал-демократами как революционность. В условиях упадка рабочего движения она выражалась прежде всего в стремлении сохранить революционные традиции, не дать изгладиться из памяти рабочих событиям «первого натиска бури». Как вспоминали члены кружка петербургских рабочих-большевиков (входивших и в союз металлистов – среди них были А.В.Шотман, И.Г.Правдин, М.И.Калипин, С.В.Малышев и другие, хорошо знавшие Малиновского), они «очень часто сходились и беседовали о былом…» и в то же время «строили планы на будущее»[101]101
Митревич А. Воспоминания о революционном рабочем движении // Пролетарская революция. 1922, Мё 4. С. 219; Шотман А.В. Как из искры возгорелось пламя. М., 1935. С. 160.
[Закрыть]. А.К.Гастев – в годы реакции член правления союза – записал типичный для того периода разговор профсоюзных активистов: «Скоро ли кончатся эти ночи, и мы снова заговорим по-октябрьски? (то-есть так, как в дни всероссийской октябрьской стачки 1905 г. – И.Р.)…Неужели годами, неужели десятками лет тянуться будет эта жизнь? После мучительной работы спать, как брошенная колода. Завтра вставать, чтобы опять гнуть спину господину капиталу… После дневпой каторги разве способны мы «развивать свое пролетарское сознание»?»
Их не удовлетворяла поэтому и роль, какую они играли в профсоюзе, где, несмотря на демократические процедуры обсуждения, часто принимались решения, предлагаемые советниками из интеллигенции, – как выразился не слишком дружелюбно один рабочий, – «особым сословием вершителей наших судеб», подобно тому, как раньше «специалисты-революционеры ковали наше революционное сознание». И чувствуя «предел своего развития» при существующем строе, они видели единственный выход в новой революции[102]102
Жизнь для всех. СПб., 1910. Me 10. Стлб. 70–71.
[Закрыть].
Такое умонастроение должно было быть близко Малиновскому. Оно не вытекало из идейных основ какого-то одного социалистического течения. Во всех составах правления союза металлистов (до первой победы большевиков в апреле 1913 г.) имелись, наряду с большевиками, меньшевиками и эсерами, в большом количестве нефракционные социал-демократы и беспартийные[103]103
ГАРФ. Ф. 6860. On. 1. Д. 172. а. Л. 55.
[Закрыть]. Примем во внимание, что далеко не всегда такой состав отражал политические симпатии в низах. Предпочтение тому или иному кандидату отдавалось не столько в результате сопоставления политических взглядов, сколько по тому, как проявил себя кандидат в профсоюзной работе; поглощенность этой работой почти наверняка обеспечивала поддержку[104]104
Булкин (Семенов) Ф.А. На заре профдвижения. С. 226.
[Закрыть], а Малиновский, как мы видели, был действительно ею почти целиком поглощен.
С другой стороны, многие профсоюзные активисты из нефракционных намеренно сторонились острых политических вопросов и не хотели вникать в существо полемики, бушевавшей на страницах заграничных социал-демократических изданий. Этим изданиям они противопоставляли газеты и журналы, издававшиеся в России – пусть принадлежавшие разным направлениям, но пока что обходившиеся без полемических излишеств.
5 февраля 1912 года один из работников петербургского союза металлистов (по собственному определению, «меньшевик-объединенец») писал ссыльному товарищу: «От общепартийной жизни я почти оторван. Работаю только в союзе по металлу, да при газетах «Звезда» и «Живое дело». «Нашей» литературы не встречали уже три года. Да и зачем она нам? У нас есть «Звезда», «Живое дело», «Металлист». Указок ленинского и проч. пошиба нам не надо. Заграничных рацей нс перевариваем мы теперь. Ленин, Плеханов постолько хороши, поскольку они действуют в области политической экономии, философии» (поясним, что «Звезду» издавали в Петербурге большевики, а «Живое дело» – меньшевики; редактировавший «Живое дело» Константин Ермолаев в письме своему другу Петру Гарви подтверждал: «Звезду» распространяют те же лица, что и «Живое дело»). «…Дрязги надоели, – продолжал тот же рабочий-металлист. – Ленин украл несколько тысяч из кассы Центрального комитета, Мартов и другие не хотят того-то, и т. д. Поди разбирайся в той сутолоке, которую заварили…»[105]105
ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1912. Д. 5. Ч. 57. Лит. Б. Л. 22.
[Закрыть]. Так рассуждали не только меньшевики; даже некоторые ленинцы – делегаты Пражской конференции говорили, отмечая непопулярность заграничной газеты «Социал-демократ», что она «пишется только для интеллигенции», а рабочим «понятно лишь одно – очень сильно ругаются»[106]106
Протоколы VI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП // Вопросы истории КПСС. 1988. Me 6. С. 53.
[Закрыть].
Таким образом, межеумочный, как говорили встарь, строй взглядов секретаря столичного союза металлистов не был чем-то исключительным в той среде, в которой он вращался. Примиренческие настроения действительно были «разлиты в воздухе».
На 28 декабря 1909 г. было назначено открытие в Петербурге еще одного широкого форума с участием рабочих – Всероссийского съезда по борьбе с пьянством. К съезду готовились профсоюзы, культурно-просветительные общества, социал-демократическая фракция III Государственной думы. Рабочие организации избрали на съезд до 40 делегатов и среди них Малиновского, но 15 ноября он был арестован вместе с другими участниками нелегального собрания, на котором предполагалось обсудить представляемые на съезд доклады.
Участвовать в съезде ему не довелось. После двухмесячной отсидки в доме предварительного заключения и запрещения жительства в Петербурге он вынужден был в феврале 1910 г. перебраться в Москву. Правление союза металлистов помогло ему материально, собрали деньги и рабочие. Когда он зашел перед отъездом в помещение союза, его встретили аплодисментами.
Снова пришлось вспомнить токарное ремесло, почти забытое за три года секретарства (сначала он поступил на завод Штолле за Бутырской заставой, потом перешел с помощью Г.М.Кржижановского в Сокольнический трамвайный парк)[107]107
Дело провокатора Малиновского. С. 139.
[Закрыть]. Москва не сулила ему прежних возможностей и масштабов общественной деятельности. Слабые профсоюзы объединяли здесь небольшое число рабочих, профсоюз металлистов был закрыт еще в июле 1907 г. Кроме попыток поддержать существование уцелевших профсоюзов, работа местных социал-демократов распространялась на кооперативы и культурно-просветительные общества, также крайне малочисленные. Преобладали среди московских рабочих тесно связанные с деревней текстильщики. Реакция здесь казалась особенно безысходной.
Единственной отдушиной была возможность пополнить знания. Он запомнил лестные спора, сказанные ему в Петербурге социал-демократкой Кувшинской, – «Товарищ Роман, учитесь, Ваше будущее впереди», и теперь поступил на вечерние курсы по истории в недавно открытом народном университете имени Шанявского и на курсы по кооперации. Здесь он познакомился со многими социал-демократами-москвичами, в том числе с Валерианом Плетневым.
Один из сторонников ликвидаторства как-то бросил фразу: «Рабочим в подполье невмоготу!» Настроение Малиновского эта фраза выражала как нельзя лучше. Не потому, что он был убежденным ♦ликвидатором», а просто в силу особенностей личного, преимущественно легального опыта. С легальностью связывал он и свои честолюбивые устремления, заторможенные высылкой из столицы.
А тем временем РСДРП раздиралась противоречиями. Большевики-ленинцы порвали со своими недавними единомышленниками – «отзовистами», те, кого называли ликвидаторами, ратовали за легальную партию, появились группы меньшевиков-партийцев и большевиков-примиренцев. Возможно ли снова их объединить на базе общих целей, единой тактики? На этот счет также не было единого мнения – даже среди большевиков. Ясно было одно: партия, выступающая от имени рабочих, но не умеющая сохранить и расширить связи с рабочими, обречена. Где бы ни находились зарекомендовавшие уже себя на общественном поприще рабочие, они были теперь в особой цене.
Начало 1910 г. ознаменовалось последней попыткой враждующих социал-демократических фракций найти путь к примирению. В Париже состоялся январский (объединительный) пленум ЦК РСДРП. Во исполнение его решений в Россию направился опытный большевик-подпольщик Ногин, которому было поручено сформировать Русскую коллегию ЦК – практический центр, способный наладить революционную работу во всероссийском масштабе и имеющий право кооптации (поскольку сознавалась неизбежность арестов).
Ногин надеялся на трех меньшевиков-петербуржцев, избранных в ЦК еще в 1907 г., на Лондонском съезде, – К.М.Ермолаева, П.А.Гарви и И.А.Исува, но они категорически отказались войти в состав Русской коллегии, заявив, что считают вредным само существование нелегального ЦК. Вмешательство такой коллегии в процесс естественного рождения новой, открытой партии было бы подобно, по их мнению, вырыванию плода из чрева матери на втором месяце беременности.
Неудача не обескуражила Ногина. Продолжая поиск подходящих «практиков», он побывал в Петербурге, Иваново-Вознесенске, Баку. В Москве он установил связь с председателем центрального бюро московских профсоюзов большевиком М.И.Фрумкиным и с меньшевиком-партийцем В.П.Милютиным. Январский пленум единодушно высказался за введение в ЦК рабочих и, как вспоминал Фрумкин, «обсуждая кандидатуру рабочего в ЦК, мы не могли найти более яркой фигуры, чем Малиновский. Он, правда, часто колебался в сторону меньшевиков, но мы считали эти колебания присущими легальной работе профсоюзов, рассчитывая, что активное вступление в руководящую политическую работу выпрямит зигзаги прошлого»[108]108
Германов Л. Из партийной жизни в 1910 году // Пролетарская революция. 1922. Me 5. С. 231–232.
[Закрыть]. Имя Малиновского назвал Ногину перед его отъездом из Парижа и Зиновьев, одобрил эту кандидатуру приехавший позднее в Москву член ЦК И.Ф. Дубровинский. Вероятно, и самому Ногину, когда-то рабочему, а ныне профессиональному революционеру, неотличимому уже от партийцев-интеллигентов, задача приобщения к цекистской деятельности передовых пролетариев представлялась чрезвычайно важной.
В апреле – мае 1910 г. Ногии несколько раз встречался с Малиновским и его товарищем Саввой Шевченко, также высланным из Петербурга (они жили в одной квартире). Чтобы присмотреться к ним и убедиться, способны ли они вести нелегальную работу, Ногин поручил им организовать в Ярославле типографию ЦК для печатания листовок. Малиновский занимался закупкой шрифта и бумаги, в Ярославль выезжал Шевченко. Для решения вопроса о составе Русской коллегии Ногин вместе с Дубровинским, Милютиным, Малиновским и Шевченко дважды проводили нелегальные совещания – в Петровском парке и на Воробьевых горах. Примечательно, однако, что прямое предложение стать членом ЦК Малиновского не обрадовало, вероятно, он не считал его высокой для себя честью. По словам Ногина, он «ломался и как-то нс давал определенного ответа», выражая готовность быть лишь «подсобным работником». В конце концов он все же согласился и даже бросил работу на заводе, рассчитывая на жалованье из партийной кассы. Предполагалось, что вскоре он отправится с партийными поручениями на Урал[109]109
Дело провокатора Малиновского. С. 37–39, 139; Материалы следственной комиссии… // Вопросы истории. 1993. Me 11–12. С. 72.
[Закрыть].