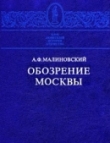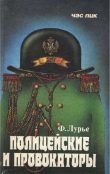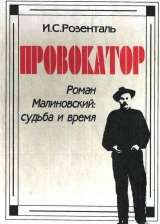
Текст книги "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время"
Автор книги: Исаак Розенталь
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Ленин и его товарищи, возвращавшиеся из эмиграции, узнали о разоблачении Малиновского в Торнео – пограничном городе в Финляндии, из заметки Каменева «Иуда», напечатанной 26 марта в «Правде», – это известие, вспоминал Зиновьев, их ошеломило.
Листая в полутемном зале станции русские газеты и наткнувшись на эту заметку, Ленин «побледнел. Встревожился ужасно… Несколько раз Ильич с глазу на глаз возвращается к этой теме. Короткими фразами. Больше шепотом. Смотрит в глаза. «Экий негодяй! Надул-таки нас. Предатель! Расстрелять мало»[623]623
Зиновьев Г.Е. Указ. соч. С. 201.
[Закрыть].
Второе по счету официальное расследование дела Малиновского несравнимо по своим результатам ни с первым, ни с третьим. Чрезвычайная следственная комиссия, опиравшаяся на неограниченную поддержку новой власти, располагала возможностями, каких не могло быть у эмигрантов. Разместилась она в Зимнем дворце. «Подымаюсь по лестнице – комнаты направо, комнаты налево, – везде строчат, гудят, как шмели, трещат машинки. Десятки судей, прокуроров, председателей судов, палат пристегнуты сюда в качестве профессиональных работников», – так описывал свои первые впечатления С.А.Коренев – один из 25 (по другим данным – 59) «пристегнутых» к комиссии следователей[624]624
Коренев С. А. Чрезвычайная комиссия по делам о бывших министрах // Архив русской революции. Берлин, 1922. Т. 7. С. 15.
[Закрыть]. Расследование 1917 г. выделяется и количеством допрошенных по делу Малиновского свидетелей (до трех десятков), и общим объемом времени, затраченного на выяснение всех обстоятельств дела, – расследование продолжалось до осени. Тот факт, что сам Малиновский оставался вне пределов досягаемости, существенно не повлиял на доказательную силу выводов, полученных путем сопоставления свидетельских показаний и документов, впервые извлеченных из полицейских архивов.
Истории провокаторства Малиновского комиссия отвела большое место в допросах бывших руководителей полицейского ведомства – С.П.Белецкого, С. Е.Виссарионова, А.А.Макарова, И.М.Золотарева, В.Г.Иванова, А.Т.Васильева, А.П.Мартынова и других. Из действующей армии вызвали В.Ф.Джунковского. Дважды был допрошен В.Л.Бурцев. Из меньшевиков допросили Н.С.Чхеидзе, А.М.Никитипа, В.Н.Малянтовича, В.Ф.Плетнева, А. Г.Козлова, Б. И.Горева, а также принадлежавших раньше к большевистской партии И.П.Гольденберга, А.А.Трояновского и И.Т.Савинова. Дали показания В.И.Ленин, Г.Е.Зиновьев, И. К. Кру некая, В.П.Ногин, А.И.Рыков, II. И. Бухарин, А.В.Шотман, Е.Ф.Розмирович, Я.М.Свердлов, А.Е.Бадаев, М.К.Муранов. Допросы проводились не только в Петербурге, но и в Москве. Г.И.Петровского должен был допросить – «для ускорения дела» – якутский прокурор, но к тому времени, когда поручение пришло в Якутск, Петровский уже уехал в Европейскую Россию и найти его не удалось[625]625
ГАРФ. Ф. 1467. On. 1. Д. 61. Л. 5.
[Закрыть]. Со своей стороны большевики выразили готовность принять все меры к розыску документов, оставшихся за границей, и немедленно передать их в комиссию[626]626
Правда. 1917. 17 июня.
[Закрыть] {4} [627]627
ГАРФ. Ф. 1467. On. 1. Д. 147; Д. 70. Л. 12 и об.; Д. 61. Л. 6.
[Закрыть]
Как бы параллельно действовал В.Л. Бурцев, которому было разрешено посещать места заключения и беседовать с охранниками и провокаторами. Поглощенный этой привычной для него работой, он, однако, выражал возмущение условиями их содержания – «грязь, часто голод, скученность и т. д.», в таких условиях «и нам редко приходилось сидеть при царском режиме». Однако ускорить решение дел, как предлагал Бурцев, не удалось, ни один судебный процесс при Временном правительстве так и не состоялся. Желание во всем разобраться казалось важнее осуждения или оправдания конкретных лиц.
И все же нельзя не согласиться с мнением, высказанным еще в 20-е гг.: в работе Чрезвычайной следственной комиссии «юриспруденция»… непосредственно подчинялась политике», а допросы, касавшиеся Малиновского, велись так, чтобы, «зацепившись за Малиновского, протянуть нити от департамента полиции ко всей партии большевиков»[628]628
Пролетарская революция. 1927, № 1. С. 238, 242.
[Закрыть]. Состав комиссии этому способствовал: среди ее членов преобладали меньшевики или близкие им деятели (Н.К.Муравьев, В.Н.Крохмаль, Н.Д.Соколов, Н.С.Каринский, П.Е.Щеголев и др.).
Зиновьев, ознакомившись с опубликованными в советское время стенограммами допросов, возмущался «шуточкой» председателя комиссии Муравьева, когда тот, допрашивая Бурцева, впервые изменил обычной для него солидной манере: «Теперь перейдем к очень для нас интересной теме о Малиновском. Это – модерн»[629]629
Падение царского режима. Т. 1. С. 313; Зиновьев Г.Е. Указ. соч. С. 189.
[Закрыть]. Дело, конечно, не столько в игривом тоне Муравьева, сколько в открытом противостоянии большевиков, с момента приезда Ленина, всем другим партиям и государственным структурам. Зиновьев переносил это противостояние и на комиссию; во время допроса он держался подчеркнуто вызывающе: «Голова у него задрана кверху, развалился в кресле, курит, на предлагаемые ему вопросы отвечает нехотя, а то и вовсе не отвечает…», – вспоминал следователь Коренев[630]630
Коренев С.А. Указ. соч. С. 26.
[Закрыть].
История Малиновского представлялась членам комиссии куда более актуальной, чем история провокаторов, действовавших в других партиях, таков смысл муравьевского «это – модерн». Несомненно, по этой же причине, в фокусе внимания комиссии оказалось избрание Малиновского депутатом IV Государственной думы. Дума рассматривалась как источник законной власти Временного правительства, посягательство на ее престиж – избрание депутатом агента охранки – оценивалось как доказательство преступности деятелей свергнутого режима, нарушивших «конституцию» – Манифест 17 октября. Но тем самым как бы подсказывался и другой вывод: большевики были вольными или невольными соучастниками преступлений царизма, во всяком случае не такими уж его противниками… Легко понять в таком случае, почему такой бесспорный факт, как поддержка кандидатуры Малиновского на выборах московскими меньшевиками и кадетами был оставлен в тени. Точно так же, решая вопрос о публикации полученных следствием материалов, А.А.Блок считал необходимым избегать всего, что могло бы сказаться отрицательно на авторитете новой власти. С этой точки зрения ему казалось нецелесообразным упоминать в связи с делом Малиновского имя Родзянко.
Шумные разоблачения агентуры царизма происходили на фоне резкого обострения социальных противоречий. Росло недовольство Временным правительством, все более притягательными становились крайние лозунги. Этим объясняются последующие действия комиссии. В июне 1917 г., не дожидаясь окончания следствия, она обнародовала в печати большую сводку материалов о Малиновском. Решение об этом принял министр юстиции П.II.Переверзев по договоренности с Н.К.Муравьевым[631]631
Речь. 1917. 16 июня.
[Закрыть] (еще 13 мая Переверзев хвалил комиссию за то, что она сделала чрезвычайно много в короткий промежуток времени[632]632
Блок А. Записные книжки. 1901–1920. М., 1965. С. 326.
[Закрыть]).
Официальная публикация о Малиновском еще больше взвинтила газетную кампанию, направленную против большевиков. Выбор момента был далеко не случаен: в обстановке острого кризиса Временному правительству важно было оттолкнуть хотя бы часть недовольных его политикой от ленинцев, создать у обывателя стереотип неприятия этой ультрарадикальной партии.
Достаточно произвольно интерпретируя сведения, добытые комиссией, газеты разных направлений принялись выпячивать фигуру Малиновского, ставя знак равенства между провокатором и большевистским ЦК, изображая партию Ленина слепым орудием в руках департамента полиции, а Малиновского – главной силой, определявшей ее политику. Утверждалось, будто царская полиция оберегала большевистские организации, подвергая разгрому только меньшевистские, хотя сами бывшие руководители департамента полиции отвергли этот подброшенный им следователями домысел. Ленин и большевистский ЦК обвинялись в намеренном укрывательстве провокатора в 1914 г. Всячески обыгрывалась многочисленность провокаторов у большевиков и затушевывалось то, что агенты охранки и в других партиях оставались в подавляющем большинстве неразоблаченными[633]633
Русское слово. 1917. 19 мая; 16 июня; Вперед. 1917. 26 мая; Единство. 1917. 27 мая.
[Закрыть].
Чрезвычайная следственная комиссия не обошла вопрос об «укрывательстве», иначе говоря, об отношениях Ленина с охранкой. В числе других бывших охранников был допрошен генерал А.И.Спиридович, автор трудов по истории партий эсеров и социал-демократов, предназначавшихся для специальной подготовки офицеров жандармского корпуса. Практическая деятельность генерала в органах политического сыска закончилась еще в 1905 г., задолго до начала секретного сотрудничества Малиновского. Спиридович показал, что сведения для своих трудов он черпал не из первоисточников; охранные отделения предоставляли ему только революционную литературу из своих библиотек. Списки секретных сотрудников, составлявших «совершеннейшую тайну», остались ему неизвестны, имен наиболее выдающихся сотрудников, например, Малиновского, он не знал[634]634
ГАРФ. Ф. 1467. On. 1. Д. 39. Л. 42.
[Закрыть].
Таким образом, когда Спиридович уже в эмиграции категорически заявлял, что Ленину было известно о службе Малиновского в департаменте полиции[635]635
Спиридович А. И. История большевизма в России от возникновения до захвата власти. Париж, 1922. С. 260.
[Закрыть], эту уверенность нельзя приписать особой осведомленности историка-жандарма. Опираться он мог и теперь не на первоисточники, а лишь на домыслы журналистов, писавших на эту тему в 1917 г. Продолжал отстаивать эту версию в эмиграции и Бурцев, также без каких-либо доказательств. На основе исключительно «логических построений» муссируют ее и некоторые западные историки: безнаказанность Малиновского в 1914 г. они объясняют игрой большевиков с полицией; владея компрометировавшими большевистских лидеров тайнами, Малиновский мог их шантажировать, – это якобы и обеспечивало ему вплоть до свержения царизма неприкосновенность в партии…[636]636
Власенко А., Разуваев В. Депутат-провокатор // Новое время. 1990. № 8. С. 38 (авторы оспаривают эту версию, выдвинутую снова в книге американского историка Джона Дзяка).
[Закрыть]
Следователи Чрезвычайной следственной комиссии были в своих выводах осторожнее. При бесспорно тесном взаимодействии Временного правительства, Чрезвычайной следственной комиссии и враждебной большевикам либеральной и социалистической печати говорить о полном тождестве их позиций все же нельзя.
Судя по воспоминаниям следователя С.А.Коренева[637]637
Коренев С.А. Указ. соч. С. 26
[Закрыть], показания Ленина произвели на присутствовавших при допросе, несмотря на все их предубеждение против большевистского лидера, впечатление правдивости. Кроме того, тема связей большевиков с охранкой представлялась второстепенной по сравнению с вопросом об их связях с германским генеральным штабом; соответствующая кампания уже разворачивалась в печати. Особенно заинтересовало комиссию показание Белецкого о предвоенном покровительстве Ленину австрийских властей («… Малиновский дал мпе сведения об отношении австрийского правительства к польским партиям и о покровительстве его русским революционерам; …Ленина… австрийское правительство того времени ни в чем не стесняло и к его ручательству за того или иного эмигранта относилось с полным доверием»[638]638
Дело провокатора Малиновского. С. 110. Из последних публикаций на тему «германского золота» см.: Ляндрес С. Новые документы о финансовых субсидиях большевикам в 1917 году / / Отечественная история. 1993, № 2; Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории. М, 1994. С. 264–299; Николаевский Б.И. Тайные страницы истории. М., 1995.
[Закрыть]).
Комиссия, однако, вытаскивала и пустые номера. Она, например, явно попала впросак, обратившись к сотруднику правоменьшевистской газеты «День» бундовцу Д.И.Заславскому. В советское время Заславского приняли в ВКП(б) по личной рекомендации Сталина, и долгие годы он с готовностью клеймил всех, кого приказывали, – от «врагов народа» до «безродных космополитов»[639]639
Лацис О. Перелом // Знамя. 1988. № 6. С. 172.
[Закрыть]. Рекомендация же понадобилась потому, что все еще помнили, как в 1917 г. будущий фельетонист «Правды» проявил особое рвение в травле большевиков – как раз в связи с вопросом о «германских деньгах». К этим обвинениям он пытался подверстать и дело Малиновского – на том основании, что в обоих случаях фигурировало имя Ганецкого[640]640
День. 1917. 3, 6, 10, 13, 15 июня.
[Закрыть]. Но когда журналиста вызвали в Чрезвычайную следственную комиссию, выяснилось, что сверх написанного им в газете ничего конкретного сообщить он не может[641]641
Дело провокатора Малиновского. С. 93–94. Статьи Заславского в «Дне» вынудили большевиков поставить вопрос о деятельности Ганецкого на обсуждение своего ЦК; второй раз он обсуждался после Октябрьской революции Как видно из документов дела, Малиновский при этом не упоминался (Дело Ганецкого и Козловского (Из протоколов заседаний ЦК РСДРП(б) в июне-ноябре 1917 г.) // Кентавр. 1992. Янв. – февр, Март-апр).
[Закрыть]. Не дали ничего в этом плане и показания В.Л.Бурцева, который больше, чем кто-либо из известных журналистов писал о предательстве большевиков как «немецких агентов», не забывая помянуть Малиновского.
Новую попытку связать оба дела предприняли после июльских событий. Члены учрежденной тогда следственной комиссии Исполкома Петроградского Совета, в том числе члены ЦИКа Ф.Дан и М.Либер, лично посетили Петропавловскую крепость, чтобы узнать у бывших руководителей полицейского ведомства, кто из большевистских вождей находился у них на службе. Последовательно были вызваны из камер Виссарионов, Курлов, Спиридович, Белецкий и Трусевич, но, как записал сопровождавший членов комиссии А.Блок, выяснилось, что «все одинаково не знают», «все они не сказали нам ничего, что было нужно»[642]642
Блок А. Собр. соч. Т. 7. С. 275; Письма А.А.Блока к родным. М.-Л., 1932. Т. 2. С. 385
[Закрыть]. Неизвестно, спрашивали ли об этом Заварзина, также арестованного после Февральской революции, но затем сумевшего скрыться. Будучи в эмиграции, он, в отличие от Спиридовича, отрицал версию газет 1917 г. о поддержке большевиков департаментом полиции»[643]643
Заварзин П.П Жандармы и революционеры: Воспоминания. Париж, 1930. С. 197, 253–254.
[Закрыть].
Большевики не остались в долгу. «У нас было много провокаторов, – писал Н.И.Бухарин. – Почему? Да потому, что только у большевиков были сколько-нибудь сильные нелегальные, тайные организации, потому что именно большевики были самыми опасными противниками старого режима. Охранники не полезут к октябристу… Царское правительство знало, что делало, когда оно посылало своих слуг в лагерь революционеров, чтобы разбить их организации, чтобы выловить всех дельных людей, чтобы задушить грядущую революцию»[644]644
Социал-демократ. М., 1917. 23 мая.
[Закрыть]. Это было верно, но, защищая свою партию, Бухарин не счел нужным отметить, хотя бы между прочим, что как раз провокаторы имели репутацию самых что ни на есть дельных партийных работников. Более убедительно прозвучала ссылка на анкетные обследования среди ссыльных, опровергавшие заявления антибольшевистской прессы, будто охранка щадила большевиков[645]645
Правда. 1917. 27 мая.
[Закрыть].
Ленин также включился в полемическую самозащиту: случаи нераспознания и ошибочного оправдания в прошлом провокаторов, заявил он, характерны для всех партий, и это нельзя ставить никому из них в упрек. И видя, как обычно, в нападении лучший способ обороны, он потребовал отдать под суд настоящих, как он заявил, укрывателей Малиновского – Джунковского и Родзянко, так как ни тот, ни другой не оповестили в 1914 г. депутатов Думы и в первую очередь (1) большевиков о том, что Малиновский – провокатор[646]646
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 32. С. 222, 353.
[Закрыть]. Родзянко, который прочитал ленинскую заметку в «Правде» или слышал о ней, содержание ее изумило: «Но войдите в мое положение. Каким образом я буду оглашать и даже в печати, что среди членов Думы есть агент сыскной полиции? Это ужасно. И во имя чего? Во имя спасения партии? Так она сама могла о себе позаботиться. А наложить такое позорное пятно на Думу, что членом Думы был сыщик, – я никак не мог этого сделать»[647]647
Падение царского режима. Т. 7. С. 168.
[Закрыть]. Естественно, что лидер большевиков и председатель Государственной думы говорили на разных языках. Если Дума и занимала какое-то место на большевистской шкале ценностей, то оно было десятистепенным. Однако и Родзянко, вспоминая, как он дал Джунковскому честное слово не разглашать тайну, «забыл», что слово не сдержал…
Вначале в связи с июльским путчем наблюдалось падение большевистского влияния, способствовало этому и разоблачение Малиновского. В долгосрочном же плане кампания вокруг дела Малиновского не оправдала тех надежд, какие возлагали на нее противники большевизма. В массовом сознании провокаторство становилось все больше темой вчерашнего дня, не способной существенно потеснить более насущные проблемы. Тем, кто сулил радикальное решение этих проблем в кратчайший срок, можно было рассчитывать на достаточную поддержку, что бы не писали в газетах об их прошлом. Поэтому большевики и выдержали удар, как будто бы более тяжелый, чем в свое время у эсеров разоблачение Азефа, – установление сразу предательства многих партийных функционеров.
…Дата последнего письма Малиновского жене, отправленного из Альтен-Грабова, – 18(31) марта 1917 г. В конце апреля она уехала в деревню к родственникам в Саратовскую губернию, часть комнат в петроградской квартире она еще раньше стала сдавать жильцам. Чрезвычайная следственная комиссия поручила провести обыск и в Петрограде и в деревне. На квартире осталось, кроме вещей и книг, восемь писем Малиновского из лагеря – видимо, отъезд был поспешным. В деревне у С.А.Малиновской обнаружили майское письмо из Петрограда от студента А.Д.Перминова – одного из жильцов, присматривавшего за квартирой, он писал, что о Малиновском в газетах сообщаются «скверные сведения» и что «П-ая мечет гром и молнии… Она утверждает, что Вы были раньше осведомлены обо всем» (имелась в виду жена Г.И.Петровского Д.Ф. Петровская)[648]648
ГАРФ. Ф. 1467. On. 1. Д. 38. Л. 225–226, 272.
[Закрыть].
Неизвестно, узнали в Альтен-Грабове о разоблачении «ученика Ильича» впервые из русских газет или из письма члена Комитета заграничных организаций РСДРП Г.Л.Шкловского. Во всяком случае письмо Шкловского не оставляло места для сомнений. 5(18) мая социал-демократическая группа лагеря, обсудив это письмо, приняла предложение «одного из товарищей» исключить Малиновского из всех лагерных выборных учреждений, подвергнуть его бойкоту, заклеймить презрением и постараться принять все меры, чтобы при заключении мира доставить его в Россию[649]649
РЦХИДНИ Ф. 351. Оп. 2. Д. 123. Л. 2.
[Закрыть]. Малиновский на этом собрании не присутствовал; но, приехав вскоре из деревни в лагерь, он заверил членов группы, что бесповоротно решил при первой возможности возвратиться на родину. Он говорил, что после разоблачения стал другим человеком, с его плеч свалилась тяжесть. Похоже, что ему поверили, а позже даже еще раз востребовали его политическую эрудицию и красноречие, предложив выступить с рядом лекций о революции в России[650]650
Дело провокатора Малиновского. С. 148.
[Закрыть].
16(30) июня он написал в Стокгольм Ганецкому, что хочет предстать перед судом ЦК партии и просит оказать ему содействие в возвращении. Ответил ему 15 августа по поручению Заграничного представительства ЦК РСДРП(б) П.Орловский (В. В. Боровский), по всей вероятности, согласовавший содержание ответа с Лениным. Дело Малиновского, говорилось в письме, уже не является делом партии, он подлежит общегосударственному суду; если он хочет, чтобы Временное правительство приняло необходимые меры для его освобождения из плена, следует обратиться в ЦИК Советов, представив ему «подробнейший доклад». Боровский выражал готовность переслать этот доклад ЦИК[651]651
ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 8. Д. 2. Л. 110.
[Закрыть]. Воспользоваться предложением Воровского Малиновский не захотел и обратился непосредственно к министру юстиции Переверзеву[652]652
Дело провокатора Малиновского. С. 153, 220.
[Закрыть] (не зная, что тот уже не министр). Ответа он не дождался, в дни «корниловщины» Временному правительству было не до Малиновского.
В плену он провел еще год. За это время свершилась та революция, «о необходимости которой все время говорили большевики», был подписан Брестский мир, гражданская война охватила всю страну, обильную жатву успел собрать красный террор. Малиновскому предстояло возвращаться в новую, Советскую Россию.
Вряд ли он узнал, что вскоре после Октябрьской революции его имя снова мелькнуло на страницах печати. Мартов, обличая пришедших к власти большевиков, припомнил наркому Сталину прикосновенность его в годы подполья «к разного рода удалым предприятиям экспроприаторского рода», за что его тогда исключили из партии. Когда же Сталин изобразил оскорбленную невинность и назвал Мартова клеветником, Мартов напомнил, как его когда-то уже обвиняли в клевете на Малиновского, однако в итоге он оказался прав[653]653
Рабочая газета. 1918. 18 марта. Мартов имел в виду расследование, которое проводилось по делу об «экспроприации» 13 июня 1907 г. на Эриванской площади в Тифлисе, осуществленной группой боевиков во главе с Камо вопреки запрету V съезда РСДРП. Объединенный ЦК РСДРП направил осенью 1907 г. в Тифлис Н.Н.Жордания и К.Х. Данишевского; они узнали, что Кавказский союзный комитет РСДРП установил причастность к экспроприации ряда большевиков и исключил их из партии. Однако все исключенные заявили, что сами якобы вышли из партии еще до экспроприации (прием защиты, санкционированный Большевистским центром). Действиями группы Камо дирижировал Сталин; после исключения он уехал в Баку. За границей же расследование не было доведено до конца из-за саботажа большевистского руководства (Авто-рханов А. Коба и Камо // Новый журнал. 1973. Кн. 110; Письма П.Б.Аксельрода и Ю.О.Мартова. Берлин, 1924; Розенталь И.С. Пражская конференция: мифы и реальность // Кентавр. 1992. Май-июнь. С. 61–62).
[Закрыть]. Одним из защитников Сталина в этом споре был Крыленко. И он, конечно, еще не знал, что в скором времени ему придется выступить в качестве государственного обвинителя на суде по делу Малиновского.
О жизни Малиновского в эти последние месяцы плена известно мало. Краткая запись в протоколах Альтен-Грабовской социал-демократической группы указывает, что вопрос о Малиновском снова обсуждался 2 июня 1918 г. Что явилось на этот раз предметом обсуждения, можно только догадываться. С.В.Тютюкин и В.В.Шелохаев предполагают, что речь шла о «плане доставки
Малиновского в Россию». Такое нельзя исключить. По свидетельству же самого Малиновского, как раз в июне 1918 г., когда он опять на несколько дней приехал в лагерь из деревни, ему предложили выступить с лекциями о ходе революции в России – кто другой мог это сделать лучше накануне долгожданной встречи пленных с родиной! Фигура двойника продолжала раздваиваться в глазах тех, кто знал его последние четыре года…
20 октября 1918 г. с очередной партией освобожденных военнопленных, насчитывавшей 850 человек, Малиновский вернулся в Петроград. Последний шанс избежать ареста представился ему в Вильне, здесь снова спрашивали, нет ли в эшелоне поляков, желающих остаться за границей. Судя по тому, что мы знаем о решениях Альтен-Грабовской группы, Малиновскому не позволили бы остаться, если бы он и захотел. Но нужно иметь в виду: в тот момент он еще не знал, что бывших провокаторов приговаривают в Советской России только к расстрелу, и что 30 июня были расстреляны известнейшие провокаторы, разоблаченные после Февраля 1917 г., Леонов, Лобов, Поляков, Поскребухин, Регекампф, Романов и Соколов.
Красный Петроград готовился отметить первую годовщину Октября. Она совпала с окончанием первой мировой войны, с революционными событиями в Германии и Австро-Венгрии. Казалось, пожар мировой революции вот-вот поможет разомкнуть кольцо фронтов вокруг Советской России. Неудивительно, что в Смольном, куда явился Малиновский 22 октября, не сразу вспомнили, кто он такой. Бумага, которой потрясал бородатый солдат в потрепанной шинели, требуя своего ареста (письмо Заграничного представительства ЦК), не производила сначала никакого впечатления. В конце концов нашелся человек, что-то знавший о Малиновском, – секретарь Петроградского комитета РКП(б) С.М.Гессен. Он приказал отвезти Малиновского на Гороховую, в ЧК, откуда его переправили в Москву. Там ему объявили, что он предается суду Верховного революционного трибунала при ВЦИК[654]654
Красная газета. Пг., 1918. 29 октября; Дело провокатора Малиновского. С. 220–221; Зиновьев Г.Е. Указ соч. С. 204.
[Закрыть].
Следствие продолжалось недолго. 27–28 октября Малиновский написал пространные показания, 29 и 30 октября его кратко допросил следователь трибунала В.Э.Кингисепп. Обвинительное заключение основывалось почти целиком на материалах Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Руководила его составлением, вероятно, Елена Розмирович, в это время член следственной комиссии трибунала, получившая, наконец, возможность отомстить за поронинское унижение. Был заготовлен большой спн-сок свидетелей; предполагалось снова допросить бывших царских сановников и охранников, но местонахождение большинства из них не удалось установить – кроме С. Е. Виссарионова, остававшегося в заключении с момента ареста после Февральской революции, и В.Ф.Джунковского, арестованного уже при Советской власти, 15 сентября 1918 г., и доставленного под конвоем из тюрьмы Смоленской губчека[655]655
ГАРФ. Ф. 826. On. 1. Д. 51. Л. 315 об. Джунковский оказался одним из немногих видных деятелей царского режима, оставшихся после Октябрьской революции в Советской России, и это породило разнообразные слухи о его судьбе – о службе его будто бы в ВЧК, о жизни в Крыму, где он якобы работал смотрителем маяка и занимался крестьянским трудом, о пребывании в лагерях на Колыме и т. п. (Разгон Л. Непридуманное // Юность. 1988. № 5; С. 31–34; Философская и социологическая мысль. t989. № 11. С. 117; Трубецкой С.Е. Минувшее. М., 1991. С. 287; Щеголев П.Е. Охранники, агенты, палачи. М., 1992. С 317). Ср.: Розенталь И.С. Страницы жизни генерала Джунковского // Кентавр. 1994. 1.
[Закрыть]. Белецкого, чье имя значилось в том же списке, расстреляли еще до возвращения Малиновского, в начале сентября, сразу после покушения на Ленина. Третьим свидетелем, давшим показания на суде, был В.Ф. Плетнев.
Заседание трибунала открылось в Кремле, в зале здания Судебных установлений 5 ноября 1918 г. Председательствовал О.Я.Карклин, в состав трибунала входили также И.П.Жуков, А.В.Галкин, К.А.Петерсон, М.П.Томский, В.Н.Черный, Г.И.Бруно – кроме бывшего левого эсера Черного, все большевики. Просьбу Малиновского отложить заседание «дня на четыре» на том основании, что ему не сообщили, когда состоится суд, и только 4 октября вечером дали копию обвинительного заключения, трибунал отклонил. Отклонена была и аналогичная просьба адвоката («правозаступника») М.А.Оцепа, назначенного также только 4-го вечером, после того, как другой адвокат отказался вести дело[656]656
Дело провокатора Малиновского. С. 179–181. О А. В.Галкине см.: Серебрякова Г. Странствия по минувшим годам. М., 1965. С. 77–82.
[Закрыть]. Предполагалось, что слушание займет два дня, но ввиду малочисленности свидетелей, оно закончилось в тот же самый день. Можно объяснить торопливость судей и желанием покончить с делом до годовщины Октября и возможной амнистии.
Несмотря на непродолжительность (а отчасти именно поэтому) суд по делу Малиновского примечателен не только как заключительная страница его биографии, но и как один из моментов формирования «революционного правосознания». Выступления Малиновского, обвинителя, защитника показали, насколько изменилась страна за время отсутствия подсудимого.
В письменных показаниях Малиновского и в его речи на суде, как и раньше, ложь переплеталась с правдой, но правды было все же больше, чем в более детальных (и более лживых) показаниях 1914 г. Несомненно, все, что он написал и говорил, было продумано задолго до возвращения. Он напоминал о своей работе в петербургском союзе металлистов: «Я работал так, как могу только я один, самым честным образом, с полным увлечением, присущим моему характеру». Он уверял, что никогда не хотел быть провокатором, но был обречен на предательство не покидавшим его страхом разоблачения, поселившимся в нем еще в Петербурге: «При первом моем аресте откроют, что я сидел в тюрьме за кражу». Этот многолетний страх делал его беспомощным, превращал в «какого-то жалкого труса», «в какое-то ничтожество», а потом «двойная игра всосалась уже в организм, и я был собою только в бессонные ночи и годен только к страданиям и угрызениям совести, которая таилась еще где-то в глубине». Однако сознание ответственности перед рабочим классом и партией влияло на него возвышающе. В результате он по собственной инициативе ушел из Думы, якобы получив за месяц до этого согласие Белецкого и умышленно вызвав конфликт с фракцией, чтобы иметь предлог для ухода. Но, не замечая, что противоречит сам себе, Малиновский называл еще одну причину своего «добровольного» ухода: Белецкий «мне посмел сказать, что я ему вру», – «все отняли у меня… веры мне не было».
В изображении Малиновского получалось, что одновременно с карьерой провокатора он проходил школу политического воспитания и все глубже постигал социалистическое учение. В плену он уже «работал как самый честный человек», и это были «самые светлые» его годы.
Изо всех сил пытался он преуменьшить размеры своей провокаторской деятельности: он-де «служил в охранке, но это было далеко от того, чтобы быть ее слугой», и он всегда старался нанести возможно меньший вред партии – не выдал, например, никого из делегатов Пражской конференции, кроме Романова, которого подозревал в провокации, сообщал неправду о заграничных партийных совещаниях («врал спокойно», зная, что там не было других агентов охранки), не доносил на сотрудников «Правды» и т. д. Он «был не настолько подл», чтобы оскорблять Ленина; Свердлов был его «лучшим другом». Теперь – в отличие от того, что было в его письмах из плена Ленину и Зиновьеву, да и раньше, в беседах с ними, – он не говорил ничего плохого о своих товарищах по думской фракции и бичевал только себя: «…Они пошли честно в Сибирь, а я бежал из Думы…»
Руководители партии, вспоминал он, упрекали его в том, что он не сумел создать в Москве и губернии прочной партийной организации, но он «этого делать не хотел и не мог», потому что ее членов сразу же арестовали бы. Из объяснений Малиновского выходило, что деньги его вообще не интересовали. Категорически отрицал он получение от Белецкого 200-рублевой доплаты к основному, 500-рублевому жалованию. В этом и в других случаях Белецкий и Виссарионов возводили будто бы в 1917 г. на него напраслину, чтобы оправдать себя.
Возвращение в Советскую Россию Малиновский объяснял желанием кровью смыть свой позор. Выступая на заседании суда, он восклицал: «…Я не представляю, как я могу жить среди вас теперь… Мне и вам приговор ясен, и верьте мне: я его спокойно приму, потому что другого не заслужил… Я прекрасно понимаю, что прощение неприемлемо для меня; может быть, лет через сто оно и будет возможно, но не теперь». Свое положение он оценивал как безвыходное: «Куда мне деться» мне нечем жить, как только верой в ваше правое дело, а туда мне двери закрыты, я их закрыл сам»[657]657
Дело провокатора Малиновского. С. 139–142, 146–150, 182, 208–222, 236.
[Закрыть].
Обвинительная речь, с которой выступил Крыленко, – один из первых его опытов такого рода – была сумбурной, крайне неряшливо построенной; перевирались даты, фамилии, сведения из показаний Малиновского и свидетелей. Но обвинителю было нетрудно уличить обвиняемого во лжи по большей части существенных фактов. Так, Малиновский явно не имел представления об объеме сохранившейся документации, например, о 30 расписках, принадлежность которых ему засвидетельствовала каллиграфическая экспертиза, – на общую сумму 8730 руб.[658]658
Там же. С. 161–162.
[Закрыть]. Одна лишь точная дата отставки Белецкого разрушила всю построенную Малиновским конструкцию, с помощью которой он объяснял свой уход, из Думы.
Принцип, лежавший в основе действий трибунала, Крыленко обосновывал следующим образом: «Мы… судим не во имя моральных или других качеств, не их подвергли оценке, мы судим с точки зрения вреда революции, опасности революции, с точки зрения ограждения революционных завоеваний…»[659]659
Там же. С. 230.
[Закрыть] Сугубо релятивистский подход большевиков к нравственности проявился, когда Крыленко стал выяснять, чего больше, вреда или пользы, принес Малиновский революционному движению, – не замечая, что сам становится на точку зрения охранника. «Что казалось вам более опасным, – спрашивал он у Виссарионова, – деятельность Малиновского как социал-демократа или его ценность как сотрудника охранного отделения?.. Что из двух невесомых фактов являлось все-таки более весомым: опасность Малиновского для правительства как дельного социал-демократа или, с другой стороны, его ценность в качестве осведомительного агента?» – на что Виссарионов в конце концов к неудовольствию Крыленко дал такой ответ: «С моей точки зрения его деятельность как социал-демократа превалировала»[660]660
Там же. С. 202–203
[Закрыть]. Точно так же Плетнева один из членов суда спрашивал, был ли Малиновский вполне выдержанным марксистом; ответ Плетнева гласил: «…Мне кажется, что в отношении страхования рабочих он был марксистом, в отношении партийном я с ним особенно не сталкивался…» Наконец, Джунковского спросили, является ли Малиновский убежденным монархистом, чрезвычайно удивив свидетеля: «Я никогда не слыхал, чтобы он был убежденным монархистом», – ответил Джунковский[661]661
Там же. С. 187, 192.
[Закрыть].
Впоследствии, готовя обвинительную речь к печати, Крыленко дополнил ее отсутствующим в стенограмме рассуждением относительно мотивов возвращения Малиновского в Советскую Россию; это рассуждение, таким образом, не слышали ни судьи, ни Малиновский. Почему, спрашивал Крыленко, Малиновский вернулся, «зная свои преступления, зная оценку их, – ту единственно возможную оценку, которую они встретят в революционной России, переживающей весь ужас гражданской войны?..»
Как ни странно, линия обвинения совпала в одном пункте с линией поведения на суде Малиновского. В противоречии с тем, что сам Крыленко говорил о несущественности вопроса о моральных качествах Малиновского, корень его политического предательства он усматривал все в том же воровстве. В духе худших традиций дореволюционного суда он объявил Малиновского прирожденным преступником, хотя и оговорился, что в глазах большевиков «каждое преступление есть продукт данной социальной системы», и, стало быть, Малиновский должен был знать, что сама по себе судимость до начала революционной деятельности не грозила ему обязательным исключением из рядов революционеров, среди которых, как признавал Крыленко, было много лиц с подобным прошлым.