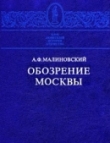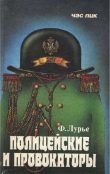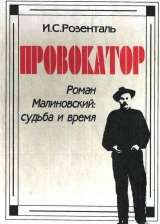
Текст книги "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время"
Автор книги: Исаак Розенталь
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Но за декларациями последовали действия. Джунковский начал с того, что, вопреки мнению Белецкого, циркуляром от 21 мая 1913 г. потребовал исключить из состава секретной агентуры воспитанников средних учебных заведений и запретил вербовать их в дальнейшем. Непосредственным поводом к такому шагу явилось громкое «витмеровское дело» – арест 9 декабря 1912 г. членов петербургской ученической организации в частной гимназии Витмер с помощью секретных сотрудников охранки из числа гимназистов; Джунковский счел «чудовищным такое заведомое развращение учащейся молодежи, еще не вступившей на самостоятельный путь»[449]449
Там же. Л. 91–92; Жилинский В. Б. Организация и жизнь охранного отделения во времена царской власти. М., 1918. С. 27.
[Закрыть]. Вслед за тем такое же ограничение было распространено па нижних чинов в армии, где, как выяснил Джунковский, процветала провокация: обыски и аресты проводились на основе ложной информации, подсказанной жандармскими офицерами агентам-солдатам; им же поручалось раздавать прокламации, выявляя затем солдат, выразивших сочувствие революционным идеям. Упразднение в армии полицейской агентуры одобрил Николай Николаевич и все командующие военными округами (кроме генерала Н.И.Иванова). Они согласились с Джунковским, что это будет способствовать повышению воинской дисциплины. Новая инструкция предусматривала наблюдение за настроениями в армии «на новых началах», без привлечения солдат.
Военачальникам, поддержавшим Джунковского, было известно, что солдатские волнения в Туркестанском военном округе в 1912 г. явились результатом именно провокационных приемов. Без крайней необходимости, считал Джунковский, не следует привлекать армию и для содействия гражданским властям – сам по себе вызов войск с такой целью «невольно приобщает их к политике» и в то же время отрицательно влияет на население; так, не нужно было, по его мнению, во время празднования 300-летия Дома Романовых наводнять столицу полицией и войсками: это обнаружило страх правительства и охладило «патриотический подъем»[450]450
ГАРФ. Ф. 826. On. 1. Д. 53. Л. 40–42, 92–96.
[Закрыть].
Был ли Джунковский противником полицейской провокации? Сам он искренне считал себя таковым: «Когда я вступил в должность товарища министра, я первым долгом обратил внимание на провокацию и боролся против нее всеми силами; если я не всегда достигал цели, то все же я старался бороться с провокацией всеми способами, которые были в моей власти»[451]451
Дело провокатора Малиновского. С. 189–190.
[Закрыть]. Институт секретных сотрудников при этом пе затрагивался, как и инструкция о внутренней агентуре, усовершенствование которой закончилось при Джунковском, но он настаивал на том, чтобы прием в сотрудничество был актом добровольного соглашения, без морального насилия над принимаемым. Понятие провокации он толковал так же, как его предшественники и подчиненные: «Провокацией я считал такие случаи, когда наши агенты сами участвовали в совершении преступлений».
Тем не менее мероприятия Джунковского встретили в департаменте полиции противодействие. Белецкий заявлял, что они «губят розыск». Подспудные причины конфликта Белецкий сводил к тому, что сам он-де «человек, вышедший из народа», тогда как Джунковский – «человек придворный»[452]452
Падение царского режима. М.; Л., 1925. Т. 3. С. 266–269; М.; Л., 1926. Т. 5.С. 69–75.
[Закрыть]. Но различия в сословном происхождении двух высших чиновников ведомства и в особенностях прохождения ими службы ничего не объясняют, тем более, что как раз за Белецким стояли могущественные силы придворной камарильи, враждебные Джунковскому не как «придворному», а как чересчур принципиальному противнику беззакония.
Новшества Джунковского были в глазах Белецкого и некоторых других профессионалов политического сыска попытками соединить несоединимое: заботу о повышении эффективности действий полиции с этическими ограничениями, с их точки зрения, неуместными и обременительными. Джунковский, со своей стороны, не скрывал недовольства, выслушивая по два раза в неделю длиннейшие доклады директора департамента полиции, каждый не менее четырех часов, да еще присутствуя при его докладах министру. В этих докладах непомерно раздувалась, как считал Джунковский, революционная опасность и одновременно обнаруживалась нечувствительность докладчика – из-за отсутствия «нравственной твердости» – к фактам провокации. Ясно было, что сработаться им не удастся.
Случай, о котором впоследствии поведал начальник московской сыскной полиции А.Ф.Кошко, дает основание думать, что в оценке действий Белецкого с точки зрения их полезности правительству Джунковский был во многом прав. После увольнения Белецкого Джунковский показал Кошко дело, заведенное на него —. «русского Шерлок Холмса» – в департаменте полиции. Случилось это после того, как московское охранное отделение сообщило о «странных» беседах Кошко со студентами-юристами Московского университета, в ходе которых он будто бы позволял себе критиковать политический розыск. Резолюция Белецкого была такова: «Установить за Кошко негласный надзор и подвергнуть перлюстрации его частную корреспонденцию». В действительности Кошко занимался со студентами практической криминалистикой по просьбе профессоров университета и с разрешения, которое дал ему в свое время Столыпин. «Таким образом, судьба разжаловала меня чуть ли не из профессоров в поднадзорные», – иронизировал, вспоминая об этом, Кошко. Действия Белецкого представлялись ему, как и Джунковскому, «стрельбой по воробьям из пушек»[453]453
Иллюстрированная Россия. Париж, 1929. № 17. С. 11.
[Закрыть].
Джунковский держался уверенно, и оппозиции среди его подчиненных оставалось только надеяться, что товарища министра в конце концов подведет пренебрежение неофициальными связями. По приезде в Петербург он проигнорировал, например, настойчивые приглашения престарелого, но по-прежнему влиятельного при дворе издателя газеты «Гражданин» князя В.П.Мещерского (креатурой его был и министр Маклаков). Не внял он и рекомендациям, которые Мещерский изложил в нескольких письмах Джунковскому, убеждая его в том, что их взгляды совпадают: департамент полиции – это «темное царство», где признаются допустимыми «все средства для достижения наших целей». Предпочитая сохранить независимость, Джунковский ограничился визитом вежливости месяц спустя после своего назначения. Между тем Мещерский активно поддерживал Распутина еще когда тот не был вхож в царский дворец; через Мещерского познакомился с Распутиным и Маклаков, находившийся с ним «в хороших отношениях». Демонстративно-отрицательное отношение к царскому фавориту также не укрепляло позиции генерала.
Не осталось незамеченным и его стремление осадить претендовавшие на особое положение правомонархические организации. Джунковский исходил из принципа надпартийности монархии; поэтому во время парадного обеда в Зимнем дворце по случаю 300-летия Дома Романовых представителям этих организаций не было разрешено поднести царю хлеб-соль и произносить речи[454]454
ГАРФ. Ф. 826. On. 1. Д. 53. Л. 2–7, 11,50; Д. 52. Л. 279–281.
[Закрыть]. Вероятно, не без санкции Джунковского в переработанную инструкцию по организации и ведению агентурного наблюдения был включен параграф, согласно которому секретные сотрудники, «принадлежащие к крайне правым партиям, зачастую не только не полезны, но и вредны»[455]455
ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 38. Л. 86.
[Закрыть].
Белецкий же считал необходимым способствовать примирению враждовавших между собой организаций черносотенцев – так же, как и министр юстиции Щегловитов, о котором Джунковский отзывался (в полном согласии с его репутацией в обществе) отрицательно. Даже в беседах с царем он критиковал практиковавшиеся Щегловитовым методы давления на суд. «Он как министр юстиции, – говорил Джунковский, – не стоит на страже закона, а применяет его и объясняет его сообразно обстоятельствам и выгодам данной минуты», а Сенат – высшую судебную инстанцию – превратил в «послушный себе департамент».
Все это Джунковскому потом припомнили. Но пока что он проводил намеченную линию и одновременно перетряхивал высшие полицейские кадры. В июне 1913 г. он избавился от Виссарионова, который был переведен в ведомство по делам печати, что позволило разлучить его с Белецким. С последним удалось, наконец, расстаться в январе 1914 г.
Малиновский находился в этот момент в Вене, возвращаясь в Россию из заграничной поездки. О газетной новости – отставке директора департамента полиции – сказал ему А.А.Трояновский, заметивший, что Малиновский «весь вздрогнул, но тотчас овладел собой и стал напевать какую-то песенку»[456]456
Дело провокатора Малиновского. С. 79.
[Закрыть]. Потрясение было, однако, сильным. Как выразился потом Белецкий, Малиновский увидел в отставке шефа и покровителя «поднявшийся и над его головой молот»[457]457
Там же. С. 120. ►
[Закрыть]. Встречи в ресторанах прекратились. Новый начальник департамента полиции В.А.Брюн де Сент-Ипполит, которого Джунковский считал «безукоризненным и кристальной чистоты человеком», тут же сообщил ему, кто скрывается под кличкой «Икс» (Белецкий в своих многочасовых докладах часто упоминал «Икса» как источник особо важных сведений, но Джунковский не снисходил до того, чтобы интересоваться фамилиями секретных сотрудников). Впрочем, о Малиновском он уже знал: об агенте-депутате ему сказал в марте 1913 г. Виссарионов, причем в этом конкретном вопросе мнения их сошлись, несмотря на некоторое несходство мотивов.
Мнение Виссарионова было таково: Малиновский не подчиняется «руководительству» департамента полиции, не желая ограничивать свою деятельность функциями осведомителя. Виссарионова не устраивали размеры и характер как думской, так и внедумской работы Малиновского, далеко выходившей, по его мнению, за пределы допустимого. «…Когда я стал читать его выступления в Думе, – показывал Виссарионов в 1917 г., – я пришел к заключению, что нельзя более продолжать работать с ним»; «…он обходил и фракцию, и С.П.Белецкого, не говоря уже обо мне». «Отойти» от Малиновского, то есть прекратить его использование, он предлагал и Белецкому и Золотареву, предупреждая их о возможности всяческих осложнений, вплоть до запроса в Думе, но безуспешно. По словам Виссарионова, «с Белецким невозможно было разговаривать на эту тему, он всегда стоял на том, что Малиновского он должен удержать, и он очень старался его удержать все время, повышая ему оклад»[458]458
Там же. С. 127; Падение царского режима. Т. 3. С. 260–262, 463–468; Т. 5. С. 217–220.
[Закрыть].
Ход мыслей Джунковского был несколько иной: недопустимо «провоцировать Думу», ибо это неотъемлемая часть государственной системы. Малиновского он видел и, вероятно, слышал, посещая заседания Думы, он «возмущался всегда его резкими выступлениями», его «крайне непримиримыми взглядами». Впоследствии Джунковский признавался, что совмещение обязанностей депутата и секретного сотрудника ему «претило». Кроме того, оно представлялось ему опасным с точки зрения поддержания устойчивости монархического режима: политический скандал в случае разоблачения Малиновского причинил бы правительству больший вред, чем утрата той информации, которую тот поставлял[459]459
ГАРФ. Ф. 826. On. 1. Д. 51. Л. 313 об.; Падение царского режима Т. 5. С, 81–84.
[Закрыть].
Ни в своих показаниях по делу Малиновского, ни в воспоминаниях Джунковский не коснулся темы провоцирования охранкой раскола в РСДРП. Если Белецкий и развивал эту дорогую ему тему в докладах Джунковскому и Маклакову (что почти несомненно), то Джунковский, скорее всего, и здесь увидел характерное для директора департамента полиции «втирание очков». Это не значит, что тактическая линия Белецкого была отвергнута: циркуляр, где она излагалась, как остающаяся в силе, подписал 14 сентября 1914 г. Брюн де Сент-Ипполит, само собой разумеется, с ведома и согласия Джунковского. 10 января 1915 г. последовал еще один циркуляр, требующий того же – разъединения социал-демократических групп и течений с помощью внутренней агентуры. Но дорожить из-за этого «Иксом» Джунковский не собирался.
Вспоминая уже в советское время о деле Малиновского, Джунковский объяснял свое решение таким образом: «Кому принес больше пользы Малиновский? Ленину или розыску, трудно сказать. Думаю, что Департаменту полиции от него было пользы немного, вернее, он отвлекал внимание Белецкого от серьезных дел. Белецкий тешил себя тем, что видный представитель думской социал-демократической фракции – его сотрудник, а то, что это была игра с огнем и недостойная, на это он закрывал глаза»[460]460
ГАРФ. Ф. 826. On. 1. Д. 51. Л. 316.
[Закрыть].
Развязка затянулась, Джунковский долго размышлял, как покончить с неприятным делом, «сохранив приличие». Тем временем находившийся в простое Малиновский тщетно пытался выяснить, чего же хочет от него всесильный товарищ министра. Осознав, наконец, что департамент полиции больше не нуждается в его услугах, он униженно просил Белецкого ходатайствовать перед новым руководством департамента полиции, чтобы обеспечили его семью, а ему предоставили «свободу действий». «Такого растерянного тона я никогда у Малиновского не слышал», – вспоминал Белецкий[461]461
Дело провокатора Малиновского. С. 120–122, 172–173.
[Закрыть]. Возможно, выходка на заседании фракции 22 апреля была последней попыткой «Икса» заслужить благоволения нового начальства.
Но участь его была уже решена. Ни Брюн де Сент-Ипполит, ни преемник Виссариона А.Т.Васильев встречаться с ним не пожелали. Начальник Петербургского охранного отделения П.К.Попов вместе с известным Малиновскому по Москве ротмистром Ивановым встретились с ним в сквере у памятника Екатерине II и передали требование Джунковского: в течение трех дней подать заявление о выходе из Думы и уехать за границу; на этих условиях ему выдавался годовой оклад жалования – 6 тысяч рублей. Как вспоминал Попов, в первый момент Малиновский был «до необычайности обескуражен подобным предложением и все спрашивал, куда же он теперь денется. Но, узнав об единовременной получке в 6 тысяч рублей, согласился». Сумма была выдана Малиновскому под расписку после его ухода из Думы. До границы его сопровождали два агента: уверенности, что бывший депутат сдержит слово, у Джунковского не было…[462]462
ГАРФ. Ф. 826. On. 1. Д. 51. Л. 313 об.-314; Падение царского режима. Т. 5. С. 84, 85; Дело провокатора Малиновского. Л. 151–152, 173.
[Закрыть]
Так завершилась полицейская карьера Романа Малиновского. По своей продолжительности она, конечно, не шла ни в какое сравнение с 16-летней карьерой Азефа, да и финал ее был другим. С точки зрения реализации планов Джунковского это можно было бы посчитать успехом, с точки зрения Белецкого – огорчительной неудачей, а Ленин впоследствии изобразил отказ охранки от услуг «Икса» чуть ли не признанием поражения системы полицейского розыска, поскольку ей не удалось остановить развитие рабочего движения и рост влияния большевиков. Малиновский был изгнан потому, что «оказался слишком связанным легальною «Правдой» и легальной фракцией депутатов, которые вели революционную работу в массах [больше], чем это терпимо было для «них», для «охранки», – так писал Ленин в 1917 г., не зная еще о близких по смыслу показаниях Виссарионова. Малиновский превратился, по словам Ленина, «в одно из звеньев длинной и прочной цепи, связывавшей (и притом с разных сторон) нашу нелегальную базу с двумя крупнейшими органами воздействия на массы, именно, с «Правдой» и с думской социал-демократической фракцией. Оба эти органа провокатор должен был охранять, чтобы оправдать себя перед нами»[463]463
Бадаев А. Указ, соч. С. 288; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 32. С. 512.
[Закрыть].
Все это, однако, говорилось задним числом и носило в определенной степени самоутешительный характер; трудно понять, в чем выражалась «охрана» Малиновским «Правды» и думской фракции. Белецкий, когда его ознакомили с показаниями Ленина, заметил, что он все же «часто рвал цепь Ленина, прекращая или ослабляя электрический ток его влияний»[464]464
Дело провокатора Малиновского. С 117.
[Закрыть]. Рост влияния большевиков, как мы увидим дальше, и в самом деле не был непрерывным, отставка Малиновского его затормозила.
Желание Джунковского соблюсти приличия и избежать скандала не помешало ему «раскрыть завесу этого дела» перед Родзянко. Ранее Джунковский «помогал» председателю Думы, предупреждая о предстоящих выступлениях социал-демократической фракции; после ухода Малиновского Родзянко стал догадываться о причинах такой осведомленности и напрямик спросил Джунковского: «Ну, а что, Малиновский был ваш сотрудник?» Дальнейший разговор двух сановников протекал, по словам Джунковского, следующим образом: «Я говорю – «Нет». – «Ну, ну, мне-то Вы можете сказать!» Я сказал: «Раз Вы так вопрос ставите, то с глазу на глаз могу Вам сказать, потому что знаю, что Вы никому не скажете»[465]465
ГАРФ. Ф. 826. On. 1. Д. 51. Л. 314 и об.; Падение царского режима. Т. 5. С. 85, 86.
[Закрыть]. Однако Родзянко вскоре проговорился депутату-трудовику В.Л. Геловани – опять же «под честное слово»[466]466
Падение царского режима. Т. 7. С. 168.
[Закрыть]. Видимо, 'эта утечка информации и явилась основным источником слухов, проникших сначала на страницы правой печати («Земщина», «Голос России», «Свет»), а затем и других газет.
…Уход Малиновского произвел эффект разорвавшейся бомбы не только в Петербурге, но и в Поронине. Судить об этом можно отчасти по телеграммам и письмам, отправленным оттуда после получения первых известий от Л.Б.Каменева и депутатов. 8 мая Петровский телеграфировал в Краков Зиновьеву: «Малиновский без предупреждения сложил полномочия, дать объяснения отказался, выезжает за границу»[467]467
РЦХИДНИ. Ф. 17. On. 1. Д. 1474.
[Закрыть]. Уже 9 и 10 мая Ленин сообщил в Цюрих Г.Л.Шкловскому, что Малиновского обвиняют в провокации; 11-го он послал в Варшаву Я.С.Ганецкому телеграмму с просьбой собрать все сведения о Малиновском и подробно телеграфировать, что пишут о нем варшавские газеты. В тот же день он предложил А. Е. Бадаеву незамедлительно избрать нового председателя фракции (депутаты избрали Г.И. Петровского)[468]468
В И.Ленин. Биографическая хроника. М., 1972. Т. 3. С. 226, 227; РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 1. Д. 24095.
[Закрыть].
Читая теперь доверительное письмо Ленина Инессе Арманд от 12 мая, в котором он суммировал все, что удалось узнать в первые дни, мы ощущаем его тревогу, порожденную прежде всего неопределенностью ситуации: «История с Малиновским разыгрывается. Его нет здесь. Выходит вроде «бегства». Понятно, что это питает худшие мысли. Алексей телеграфирует из Парижа, что русские газеты телеграфируют Бурцеву, что Малиновский обвиняется в провокации.
You can imagine what it means!! Very improbable but are obliged to control all «оuі-dire». Wiring does not cease between Poronin, СПБ. et Paris{1}. Сегодня Петровский телеграфирует, что «клеветнические слухи рассеяны. Ликвидаторы ведут гнусную кампанию».
«Русское слово» телеграфировало Бурцеву, что подозрения значительно рассеялись, но «другие газеты (???) (ликвидаторские???) продолжают обвинять».
You can easily imagine how much I`am worried{2}[469]469
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 48. С. 293.
[Закрыть].
От редактора «Правды» Л.Б.Каменева Ленин не скрывал своей растерянности: «Известие ошеломляющее… Ничего не понимаем»[470]470
Адресная книга ЦК РСДРП (1912–1914 гг.) // Исторический архив. 1959. № 1. С. 12–13.
[Закрыть]. Но в то же время редакции предлагалось, не дожидаясь каких-либо подробностей, объяснять читателям «Правды» поступок Малиновского исключительно «личным кризисом»[471]471
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 48. С. 294.
[Закрыть]. В статье, которую Ленин тут же направил в газету, давалось именно такое объяснение со ссылкой на якобы аналогичный случай с Ф.Н.Самойловым, у которого трудности думской работы вызвали сильнейшее нервное расстройство. Сообщалось также, что и Малиновский давно жаловался на крайнее нервное возбуждение и переутомление. При этом поступок Малиновского не осуждался – ни в статье, ни в приписке для редакции; говорилось лишь, что это известие, «поразившее всех, как громом среди ясного неба…. особенно тяжело поразило близко знавших его друзей»[472]472
Куранты. 1993. 13 авг. С. 11 (РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 1. Д. 23823).
[Закрыть].
12 мая «Правда» напечатала телеграмму, отправленную Малиновским в ночь с 10 на 11 мая «из одного пограничного города»: «Еду за границу. Открытое письмо через два дня». Ленину он послал телеграмму о том, что направляется в Поронин и отдает себя на суд Заграничного бюро ЦК[473]473
Зиновьев Г.Е. Воспоминания: Малиновский // Известия ЦК КПСС. 1989.6. С. 195.
[Закрыть]. 16 мая «Правда» сообщила о получении от Малиновского телеграммы с его заграничным адресом; в Поронине он появился, таким образом, 13(26) или 14(27) мая (15-го, в И часов утра началось следствие). Телеграмма, напечатанная в «Правде» 17 мая, гласила: <Признаю свой шаг неправильным. Разрешаю печатать письмо с высланным сегодня добавлением». В этом «Открытом письме», датированном 15 мая, Малиновский покаянно заявлял, что теперь в нем пробудилось сознание ответственности, которую он не учел, «идя на этот убийственный», «политически непростительный шаг», но он просит не «добивать человека, который наполовину убил сам себя», ибо это-де «слишком жестоко»[474]474
Путь правды. 1914. 17 мая.
[Закрыть]. Скорее всего, это «Открытое письмо» не предшествовало следствию, а явилось итогом первого его дня.
Попытки провокаторов, находившихся на грани разоблачения, апеллировать к заграничным партийным центрам случались и раньше. Так поступила в свое время «Люся» (Ю.О.Серова); почувствовав, что тучи над ней сгущаются, она поспешила в Париж. В декабре 1913 г. «Кацап» (Поляков) приезжал в Вену, добиваясь реабилитации у руководства Августовского блока, хотя и безуспешно: было решено суд отложить до осени следующего года и провести его в России[475]475
РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 779.
[Закрыть]. А.В.Шотман, проживавший в это время в Вене, сообщил Ленину о визите «Кацапа», следовательно, Малиновский мог знать об этом и как-то учесть опыт старого московского приятеля, обдумывая сценарий своего поведения после того, как его предупредили о предстоящей отставке.
Но Ленина приезд Малиновского в Поронин в какой-то степени успокоил: отпал вариант «бегства». Депутаты-большевики вообще восприняли отъезд Малиновского за границу как шаг естественный в его положении бывшего депутата, уже не защищенного от царской полиции «неприкосновенностью»[476]476
Дело провокатора Малиновского. С. 43.
[Закрыть].
Вслед за появлением Малиновского в Поронине от него потребовали объяснений; он производил впечатление больного человека, плакал, говорил, что готов застрелиться, но просит его выслушать. С собой он привез несколько сот писем рабочих – в доказательство своей популярности.
Для расследования его дела была образована партийная комиссия. Кроме членов ЦК РСДРП В. И.Ленина и Г.Е.Зиновьева в комиссию вошел Я.С.Ганецкий – представитель близких большевикам левых польских социал-демократов – т. н. розламовцев. Ганецкий председательствовал на заседаниях комиссии, но главное направление ее работы определял Ленин; посредническая роль Ганецкого выражалась также в том, что он продолжал поддерживать с Малиновским личные связи, тогда как Ленин и Зиновьев держались с ним строго официально[477]477
Зиновьев Г.Е. Указ. соч. С. 195–197.
[Закрыть]. Местом работы комиссии была избрана дача Зиновьевых на окраине Поронина.
Ганецкого Ленин знал давно. Четыре представителя розламовцев, в том числе Ганецкий, участвовали с правом совещательного голоса в Поронинском совещании. В Петербурге при их участии издавалась с марта 1914 г. легальная газета на польском языке «Нова трибуна» (в 4-м номере сообщалось, в частности, что «тов. В.Ильин», то есть Ленин, передал редакции выражение полной солидарности с идейным направлением газеты и внес в ее денежный фонд 5 крон)[478]478
Логинов В.Т. Ленинская «Правда» 1912–1914 гг. М., 1972. С. 344–346.
[Закрыть]. Газета поддержала в вопросе о Малиновском позицию «Правды». Но дело было не только в идейной близости. Привлекая к расследованию Ганецкого, члены Заграничного бюро ЦК исходили, по всей вероятности, также из того, что польское рабочее движение знало немало подоб пых дел, в том числе возникших в результате клеветнических обвинений и имевших трагический исход; объектом таких обвинений (со стороны Главного правления СДКПиЛ) были и сами розламовцы[479]479
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 46, 290–292; Kajdus W. Lenin wsrod przyjaciol І znajomych w Polsce. 1912–1914. Warszawa, 1977. S. 308.
[Закрыть].
У розламовцев мог быть и свой интерес, так как, благодаря неоднократным приездам в русскую и австрийскую Польшу, у Малиновского сложились тесные отношения с польскими социалистами разных направлений, включая лидера социал-демократов Галиции и Силезии Дашинского и лидера ППС Пилсудского[480]480
Зиновьев Г.Е. Указ. соч. С. 193; Дело провокатора Малиновского. С. 51.
[Закрыть]. «Нова трибуна» называла Малиновского доверенным представителем польских рабочих в Думе – как ввиду его большевизма, так и «ввиду знания нашего языка и существующих у нас отношений, которое давало ему возможность принимать участие в деятельности и литературе польских марксистов, посещать польские города, переписываться с рабочими и прочее»[481]481
ГАРФ. Ф. 1167. Оп. 5. Д. 76. Л. 1.
[Закрыть]. По рекомендации Малиновского в Варшаве работал некоторое время среди русских рабочих-ткачей и железнодорожников машинист Афанасьев, исчезнувший после ареста и быстрого освобождения (подозрения против него подтвердились в 1917 г.)[482]482
Najdus W. Op. cit. S. 307.
[Закрыть].
По свидетельству розламовца В.Краевского (Штейн), Ленин, узнав о подробностях дезертирства Малиновского, заметил: «Да, тут что-то неладно. Это дело надо основательно выяснить. Но есть ли тут неизвестные нам более глубокие причины или это просто непостижимое сумасбродство, одно ясно: из партии его придется исключить»[483]483
Краевский В. Из воспоминаний о В.И,Ленине // Печать и революция. 1926. NH. С. 6–7.
[Закрыть]. Последнее не вполне точно: советуя в письме Г. И. Петровскому (позднее 12(25) мая) тверже перенести «взбалмошный уход Малиновского», Ленин не согласился с предложением петербургских большевиков и депутатов официально заявить об исключении его из партии, посчитав это излишним: «Устранился сам. Осужден. Политическое самоубийство. Чего тут карать еще? К чему?.. Чего еще сосать и терять время?»[484]484
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 48. С. 294; Куранты. 1993. 13 авг. С. 11 (РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 1. Д. 23822).
[Закрыть]. Такой подход депутаты считали необоснованно мягким. Возможно, их мнение было связано с разбирательством, проводившимся в Петербурге (сведений об этом разбирательстве мало; А. Е.Бадаев показал в 1917 г., что в комиссию входили 2 большевика, 2 меньшевика и 1 беспартийный юрист)[485]485
Дело провокатора Малиновского. С. 43–44.
[Закрыть].
18 мая «Правда» констатировала, что Малиновский «поставил себя вне наших рядов». Именно эту компромиссную формулировку мы находим в постановлении «руководящего учреждения марксистов» (легальное обозначение ленинского ЦК РСДРП), опубликованном «Правдой» 31 мая.
Постановление информировало о результатах проведенного расследования, о котором впервые было упомянуто в печати. Были указаны три источника выводов: объяснения Малиновского, заявление большевистской фракции и резолюции, принятые группами организованных рабочих (то есть партийными организациями). Выводы сводились к тому, что обвинять Малиновского в политической нечестности нет никаких оснований, но сложение депутатских полномочий без ведома руководства партии, без предварительных объяснений с избирателями и товарищами по фракции является чудовищным нарушением дисциплины, фактом дезорганизации. Тем самым, говорилось в постановлении, Малиновский поставил себя вне рядов организованных марксистов. Утверждалось также, что этот поступок не имел под собой политической подкладки и вызван был обостренной нервозностью, душевной усталостью, временным затмением. Признавалась возможность возвращения Малиновского в будущем в партию – по специальному решению «марксистского целого», если этот вопрос будет возбужден организованными рабочими[486]486
Трудовая правда. 1914. 31 мая.
[Закрыть].
Конечно, между формулировками «исключен из партии» и «поставил себя вне партии» разница как будто не столь уж большая (достаточно вспомнить, что вторая была употреблена на Пражской конференции в отношении «ликвидаторов»). Постановлению от 31 мая соответствовали резолюции, печатавшиеся в «Правде», – с одной стороны, они осуждали Малиновского за дезертирство, с другой, клеймили «ликвидаторов» за «клевету». Но резолюции все же не передавали в полной мере настроение рабочих. В первые дни после ухода Малиновского М.Горький заметил: «…Необъяснимо, несмотря на обилие объяснений»; 7 июня он писал Г.В. Плеханову о петербургских рабочих, которые беседовали с ним, «превосходно и ядовито критикуя Думу, Малиновского…»[487]487
Горький М. Собр. соч.: В ЗО т. М., 1955. Т. 29. С. 322; Архив А.М. Горького. М., 1959. Т. VII. С. 233.
[Закрыть] (дело было на даче Горького под Петербургом, в Мустамяках, где, кстати, находилась и дача Малиновских). «Негодование на Малиновского у наших питерцев было, пожалуй, еще больше, чем у нас, – вспоминал Зиновьев. – Они чувствовали урон непосредственнее»[488]488
Зиновьев Г.Е. Указ. соч. С. 197.
[Закрыть].
Различие между питерцами и поронинцами заключалось, однако, как раз в том, что позиция последних была далека от «негодования», как и от точной оценки ситуации. Первым это почувствовал Г.И.Петровский: «Мы очень мягко отнеслись к ренегату, а Вы своим отношением нас удивили… Не будет ему места среди нас. Еще только началось, и еще будет отражаться та отрицательная сторона, которую произвел ренегат худшей марки; эта рана не скоро заживет… Я давно говорил, что это мыльный пузырь, который надували… Вы своим поведением нас сильно огорчили, но мы думаем, что, стоя вдали, Вы плохо понимаете суть дела»[489]489
РЦХИДНИ. Ф. 17. On. 1. Д. 1478. Л. 1 об.
[Закрыть] В другом письме Петровский высказался по адресу партийного начальства еще более резко: «Не вздумайте любимчика около себя пригревать, чтоб и духу его не было к осени»[490]490
Там же. Д. 1488. Л. 1.
[Закрыть].
Имеется достаточно данных, подтверждающих правоту Петровского. 13 июня А.Г.Шляпников писал Ленину из Петербурга: «Несмотря на все резолюции, «констеляции» в низах хуже, чем вы, видимо, представляете… Поймите, что ребята проглотили только что весьма неудобоваримый кусок; заставляя глотать еще штуку весьма неприятную, можно вызвать рвоту. Подождите пару дней – услышите живую речь. Особенно невыносимо письмо осужденного, его устами обвинять [ «ликвидаторов») в нечестности не значит выбрать подходящий рупор… Сообразите, какие чувства он здесь оставил, и вы, быть может, согласитесь, что боязнь обратных результатов по меньшей мере законна»[491]491
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 968. Л. 100 об.
[Закрыть].
Чью «живую речь» предлагал послушать Шляпников? Возможно, А.С.Киселева и II.П.Глебова-Авилова, приехавших в конце июня в Пороиин на Совещание ЦК с партийными работниками[492]492
Ленин В.И. Полн. собр. сч. Т. 48. С. 313–314.
[Закрыть]. Оба занимали видное положение в петербургской организации и в союзе металлистов и, конечно же, могли подтвердить слова Шляпникова о настроении рабочих. По словам Киселева, в связи с делом Малиновского большевикам «пришлось выдержать огромный нажим рабочих масс».
В Поронине во время прогулки по окрестностям Киселеву и Глебову-Авилову довелось встретить Малиновского, которого эта встреча совсем не обрадовала. «Прошли мы, – вспоминал Киселев, – не более полверсты, как навстречу нам попалась крестьянская бричка, на которой сидело несколько человек, по внешнему виду – крестьяне, и среди них небезызвестный Роман Малиновский… Как по команде, все трое отвернулись, как будто он нам совсем не знаком. Когда бричка немного проехала, мы из любопытства оглянулись, оглянулся также и Малиновский, а на лице у него отразился такой испуг, что мы были поражены происшедшей с ним переменой… Мы сделали заключение, что Малиновский решил, что его как провокатора открыли, и мы приехали доложить об этом в ЦК партии, а вероятнее всего, он сделал предположение, что мы приехали для расправы с ним как провокатором». Как выяснилось позже, Малиновский жаловался Зиновьеву на «товарищей из Питера», которые «так жестоко обошлись с ним, что при встрече даже не поздоровались»[493]493
Киселев А. В июле 1914 года // Пролетарская революция. 1924. № 7. С. 40–41.
[Закрыть].
Наконец, о настроении рабочих свидетельствовал самый чувствительный в то время барометр – тираж «Правды»: с 60–65 тысяч экземпляров он упал до 20 тысяч.
Поэтому расследование в Поронине продолжалось и после опубликования 31 мая постановления ЦК РСДРП. Оно проходило в атмосфере острой конфронтации между большевиками и «ликвидаторами», в сильнейшей степени повлиявшей на исход разбирательства – в большей степени, чем непримиримость рабочих, которой Ленин в конечном счете пренебрег.
Следует иметь в виду, что делу Малиновского предшествовало несколько других выплеснувшихся на страницы печати персональных дел – не столь громких, но широко использованных «ликвидаторами» для нападок на правдистов.
Одно из них касалось Б.Г.Данского (псевдоним К.А.Комаровского). Этот большевик (член Петербургской организации РСДРП с 1911 г.) был видным участником страховой кампании, часто выступал на страницах «Правды» и других большевистских изданий по вопросам страхования рабочих, в сентябре 1913 г. посетил Ленина[494]494
РЦХИДНИ. Ф. 124. On. 1. Д. 920. Л. 5.
[Закрыть]. Но раньше, будучи членом СДКПиЛ, он ряд лет сотрудничал в журнале петербургского общества фабрикантов и заводчиков «Промышленность и торговля». Сотрудничество социал-демократов в непартийной печати «для заработка» в принципе допускалось, но в данном случае речь шла о печати «хозяйской», агрессивно антирабочей. Поэтому выводы по делу Данского, обнародованные «Правдой» и сводившиеся к тому, что Данский постепенно переходил от участия в буржуазной печати к участию в печати рабочей, убедили не всех даже в правдистском лагере. «Правы ли правдисты, не исключая его из своей среды? – спрашивала М.И.Бурко. – Не лучше ли бы было его исключить, а потом, реабилитировав, принять?»[495]495
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 968. Л. 39 об.
[Закрыть]. «Небывалым позором» назвали историю с Данским члены женевского кружка группы «Вперед», они недоумевали, почему правдисты так строги к меньшевистской семерке – при том, что мотивы в оправдание раскола думской фракции ничтожны, – и так снисходительны к Данскому[496]496
Там же. Д. 891. Л. 207.
[Закрыть].