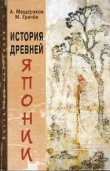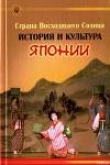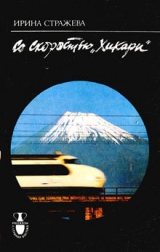
Текст книги "Со скоростью "Хикари""
Автор книги: Ирина Стражева
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
На самой высокой отметке
– Приветствуем вас в городе Одавара, – такими словами встретили нас у входа на фабрику «Канэбо» два японца в фирменных голубых костюмах. Ослепительно белые рубашки и черные галстуки – это тоже «почерк» японской фирмы.
В Одавара мы добирались на электричке. Кроме Эрико-сан в этой поездке нас еще сопровождает активистка ОЯСС Ёсико Татибана.
– Четыре женщины, – говорит она, – это уже мощная бригада. Кто, как не женщина, может по достоинству оценить дары современной косметики. Вы чувствуете, что даже в проходной уже все пропитано ароматом духов, которые производит фирма «Канэбо».
Фабричный двор. Аккуратно подстрижены газоны. Повсюду цветы и декоративная зелень. На большом травяном квадрате словно выткан ковер из мелкого кустарника с еще более густым оттенком зелени. Он выполнен в виде колокольчика и посередине этого ковра выпуклая буква «К».
– Как здесь все продуманно и красиво! – восхищается Марет. – Посмотрите на эти пальмы, растущие в грунте. Это скорее зона отдыха, а не фабричный двор.
На крыше главного здания сооружен огромный декоративный куб. На каждой его стороне изображен все тот же колокольчик, но уже внушительного размера.
Есть во дворе две теннисные площадки. Натянута сетка для игры в волейбол. А под легким навесом столы для настольного тенниса.
– Оказывается, это еще и богатый спортивный комплекс, – продолжает комментировать Марет.
Встреча с руководством фабрики проходит в кабинете директора. На «столе переговоров» два флажка: японский и советский. О работе предприятия подробно рассказывает менеджер фабрики в Одавара Кейсуке Такэда. Так написано в визитной карточке, которая вручена каждому гостю. Г-н Такэда занимает эту должность всего три года. Он молод, энергичен, чувствуется, что очень деловит.
В жизнь парфюмерной фабрики, говорит он, давно и прочно вошли современная технология и компьютеры. Успешно работает вычислительный центр. Ныне, в век бурного научно-технического прогресса, без автоматизации не мыслится даже изготовление губной помады, питательных кремов, краски для бровей и ресниц, лака для ногтей, всевозможных лосьонов. Но лучше пройти в цехи и самим посмотреть, как работают в «Канэбо». Сопровождать нас будет один из ведущих работников фирмы.
Главный корпус фабрики. Поднимаемся на второй этаж и сразу попадаем в застекленную смотровую галерею. Она проходит по периметру цеха, где изготовляются некоторые виды косметики. Сверху хорошо просматривается цепочка конвейера.
– Мы специально соорудили такую галерею, – поясняет представитель фирмы. – Для посетителей – хороший обзор, а для нас важно то, что не отвлекаются от дела рабочие. В течение года на «Канэбо» приезжает много гостей.
Идем вдоль галереи. Внизу безостановочно бегут и бегут ленты конвейера. Ритмично работают фасовочные и упаковочные машины. Все, за исключением наклеек на тюбики и баночки с кремом, автоматизировано.
– У нас высокое требование к стерильности, – продолжает рассказывать представитель фирмы. – Есть цехи, куда не заходит во время работы даже директор. Например, цех, где изготовляют косметику для глаз. Как и вы сейчас, директор смотрит на работающих там людей лишь через застекленные стены.
При фабрике имеется научный центр. Работает в нем около четырехсот специалистов. Две трети работающих в нем – женщины.
Покидаем помещение цеха и выходим опять на фабричный двор. Представитель фирмы показывает на одно небольшое здание.
– Это учебный центр. Учатся в нем всего один месяц. Принимаем на учебу девушек, работающих в косметических отделах магазинов и занимающихся распространением продукции «Канэбо» среди населения.
Они живут в хороших условиях. В общежитии есть кухня. При желании можно питаться в столовой, где прилично кормят за небольшую плату. Кроме теоретической подготовки девушки проходят практику: учатся искусству массажа и накладывания на лицо специальных кремовых масок.
Хорошо продумано на территории фабрики размещение очистительных сооружений. Чувствуется, что проблема охраны окружающей среды не ушла из поля зрения администрации.
– А этот процесс вы тоже со временем собираетесь автоматизировать? – спрашиваю полушутя и показываю на идущего вдоль дорожки человека с метлой.
– Нет, – улыбается представитель фирмы. – Мы бережно относимся к окружающей нас природе. Посмотрите, как осторожно этот человек отбрасывает в сторону каждый опавший листочек. Кстати, он хорошо пишет стихи и хорошо рисует. На нашей фабрике он работает уже много лет.
Закончив осмотр фабрики, вновь прошли в кабинет директора. Г-н Такэда зашел в него лишь для того, чтобы попрощаться с нами. Он доволен нашей встречей: поговорили и о косметике, и о космонавтике. Сейчас он должен срочно уехать: дела. Беседу с нами продолжит его заместитель по вопросам экономики.
У фирмы «Канэбо» давние деловые связи с Советским Союзом. Многие ее представители не раз побывали в Москве, Ленинграде. И не только парфюмерия связывает коллектив «Канэбо» с советскими людьми. В Московской консерватории учится брат одного из руководителей фирмы. Некоторые сотрудники этой фирмы часто ездят в нашу страну по туристическим путевкам.
Из «царства колокольчиков» мы уходим во время обеденного перерыва. Рабочие и служащие отдыхали. Летели через сетку теннисные мячи. Молодежные команды сражались на волейбольной площадке.
– Может быть, посоревнуемся с ними? – предложила Марет. – Наша сборная, составленная из игроков Токио, Москвы и Таллина, против японской молодежной команды парфюмерной фабрики «Канэбо».
– К сожалению, лимитирует время, – сказала Эрико-сан. – Нам надо ехать в Хаконэ.
– Это горная и очень красивая местность. Жители Токио часто ездят туда, чтобы подышать горным воздухом, – добавила Ёсико Татибана. – Там много деревьев сакуры. Она так чудесно цветет весной.
У проходной нас уже ждало такси. Все по форме. Машина в розово-голубых тонах. Водитель в строгом черном костюме. На бортах такси цветные иероглифы.
– Рекламирует спортивные костюмы, – быстро пробежала Эрико-сан глазами по сделанным надписям.
Дорога долго шла по гористой и действительно необыкновенно красивой местности. Осень уже обнажила ветви многих деревьев, и они, переплетаясь друг с другом, украсили склоны гор причудливым ветвистым узором.
Склоны. Крутые повороты. От дороги то и дело вверх и вниз убегают тропинки. Останавливаемся по пути около большого дерева, сплошь увешанного белыми матерчатыми лентами. Опять «полоски желаний»…
– Лишь бы их не унес отсюда ветер, – подходит к дереву Есико Татибана. – В осеннюю пору он бывает ураганным и не очень добрым.
«Полоски человеческих надежд»… Жаль, что не могу и я прикрепить на одну из ветвей этого дерева в горах Хаконэ свою «полоску желаний». Что написала бы я на ней? Свое желание еще раз вернуться сюда, когда на этих горных склонах зацветет сакура…
По дороге нам часто встречаются автобусы с туристами. Приветствуем друг друга.
Подъезжаем к «заставе». Это историческое место, к описанию которого не раз возвращались японские прозаики и поэты.
Застава была построена в XVII в. по приказу сёгуна Токугава. Это был рубеж между двумя районами: к востоку от заставы был район Канто, где находился город Эдо, а по левую сторону перевала, к западу, был город Киото. Эрико-сан говорит, что это была важная застава. Она контролировала дорогу между двумя важнейшими городами страны. Другого пути для связи их практически не было. Тут проверялись документы и стражники придирчиво и подолгу вглядывались в лицо каждого человека. В 1868 г. застава была снята. В память о ее роли в истории Японии на вершине перевала установлен обелиск.
Вышли из такси, немного погуляли. Выпили по стакану прохладительного напитка. А еще побеседовали с туристами, приехавшими из Америки. Один из них даже попросил сняться с ними на намять о такой интересной советско-американской встрече в горах.
– Рука дружбы, – сказал он, протягивая руку. – Все люди на земле должны дружить.
Горная дорога. В этих местах, в долине Хаякава, много горячих целебных источников. Все они вулканического происхождения. Два самых больших из одиннадцати называются «Большой ад» и «Малый ад».
– Но вода и в одном, и в другом источнике очень целебная, – уточняет Есико Татибана. – Лучше бы слово «ад» заменить на «рай».
В разговор включается водитель такси. Его слова переводит Эрико-сан. Водитель рассказывает:
– Кругом богатейшая природа. Я часто привожу сюда туристов из разных стран и, конечно, жителей Токио. Большой популярностью пользуется водопад, который называется «Занавес из бус, нанизанных на нити». Разнообразны здесь леса. Растет бук, сосна, дуб, пихта, бамбук. Много и зверей. Не удивишься, если встретишь в горах лань, кабана, обезьяну. А лисиц не пересчитать. Но, пожалуй, главное украшение этих мест – Тростниковое озеро, или Асиноко. Оно образовалось в кратере вулкана, и вода в нем чиста и прозрачна. В хорошую погоду в нем, как в зеркале, отражается Фудзи, которая словно умывается в нем.
Эрико-сан хвалит водителя. Хорошо рассказывает. Из него получился бы неплохой гид.
Машина останавливается около отеля под названием «Принц». Обедать будем в ресторане «Сакура».
В зале ресторана все выдержано в густых красных тонах: мебель, шторы на окнах, скатерти, салфетки и одежда обслуживающего персонала.
Стол, за которым мы обедаем, стоит около большого окна. За окном на переднем плане японский сад с изобилием бамбука, а за садом вид на огромное озеро. Чем-то оно напомнило наше горное озеро Рица.
– Вам нравятся японские сады? – интересуется Ёсико Татибана. – Они у нас очень разные. В водоемах бывают очень оригинальные островки. То в виде черепахи, то напоминающие по своему очертанию летящего журавля. А то очень похожи на облака…
Она мечтательно смотрит вдаль, туда, где по озерной глади плывут, точнее, скользят два больших парусника. У одного паруса белые, у другого красные.
Как не вспомнить в эти минуты прекрасную повесть А. Грина «Алые паруса»?! Может быть, в Японии тоже есть свой Грэй, своя Ассоль?
Но даже прекрасным сказкам приходит конец. Покидаем отель «Принц», ресторан «Сакура». Водитель такси открывает дверцы машины.
И опять на нашем пути горные склоны, крутые повороты. Где-то недалеко находится перевал, на который можно подняться по электроканатной дороге. Водитель такси рассказывает:
– Этот перевал называется перевалом «десяти провинций». С него открывается вид на них. Названия этих провинций высечены на большом камне. Это самая высокая точка перевала. Я был там, видел Тихий океан и Фудзи-сан.
Марет спрашивает: был ли наш водитель на вершине Фудзи? Качает головой: пока не был. Но будет обязательно.
На смотровой площадке остановка. Фотографируемся на отметке «1011 м». Я стою рядом с водителем такси. Он не только «автомобильный ас», но и прекрасный рассказчик. Тепло прощаемся с ним в городе Юмото.
До Токио едем на электричке со звучным названием «Роман». Вечером предстоит встреча с сотрудниками посольства СССР в Японии. Попросили рассказать о космонавтике, ее роли в народном хозяйстве.
…Вечер в посольстве. Даже краткое общение с людьми своей Родины и волнует и радует. Сколько дружеских улыбок и рукопожатий. Сколько вопросов и с одной и с другой стороны. Маленький советский остров в большом японском архипелаге. И слушатели здесь не «сан», а просто «товарищи». Говорить можно на русском языке, не прибегая к помощи переводчиков.
…Закончен день, заполненный столькими событиями. Закрываю глаза и еще раз «прокручиваю» все в памяти. Хороший был день.
Бамбуковый медведь и немного лирики
Каждое утро мы с Марет спускаемся завтракать в ресторан первого этажа. Официант Моритонэ встречает нас, как давних знакомых. Он ездил туристом в Москву, и она ему очень понравилась. Спрашивает: какой сегодня у нас маршрут?
– Парк Уэно и музеи.
Парк Уэно – один из любимых у жителей Токио. Здесь можно посидеть с книжкой на скамейке, побродить по дорожкам, окаймленным мелким кустарником, покормить голубей. Можно посетить находящийся в пределах парка музей национального искусства. Но, к сожалению, этот музей на ремонте. Для осмотра открыты лишь несколько залов первого этажа.
Посетителей музея встречают деревянные статуи будд. В одном из залов широко представлена национальная одежда: вышитые кимоно, праздничные наряды мужчин и женщин. Очень разнообразна выставка лаковых изделий.
Экскурсовод – сотрудница музея – подводит к большой черной вазе. Ее поверхность покрыта настоящим старым лаком. Именно старым, но который по своему внешнему виду почти не отличается от современного. Основное качество старого лака, как объясняет экскурсовод, заключается в том, что он не портится, не трескается, не боится огня и мороза и очень прочно пристает к деревянной поверхности. К сожалению, секрет его изготовления утерян. Поэтому старинные лаковые вещи имеют большую ценность.
Лакировка – один из видов японского искусства. Смолу для получения лака собирают с деревьев уруси в апреле – октябре. В дождливое время делают на дереве насечки, откуда потом и стекает лаковый сок.
Сам процесс лакировки очень кропотлив и требует большого мастерства. Лакируемая поверхность покрывается сначала кисеей, на которую накладывается рисовый клей. Затем сверху наносят тонкий слой лака и изделие ставят в печь. Через некоторое время его вынимают из печи и вновь покрывают несколькими слоями лака. Потом блестящую поверхность украшают золотыми и разноцветными узорами.
– Лак бывает не только черный. Есть лак красный, золотой, желто-оранжевый и даже «в крапинку», – говорит экскурсовод.
Разнообразны и рисунки, украшающие многочисленные вазы, коробочки, подносы. То на темном фоне золотистые журавли, го белокрылые чайки, то извивающиеся драконы, летящие на фоне горных вершин, освещенных солнцем.
В книге «Японское искусство» Садакичи Гартман пишет, что в феодальные времена у каждого даймё был придворный лакировщик. В его обязанность, в частности, входило изготовление лаковых вещей для малолетних дочерей даймё. Делались они годами: ящик для зеркала, столик, чашка для умывания, вешалка для платья, коробочки для лекарств. Девочка росла, взрослела, все больше в ее приданом накапливалось лаковых вещей.
Экскурсия в музей национального искусства окончена.
– Погуляем по парку, – предлагает Ёсида-сан, тоже сопровождающий нас сегодня.
Народу в эти утренние часы в парке Уэно немного: в основном это старые люди и школьники. На лужайке около миниатюрного, водопада на циновке сидят девочки в школьной форме. На вид им лет по тринадцать-четырнадцать. Свои туфельки они поставили на траве у края циновки.
Школьницы собирались завтракать. В картонных коробочках фрукты, бутерброды, сладости. Одна из девочек разливает из большого термоса в чашки чай.
Эрико-сан что-то говорит девочкам. Они поспешно поднимаются с циновки и приглашают нас разделить с ними их завтрак. Беседуем со школьницами. Как они учатся? Чем увлекаются?
Одна очень миловидная девочка, чуть смущаясь, говорит, что любит рисовать. Ей хотелось бы стать художницей. Другую девочку интересует биология. Она очень любит животных. Две девочки давно решили стать учительницами. Спрашивают и нас с Марет: как отдыхают наши школьники и изучают ли в советских школах японский язык? Беседа идет дружески. Вместе со школьницами кормим подлетевших поближе голубей.
– Это мир… Это Пикассо… Голубь – дружба, – просит перевести нам такие слова одна из девочек, которая хочет стать художницей.
Попрощавшись со школьницами, идем в глубь парка. Одна из его дорожек приводит к воротам зоологического сада.
Признаюсь, что это я очень активно уговаривала моих спутников пойти посмотреть на зверей. В нашей программе посещение зоопарка не предусматривалось. Меня поддержала Марет, сказав, что мы вполне можем обойтись без обеда. Эрико-сан молчала, но потом призналась, что любит зверей, а в зоопарке давно не была. Посмотреть на зверей всегда интересно.
Ёсида-сан долго смотрел на листок с программой дня. Потом, слегка вздохнув, сказал: «Хай!». Вместе с японской детворой, их мамами, бабушками и дедушками мы зашагали по центральной аллее Токийского зоологического сада.
У плаката с правилами поведения посетителей Ёсида-сан чуть задержался. Догнав нас, сказал:
– Взял четыре билета, а, оказывается, дети до одиннадцати и взрослые старше шестидесяти могут проходить в зоопарк без билетов. В следующий раз надо учесть.
– Начнем с Большой панды, – предложила Эрико-сан. – Это очень интересный зверь.
Большую панду, или бамбукового медведя, в японский зоопарк привезли из Китая. Бамбуковые медведи обитают в горных районах КНР, в основном в провинции Сычуань, и занесены в «Красную книгу». Принадлежат они к семейству млекопитающих енотов. Туловищем они напоминают медведя, а морда у них похожа на кошачью. Окраска бамбукового медведя черно-белая.
Бамбуковый медведь громоздок и весьма неповоротлив, но в случае опасности довольно легко взбирается на деревья. Вес медведя порой достигает девяноста килограммов. Малая подвижность лишает его возможности угнаться за добычей. Выручает Большую панду его основной корм – бамбук синарундинарияс его вечно зеленой листвой. По примерным подсчетам, медведь может съесть за сутки от двадцати восьми до сорока килограммов стеблей бамбука и листвы, содержащей белок, углеводы и минеральные соли.
В Китае в последние годы погибли большие массивы бамбука, и Большая панда оказалась под угрозой вымирания. Это бедствие было связано с тем, что стала цвести синарундинария.Она цветет каждые пятьдесят-шестьдесят лет и после цветения засыхает.
По спасению бамбукового медведя по всей стране была проведена общенациональная кампания, выделены специальные средства. Помощь оказали и международные организации. Китайские школьники призвали каждого учащегося для спасения редкого животного пожертвовать по одному фыню. В уездах, где водятся эти медведи, стали заниматься посадкой бамбуковых рощ.
Вообще, бамбук – это род тростника. Он тверд как металл, и его не берет топор. Растет бамбук быстро и не требует специального ухода. Как говорят, «сегодня посадили, а к утру он уже до пояса». Листья бамбука начинаются высоко от подошвы гладкого и полого внутри ствола и раскидываются во все стороны светло-зеленым шатром.
Молодые побеги бамбука очень вкусны и нежны. Они широко используются для приготовления многих национальных японских блюд. Но главное – применение бамбука в строительном деле и в промышленности. Из него изготовляют крыши, рамы для стен домов, легкую мебель, корзины всех размеров и форм, трубы для орошения полей, шляпы и многие предметы домашнего и промышленного обихода. И, оказывается, бамбук еще очень нужен Большой панде!
Подошли к женщине-экскурсоводу, только что закончившей свои объяснения небольшой группе туристов. Она рассказывает:
– Когда бамбукового медведя доставили в Токийский зоопарк, очередь посмотреть на этого необыкновенного зверя протянулась на несколько километров. Сейчас пандовый бум прошел. Но интерес к Большой панде все еще велик. Считают, что в неволе этот зверь может прожить около тридцати лет. Нашу панду зовут Хуан-хуан.
У вольера, где обитает Хуан-хуан, стояло несколько ребятишек. Большая панда мирно дремала в углу. То ли устала от любопытствующих взглядов, то ли по режиму зоопарка это время отводится животным для сна…
В справочнике по зоопарку говорится: «Хуан-хуан поступила в японский зоопарк в 1980 г. Ей было тогда тринадцать лет…».
В 1984 г. у Хуан-хуан появился детеныш. Но его жизнь скоро оборвалась: неповоротливая мать «нечаянно» задавила свое дитя.
Постояли у вольера. Большая панда по-прежнему в легкой дремоте. Возможно, видятся ей в эти минуты ее соотечественники и бамбуковые рощи, о которых тоже в свое время писал поэт Басё:
Поник головой до земли.
Словно весь мир, опрокинутый вверх дном,
Придавленный снегом бамбук.
Пер. В. Марковой
В зоопарке много интересных зверей. Посмотрели, как заботливо поливают водой друг друга огромные слоны, как весело играют обезьянки, разгуливают по вольерам львы и тигры. Очень много здесь красивых редких птиц.
Закончив осмотр зверей, сели в кафе за столик и вместе с японскими ребятишками полакомились мороженым. Попутно побеседовали с их мамами на тему о воспитании маленьких детей. Это тема интернациональная и неисчерпаемая.
Встреча с женщинами ОЯСС, активистками, надолго останется в памяти. На нее пришли Като-сан и г-жа Накати, а также руководительницы женского отделения ОЯСС Хисаэ Кобаяси, Соноко Такино, Эцуко Цудзи. Всего в небольшой комнате, где размещается ОЯСС, собралось человек пятнадцать.
На встречу мы с Марет немного опоздали из-за непредвиденного заранее «уличного стояния» такси на одной из центральных улиц Токио.
Нас ждали. На столе стояли блюда с выпечкой, приготовленной активистками. Каждая хотела продемонстрировать гостям свое кулинарное искусство.
Разговор шел на русском языке. Активистки Общества уже сделали большие успехи в его изучении. Об этом с понятной гордостью говорила преподавательница русского языка, работающая в посольстве СССР в Японии. К сожалению, я не запомнила ее фамилии.
Первой взяла слово г-жа Накати. Она коротко рассказала о деятельности ОЯСС, о том, что они всегда радуются встречам с советскими людьми. Г-жа Накати говорила также, что такое общение способствует укреплению дружеских связей между нашими народами. Выступивший после нее Като-сан особенно подчеркнул роль женщины в борьбе за мир. Он похвалил собравшихся активисток за их большую и плодотворную работу.
– У нас сегодня несколько необычная беседа, – приподнялась со своего места преподавательница русского языка. – Это еще и своего рода экзамен. Все мои ученицы будут задавать вопросы и говорить только по-русски.
Так оно и было. В этот вечер за столом преимущественно звучала русская речь.
Сначала по просьбе присутствующих я и Марет немного рассказали о себе, своей деятельности и ближайших планах. Поделились впечатлениями о поездке в Хаконэ. Рассказали, как тепло принимали нас на фабрике в городе Одавара, какая чудесная там косметика.
А потом из-за стола поочередно поднимались активистки. Женщины делились тоже своими проблемами, заботами. Много говорили о детях. Надо сказать, что «экзамен по русскому языку» все выдержали «на отлично», к такому единодушному мнению пришли мы с Марет.
– А вот японский язык мне представляется очень трудным для изучения, – высказалась я.
– Что вы! – возразила сидящая рядом со мной молодая женщина. – Наш разговорный язык достаточно прост. Например, слово-суффикс тайозначает «хочу». Вы хотите сказать: «Хочу спать». Спать – по-японски нэру.Отбросьте от второго слова второй слог руи добавьте к нэслово-суффикс тай.У вас получится нэтай,т. е. «хочу спать».
За столом все оживились.
– Теперь вам задание, – обратилась ко мне преподавательница русского языка. – По-японски табэруозначает «есть». Как вы скажете: «Хочу кушать»?
Все взгляды устремлены в мою сторону. Не совсем уверенно, но все же говорю:
– Табэтай.
И зарабатываю аплодисменты.
– Ну раз наша гостья проголодалась и сказала это даже по-японски, давайте приступим к ужину, – предложила г-жа Накати.
Дружеский вечер закончился пением. Спели на русском языке нашу советскую песню «Пусть всегда будет солнце!». Она очень популярна в Японии, как и во многих других странах.
Я смотрела на одухотворенные лица поющих женщин, на их добрые глаза. Думала: цену жизни особенно хорошо знают именно женщины. Ведь это они дарят человеку жизнь.
После приема в Обществе все вышли на улицу. Несколько активисток предложили проводить нас до отеля. Шли не спеша. Заговорили о японской литературе.
Творчество японских писателей многогранно. Незадолго до поездки в Японию я прочитала книгу Тэцуо Миура. Жизнь этого писателя, как видно, была нелегкой. Окончание войны он встретил пятнадцатилетним пареньком. В новелле «Я в пятнадцать лет и мое окружение» он написал так: «Я вспомнил себя в годы войны, и сердце мое защемило от боли. Сколько же молодых людей пошло на смерть вот так, беспечно, будто отправляясь на пикник!» {59} .
Глубоким смыслом наполнена его новелла «Пантомима». Маленькая героиня Моё проводит много времени в «чудесном сером лесу». Таким лесом для нее стали бетонные конструкции о четырех ногах – тетраподы. Это место недалеко от дома, в котором живет Моё со своими родителями. Отец и мать приходят с работы поздно и почти не видят дочери.
Однажды Моё видит неподалеку от берега моря двух пришедших сюда молодых людей. Они любят друг друга.
«Когда Моё в первый раз увидела туфли той женщины, она вытаращила глаза от изумления: какие огромные цветы шиповника! Не разглядев, что это были просто красные туфли, решила: шиповник расцвел! Но потом сразу же поняла, что ошиблась» {60} .
Конец «Пантомимы» трагичен. У влюбленных нет надежды на счастливое будущее. Взявшись за руки, они бросаются со скалы в море.
В творчестве Тацуо Миура мне понравилось то, что он выбирает своих героев из близкой ему среды. Это скромные и трудолюбивые люди: плотники, конюхи, мастеровые, пожарные, мелкие торговцы. Почему они стали его героями? На этот вопрос писатель отвечает так: «Наверное, потому, что вырос в деревне, я питаю глубокую привязанность ко всему связанному с землей, и, видно, поэтому люблю писать о людях полей, незаметно проводящих свои дни в глухих деревенских уголках» {61} .
В писательском портфеле автора много интересных произведений: «На пастбище», «Пресс-папье из окаменелого угря», «Блуждающий огонек» и др. В 1960 г. вышла его повесть «Река терпения», за которую он был удостоен одной из престижных японских премий – премии Акутагава.
Я познакомилась и с творчеством этого известного писателя. Книга Рюноскэ Акутагава «Новеллы. Эссе. Миниатюры» была переведена на русский язык и вышла в издательстве «Художественная литература» в 1985 г.
– Вы знаете, что рюпо-японски означает «дракон»? – спросила меня Эрико-сан, когда во время прогулки у нас зашел разговор о писателе Акутагава.
Оказывается, он родился в год дракона, месяц и день дракона.
Активистки сказали мне, что им тоже нравится, как пишет Акутагава. Особенно всем по душе его рассказ «Счастье».
– Там есть такие слова, – сказала одна из них после недолгого раздумья. – «Перед входом висела тоненькая тростниковая занавеска, и сквозь нее все, что происходило на улице, было хорошо видно». Мы тоже идем сейчас с вами по улице и многое видим.
– У вас прекрасная память, – позавидовала я. – А лично мне больше всего нравится его рассказ «Носовой платок».
– Да. Он широко известен. Женщины, когда читают его, часто плачут.
Содержание этого рассказа таково.
К профессору Токийского университета приходит женщина. Она недавно потеряла единственного сына. Он был студентом и учился в университете. Рассказывая о случившейся трагедии, женщина улыбается. Профессор в недоумении: он не может понять, в чем причина такого ее поведения. Во время разговора он роняет на пол веер. Нагнувшись, чтобы поднять его, профессор видит лежащие на коленях женские руки. Пальцы судорожно сжимают скомканный мокрый носовой платок. Профессор потрясен до глубины души. Он понял: горе матери огромно, но как велика ее сила воли.
Говорить можно до бесконечности. Столько интересных тем!
– Мы уже знаем, что вам нравятся стихи Басё, – говорит одна из активисток. – Можно я тоже прочту вам одно его стихотворение?
И она читает:
Ива ветви свесила…
Не уйду никак домой —
Ноги в них запутались…
Пер. В. Марковой
Намек понят: время уже позднее, и все устали. А расставаться не хотелось.
– Еще несколько минут поэзии, – предложила я. – Давайте устроим короткое стихотворное состязание, как было у вас в Японии в давние времена. К слову, насколько я припоминаю, Басё как-то сказал своему ученику, что тот человек, который написал три или пять превосходных стихотворений. – настоящий поэт.
– А тот, кто написал десять хороших стихотворений, – уже настоящий мастер, – дополнила меня активистка.
Так еще некоторое время шли мы по улицам Токио, соревнуясь в знании стихов японских поэтов. Я и Марет проиграли это состязание, но удовольствие получили большое. Замечу, что многие стихотворения японские друзья читали по-японски. Их звучание очень красиво.
Почему в Японии так любят поэзию? Я тоже думала об этом. Один из ответов, и, как мне кажется, удачных, дал Г. Востоков в одном из своих очерков «Язык и литература Японии».
«Главный источник поэзии Японии, вдохновлявший лучших ея поэтов – чувство природы, любование каждым ея явлением, то чувство глубокой симпатии, которое всякого японца сближает, роднит со всяким проявлением жизни в природе, подчеркивает, делает осязаемою связь его с ней; здесь сказывается почти наивное отождествление, способность слияния, разговора с ней. Лучшие, самые дорогие сердцу японскому, праздники народные – праздники цветов. Вместе с распусканием сначала сливы, потом вишни, далее глициний и т. д. до осенних хризантем весь народ охватывается праздничным, поэтическим оживлением и трогательною радостью. Вся печать следит за цветением как за явлениями национальной важности, и тысячи паломников стекаются в сады и рощи распускающихся деревьев. И тут развертывается настоящая вакханалия стихосложения; зрелище цветущих деревьев – в особенности вишни, этого национальнаго дерева, – вдохновляет всех; люди пишут свои экспромты на обрывках бумаги и прикалывают их к стволам деревьев, говорят их вслух перед радостно настроенною толпою; лучшие экспромты вызывают восторженное одобрение, попадают в прессу и разносятся по всей Японии.
Сотни подобных стихотворений входят в состав национальной поэтической сокровищницы» {62} .
Особенность японского стихосложения – это необычайная краткость. Это эпиграммы, небольшие оды, изречения. Все содержание стихотворения обычно занимает лишь несколько строк.
В японском языке нет ритма и нет рифмы. Способом образования стихотворения является счет слогов в строках.