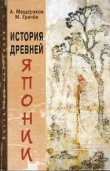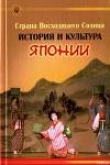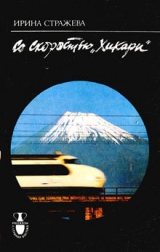
Текст книги "Со скоростью "Хикари""
Автор книги: Ирина Стражева
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
– Вы советские туристы?
– Нам просто везет, – не удерживается от реплики Марет. – Создается впечатление, что в Японии все только по-русски и говорят. Или это еще один, заранее приготовленный подарок к дню рождения, Ирина-сан?!
– Не удивляйтесь, – говорит японец. – В театрах, музеях, где бывают иностранные туристы, такие «подарки» не редкость. Лично я работаю с иностранными делегациями, в том числе и с туристами из Советского Союза. Так вы откуда?
– Приехали из Москвы в связи с проходящим сейчас у вас месячником японо-советской дружбы.
– А я сейчас работаю с туристами из Соединенных Штатов Америки. Довольно большая группа. Кстати, среди них тоже есть русские. Вероятно, эмигранты… Вам понравилось представление?
– Да. Узнали, как надо готовить настоящий чай. У нас тоже любят чай. Но готовим его несколько иначе.
Японец кивает головой:
– Это я знаю. Был у вас в Советском Союзе… «Самовар и моя Маша»… Популярная русская песня. «Пьем чай всю ночь»…
– У нас пьют чай не только с Машей. И необязательно всю ночь. На Руси чаепитие вошло в быт еще в XVII столетии. Как и у вас, это было сначала только лечебное питье.
В японском городе Йокогама есть популярный ресторан. Он называется «Самовар», – продолжает «самоварную» тему сосед. – У меня тоже есть самовар, сувенирный. Я привез его из Москвы. У него оригинальный носик, две руки и… жийвотик.
Он так и сказал «жийвотик» и громко рассмеялся. Посмотрел на часы. Говорит, что самовары его очень интересуют. Антракт продлится еще минут десять. Может быть, я расскажу ему о русских самоварах?
Что я знаю о самоварах? Не так, правда, много.
Русские самовары обрели жизнь на Урале. Их изготовляли на заводе известного промышленника Демидова. Потом они привились повсеместно. Заслуженной славой, и не только в нашей стране, пользуются знаменитые тульские самовары. Русский писатель Федор Достоевский сказал: «Самовар есть необходимая русская вещь». А другой писатель, Михаил Загоскин, вспоминал: «Везде забавлялись и пили чай».
– Хорошо сказали, – улыбается японец.
Самовары делали из латуни, стали, чугуна. Они были разные и по форме, и по внешнему виду – то «банка», то «шар». В самоварную трубу бросали древесные угли, а в лесных местностях – сосновые шишки. Стало своеобразной традицией использовать для раздувания огня старый солдатский сапог.
– Только старый? А новый можно тоже? – переспрашивает японец.
– Можно и новый, но он еще годится для носки.
– Хай! А чайные домики? Я не видел в вашей стране чайных домиков.
– Чайные домики у нас тоже есть. На проезжих дорогах, в селах можно увидеть старинной постройки избу с вывеской «Чай» или «Чайная». Приятно выпить во время пути чашку чая в зимний морозный день и жаркую изнуряющую пору.
– Понимаю. Как писал ваш Достоевский. Трактир…
– Трактиров у нас давно нет. После трудных военных лет мы получили возможность строить новые здания для отдыха и бытовых услуг. У нас в обиходе специальная сервировка чайного стола: белая вышитая скатерть, поднос, сахарница, чайники для заварки чая.
Японец перебивает меня:
– Да, чайники. Вы интересно рассказали о самоварах. Может быть, слышали о знаменитой коллекции японских чайников?
…Эту коллекцию собирали женщины. Одна из них – госпожа Струве, жена русского посла в Токио в конце XIX в. Описание этой любопытной коллекции дано в книге Садакичи Гартмана, изданной в 1908 г. Книга называется «Японское искусство» {42} . Автор пишет, что чайники были квадратные, треугольные, пятиугольные, круглые, овальные, высокие, низкие, широкие, узкие, плоские, толстые, коренастые, длинные, как палка, конусообразные. Сотни чайников…
Весьма разнообразны были они и по форме: коробки, корзинки, бочонки, букеты, фонари, черепахи, кошки, собаки. Были чайники в виде журавлей, ворон, рыб, цветов, мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Разнообразен и материал, из которого их изготовляли: золото, серебро, бронза, медь, различные сплавы. Чайники делали из корней деревьев, узлов бамбука, панцирей морских раков и даже апельсиновых корок. Были чайники из лака, слоновой кости и соломы.
Садакичи Гартман пишет, что в 1698 г. был издан капитальный труд в четырнадцати томах. Он назывался «Полное собрание десяти тысяч драгоценностей». В нем не только подобран материал, дающий описание чайников, курильниц, цветочных ваз, лакированных изделий, какемоно, но и приведены также сведения о гончарных мастерских, занимающихся различными видами искусства, например украшением сабель. Приводятся там также размеры каждого описываемого предмета, его цвет и даже «толщина взятой для изделий эмали». Какой это труд!
– У нас много коллекционеров, – говорит японец. – Коллекционируют мечи, цветы, трубки, вышивки, фарфор, почтовые марки, картины для стен (какемоно).
– У нас, да и во всем мире тоже собирают коллекции. Хорошо, когда люди чем-то увлекаются.
Но разговор о самоварах, чайниках и уникальных коллекциях надо заканчивать. Начинается музыкальный номер. Две артистки играют на кото. Такой тринадцатиструнный инструмент был вывезен из Китая 1300 лет тому назад и широко использовался для дворцовой музыки. Теперь кото гармонично вписался в музыкальную группу западных инструментов.
Следующий номер – икэбана, или аранжировка цветов.
Пожалуй, нет на свете человека, который бы не любил цветы. У одного это привязанность к полевым ромашкам или василькам, у другого – к розам, хризантемам, тюльпанам. В каждом цветке его особая привлекательность, своя красота.
Икэбана – это простота, асимметрия, кажущаяся незавершенность. Так характеризуют ее японцы.
Зарождение искусства икэбана связано с религиозным обрядом подношения цветов Будде. Цветы клали у подножия буддийских статуй, находящихся в храмах. Оформляли букеты около алтарей: знаменитые официально-торжественные рикка, т. е. «стоящие цветы». Со времен сёгуната Токугавы искусство аранжировки цветов проникло в чайные домики. «Цветущие веточки в вазе с водой могут вызвать образы несущихся потоков с необозримых гор», – высказываются знатоки искусства икэбана.
В переводе икэбана означает «помочь цветам найти себя». В Токио есть школа Согэцу («Травы и Луна»). Она была основана в 1926 г. Тэсигахара Софу. Срок обучения в этой школе – два года. У нее уже есть миллионы последователей, способствующих созданию в стране кружков для овладения искусством аранжировки.
В букете – отражение природы, времен года. Сухие листья напоминают о прошлом. Зеленая листва символизирует жизнь сегодняшнего дня. Набухшие весенние почки или еще не распустившиеся бутоны – это раздумья о будущем. Как ваятель, мастер аранжировки составляет свою композицию из цветов и сопутствующей им керамики. Здесь должно быть продумано все.
Если ветки, из которых формируется букет, гнутся и гибки, вспоминается весна. Когда лепестки распущены, пришла летняя пора. Ну а безлистные и на вид омертвевшие ветки предвещают холод и наступление зимы. В праздничные букеты не рекомендуется брать цветы осени, розы с пурпурной окраской, листья чайного дерева и клена.
В создании каждого букета заложен глубокий смысл.
– Вы уже, наверное, обратили внимание, что очень часто на картинах и скользящих панелях изображены розы и сосны, – включается в разговор Кэйко-сан. – Любимая и неисчерпаемая тема. Сосны – долголетие, розы – молодость.
– Отсюда следует, что подаренные вами утром розы обещают молодость? – спрашиваю Кэйко-сан.
– Безусловно. Вечером принесу и веточку сосны, обещающей долголетие.
– Спасибо, Кэйко-сан.
Яркий лунный свет!
На циновку тень свою
Бросила сосна.
Пер. В. Марковой
Так сказал поэт Кикаку (1661–1707), ученик Басё.
…В течение пятнадцати минут мы внимательно следим за ловкими движениями рук актрисы, занятой на сцене формированием букета. В одной руке она держит ножницы, помогающие ей убрать со стеблей все лишнее. В другой руке ветка. Легкий изгиб ветки, взмах ножниц… Еще взмах… Букет готов.
– Буду учиться икэбане, – решительно заявляет Марет. – Потом открою в Таллине свою школу.
– А теперь вас ждет очень веселое представление, – говорит г-н Фудзита, перелистывая программу. – Оно называется «Игра в дубинку и слуги».
В этой сценке участвуют всего три актера. Один из них изображает феодального лорда, двое других – слуги лорда. Лорд должен отлучиться по срочному делу, но обеспокоен, что в его отсутствие слуги могут напиться. Они очень любят вино.
Слуга по имени Дзиро демонстрирует свое искусство игры с дубинкой. Улучив подходящий момент, лорд с помощью другого слуги, Таро, привязывает кисти рук Дзиро к дубинке. Теперь обе его руки закреплены на уровне плеч. Далее лорд связывает за спиной и руки слуги Таро. Таким образом, у обоих слуг остаются подвижными лишь кисти рук.
Лорд, довольный своей выдумкой, удаляется. Но после его ухода сообразительные слуги, действуя лишь кистями рук, ухитряются открыть кладовую, достать оттуда бутыль с саке. Они наливают саке в стакан и поочередно подносят его друг другу. Вся эта сценка изобилует оригинальными акробатическими трюками и вызывает веселый смех у зрителей.
Возвратившись домой, лорд обнаруживает, что слуги пьяны и в гневе избивает их.
Театральное представление длится еще долго. Мы слушаем музыку, любуемся танцами гейш и мастерством кукольников.
– Вам еще в Токио предстоит знакомство с театром «Кабуки», – напоминает Эрико-сан. – Не сомневаюсь, что игра этих актеров вам тоже очень понравится.
Вечер в Киото. Чем живет в эти часы город? Долго, до устали, бродим по его улицам. Заглянули в район, где живут гейши.
Позже, когда я вернулась уже в Москву, меня многие расспрашивали о гейшах. Интересовались: видела ли я их? Это и понятно, в литературе, рассказывающей о жизни японских женщин, много страниц посвящено именно гейшам.
Точный перевод слова «гейша» – «посвященная искусству». Точнее, здесь сочетаются два иероглифа: «гэй» – «искусство» и «ся» – «человек». По данным японской статистики, в начале XX в. в стране было около восьмидесяти тысяч гейш. Значительно сократилось их число во время войны. Теперь, как мне сказали, их около семнадцати тысяч.
Многие авторы произведений о гейшах подчеркивают, что гейши – это прежде всего очень образованные женщины, превосходно знающие литературу, остроумные и находчивые. Полные очарования, они могут продекламировать стихотворение, прочесть отрывок из известного драматического сочинения, спеть песню и т. д.
Много книг посвящено также описанию трогательных, а порой драматических историй из личной жизни гейш. В феодальной Японии, в ее больших городах, были так называемые веселые кварталы, где гейши развлекали куртизанок и их клиентов, среди которых были поэты, музыканты, художники.
Судьба будущих гейш традиционно определялась с детства. Родители отдавали, а точнее, продавали свою дочь в обучение этому искусству.
Девочки в возрасте от тринадцати до шестнадцати лет считались ученицами и назывались майко.Их обучали пению, национальным танцам, игре на национальных японских инструментах кото и трехструнном сямисэне, также чайной церемонии, аранжировке цветов и каллиграфии. Успешно выдержав экзамен, майко становились гейшами. Многие из них затем, совершенствуя свое мастерство, не расставались со своей профессией до преклонных лет.
Гейши должны были уметь делать себе сложные прически и накладывать на лицо толстый слой грима. Непросто было овладеть искусством выбора кимоно и оби, приобрести устойчивые навыки ношения этой одежды.
– В наш просвещенный век в связи с законом об обязательном школьном образовании с шести до пятнадцати лет девочки поступают в школу гейш более взрослыми, чем раньше, – рассказывал мне японец, с которым мы разговаривали в фойе театра «Гионкоон». – Возрастные коррективы несколько состарили гейш. Но по-прежнему эта профессия популярна в Японии.
В обязанность современных гейш входит развлечение клиентов, пришедших на банкет в ресторан японского типа.
Они садятся рядом с клиентом, ухаживают за ним и принимают участие в ведущейся беседе. Время от времени гейши меняются местами друг с другом, переходят от одного столика к другому. После окончания застолья поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах и остроумно шутят.
Почти у каждой гейши, особенно живущей в большом городе, заводится постоянная клиентура, могут быть постоянные покровители. Нередко случается, что гейша выходит за своего покровителя замуж.
Гейша – профессия. Отсюда и определенные правила их жизни. Гейши живут в специальных домах, называемых окия,и объединяются в группы ханамати.Эти группы, в свою очередь, закреплены за специальной конторой. Такая контора выдает разрешение на работу в заведении рётэй.Так называется тип ресторана или гостиницы, куда приходят клиенты. Еду там не готовят: ее приносят из соседних небольших ресторанчиков.
Хозяйку дома, в котором живут гейши, называют мамой. Она получает лицензию на содержание дома и платит полагающиеся налоги. Гейши в доме окия отдыхают. Посетителей туда не допускают.
Кстати, о «маме», опекающей гейш.
Сергей Петрович Харин рассказал мне один эпизод из его жизни в Японии. В начале 60-х годов он поехал на северо-восток страны, в город Сэндай. Вместе с одним известным общественным деятелем, приехавшим из Советского Союза, они зашли вечером поужинать в японский ресторан. За столик к ним тут же подсела изысканно одетая совсем юная японка. Это была гейша.
Сначала разговор шел на общие темы. Их собеседница продемонстрировала хорошие знания не только в области японской литературы. Оказалось, что она знакома с творчеством Толстого, Достоевского. «Но глаза ее были полны печали, – продолжал рассказывать Харин. – Чувствовалось, что ее что-то гнетет».
Видимо почувствовав доброе к ней расположение со стороны советских людей, гейша рассказала им свою грустную историю.
Однажды, когда она была еще школьницей, во время прогулки у моря со своей бабушкой они встретили немолодую женщину. Она долго и изучающе разглядывала девочку, а потом спросила: «Ты не хотела бы поступить в мою школу гейш?». Как красиво описала она жизнь в ее доме. И девочка, окончив школу, поехала к «маме». «Меня встретили приветливо, – рассказывала она. – Сразу начались уроки музыки и танцев. За сшитое мне кимоно „мама“ заплатила около миллиона иен. Но очень скоро я поняла, что очутилась в болоте, из которого выбраться уже практически невозможно».
– Почему невозможно? – спросил ее Сергей Петрович.
– Я не знаю, сколько стоило обучение танцам, музыке, пению. Не знаю, сколько стоит это кимоно, что надето на мне. Разве я могу расплатиться за все это с «мамой»? Откуда мне взять такие деньги? У меня их нет.
– Мы покинули ресторан с тяжелым чувством, понимая, что ничем не можем помочь этой славной и несчастной девушке, – закончил Сергей Петрович Харин свой рассказ.
…В Киото, как и в Токио, так много световых реклам. Город наряден и красив в вечернюю пору. После прогулки мы вернулись в отель и собрались в моем номере за дружеским ужином. На столе появился торт, который заказали супруги Фудзита. Эрико-сан занялась приготовлением кофе.
– Кажется, началось землетрясение?! – с легким испугом заметила я, поглядывая на закачавшуюся из стороны в сторону висевшую на потолке люстру.
– О нет, – рассмеялась Эрико-сан. – Землетрясения сегодня не будет: не прерывать же нам праздничный ужин. Над нами, наверное, кто-то еще справляет свой день рождения.
Хороший был тот вечер. Пили кофе с тортом, подняли бокалы с вином. Потом пели. В нашем репертуаре были «Катюша», «Подмосковные вечера» и песни Японии, которые с большим чувством исполнили супруги Фудзита и Эрико-сан.
Немного о прошлом
Знакомый врач как-то спросил меня: снятся ли мне цветные сны? Оказывается, у людей сны бывают и черно-белые и цветные. Тогда я затруднилась с ответом. Но в Киото мне явно приснился яркий цветной сон. Под неумолкаемый гул двигателей я летела куда-то на самолете. Небо было голубым-голубым.
Разгадка сна, я думаю, проста. Всю ночь монотонно гудел кондиционер, а ночное кимоно, в котором я спала, было нежно-голубого цвета.
Вчера мы долго говорили о внеземных цивилизациях. Тема эта всегда увлекательна. Человечество страстно хочет убедиться в том, что в бесконечном звездном мире есть кроме нас мыслящие существа. Люди надеются: тайны других миров откроются. А пока идет активный поиск. Ученые ищут на Земле следы «далеких пришельцев». День и ночь в просторы вселенной идут и идут сигналы с призывом: «Откликнитесь! Где вы, братья по разуму?». Писатели-фантасты не устают рассказывать на страницах своих книг об инопланетянах, порой поражающих человеческое воображение. И временами так будоражат всех сообщениями о «летающих тарелках», «неопознанных объектах», с помощью которых якобы жители далеких миров хотят изучить нашу Землю.
Но сегодня мне хочется вспомнить о прошлом человечества. Наверное, потому, что я нахожусь в одном из древнейших городов Японии – в Киото.
Старые города. Они, как люди: с каждым годом все старше. Попадая в них, всегда испытываешь какое-то особое чувство. Идешь по улицам города, в который давно и властно заглянуло новое, а мыслями уходишь и уходишь в глубину веков. Вспоминаются имена тех, кто жил когда-то под этим небом, встречая утро и провожая ночь. Как много было до нас людей интересных, неординарных. И как жаль, что мы часто так мало знаем о них. Ленту истории, увы, не прокрутишь с конца в ее начало. Пока здесь бессильна даже могучая техника нашего века.
Ранним утром, когда еще повсюду властвуют сны, я быстро одеваюсь и выхожу из отеля. Киото только просыпается. На улицах, которые вчера были заполнены тысячами людей, пока безлюдно.
В вечерней передаче вчера промелькнули кадры с титрами на английском языке. Это был рассказ о Сэй-Сёнагон, о ее книге «Записки у изголовья» – «Макура-но соси».
«Записки у изголовья» – одно из замечательных творений японской классической прозы, «жемчужина жанра дзуйхицу»,что в буквальном переводе значит «вслед за кистью», или «следуя кисти».
В предисловии к книге Вера Маркова, переведшая ее со старояпонского на русский язык, пишет:
«Почти десять веков назад в городе Киото – тогда он назывался Хэйан и был столицей Японии – женщина, известная под именем Сэй-Сёнагон, получила в подарок кипу хорошей бумаги и начала вести свои записи, которые имеют мало общего с летописью или обычным дневником. Хронологический порядок не соблюден. Если восстановить его, то события, о которых идет речь, расположатся прерывистой цепью, начиная с 986 года и кончая тысячным годом нашей эры. Согласно принятой в японской науке терминологии, это середина хэйанской эпохи. Исторически хэйанская эпоха (IX–XII вв.) принадлежит к раннему средневековью» {43} .
…В конце VIII в. император Камму перенес столицу из города Нара в Хэйан. Тогда теперешний Киото назывался Хэйанкё – «город мира и покоя». Длившийся почти четыре столетия (с 794 по 1184 г.) хэйанский период вошел в историю Японии под названием «золотой век», «век блестящих искусств».
Здесь жили замечательные художники. Широкое распространение получили в то время картины для стен – какемоно и картины в свитках – макимоно. Художники рисовали тушью, акварелью; рам, ограничивающих картину, не делали. Широкой известностью пользовалась школа художника Канаока. Его картины украшали стены и ширмы императорского дворца. Он рисовал богов и героев, писал портреты известных мудрецов, поэтов и даже самого Конфуция. Виноград, изображенный художником с помощью кисти, был настолько правдоподобен, что подлетавшие к картине птицы начинали его клевать. А лошади, нарисованные на стенах одного храма, как утверждает легенда, по ночам выходили из картины и мчались по полям.
В 1050 г. один из придворных по имени Мото-мицу основал школу национальной живописи Ямато. Через два столетия она стала официальной школой искусств и получила название «школа Тоса».
Развлекается в те времена дворцовая знать. Особенно популярны «состязания поэзии», напоминающие театрализованные представления. Здесь и декламируют и сочиняют стихи. Разбившись по парам, дамы и господа, искусные в стихосложении, предстают перед компетентными судьями.
Хэйанский период подарил миру целый ряд книг, ставших памятником той эпохи. Первые книги были написаны китайскими иероглифами. Тогда в Японии китайский язык активно служил целям образования и просвещения. Мужчины-поэты писали свои стихи на китайском языке. А женщины…
«Когда на основе курсивного иероглифического письма была создана в девятом веке слоговая азбука (кана), японская художественная литература стала доступной для женщин. Лишь очень немногие из них получали в семье китайское классическое образование, но зато им вменялось в обязанность выучить наизусть все двадцать томов „Кокинсю“ и изящно писать японские знаки» {44} .
«Кокинсю» – это антология японской лирики (досл. «Собрание древних и новых японских стихотворений»). Книга вышла в 905 г., и ее составителем был один из крупнейших японских поэтов, аристократ по происхождению, Ки-но Цураюки. Среди авторов этой антологии были и женщины. В их числе известная поэтесса Оно-но Комати, женщина яркого таланта и редкой красоты. Вот одно из ее стихотворений позднего времени.
Печально все. Удел печальный дан Нам, смертным всем, иной не знаем доли.
И что останется? —
Лишь голубой туман,
Что от огня над пеплом встанет в поле.
Пер. А. Н. Глускиной
Женщины Хэйана…
«Они были необходимым элементом всей жизни Хэйана, на них и вокруг них концентрировались тот эстетизм и та эмоциональность, которые были разлиты кругом. Более того, они в большой мере и руководили этой жизнью, давали ей тон и направление. Уже до Хэйана роль женщины в культуре была очень значительна. Женщина не была еще стеснена, как будет впоследствии, в своих проявлениях. И в сфере духовной культуры, в частности в поэзии, еще в эпоху Нара женщины мало чем уступали мужчине: столько стихотворений в поэтической антологии той эпохи „Манъёсю“ принадлежит именно женщинам-поэтессам! С наступлением же Хэйана женщина завоевала себе и в жизни, и в литературе первое и никем не оспариваемое место» {45} .
Антология «Манъёсю», о которой здесь говорится, это «Собрание мириад листьев» – первый письменный литературный памятник древней Японии, созданный в VIII в. {46} . Издан он был в двадцати книгах и содержал 4516 песен, написанных пятьюстами авторами.
«Колоссом японской литературы» заслуженно называют и монументальный роман эпохи «Гэндзи моногатари» – «Гэндзи, блистательный принц».
«Этот роман написан очень умной, наблюдательной, много видевшей и много передумавшей, слегка поэтому иронической, но отчасти и сентиментальной, однако всегда трезвой во взглядах, здоровой и изящной во вкусах японской женщиной конца X и начала XI века – обитательницей дворцов, но знавшей и страну, служившей императрице в качестве придворной дамы, но умевшей понимать и людей, не живущих в „заоблачных высях“, – Мурасаки Сикибу» {47} .
Итак, проза – удел женщин. Небезынтересно заметить, что поэт Ки-но Цураюки, издатель антологии «Кокинсю», одно время был губернатором провинции Тоса, находящейся на о-ве Сикоку. В конце 935 – начале 936 г. он совершил путешествие из Тоса в Киото. Во время путешествия он вел путевой дневник, позднее опубликованный под названием «Путевые записки из Тоса». Так вот, автор представляется здесь… женщиной! Он пишет: «Говорят, что мужчины тоже ведут „дневники“ или как их там называют? Что же, пусть это – проба пера, но тут женщина взялась за это дело».
Древняя столица Киото… Не идет ли сегодня рядом со мной по старой улице невидимой тенью сама Сэй-Сёнагон?
Предполагают, что она родилась в 966 г., вышла из «довольно знатной, но захудалой» семьи Киёвара. Придворная дама, фрейлина императрицы, дочь поэта. Биография этой талантливой женщины насыщена многими, порой даже драматическими событиями, и в ней много «белых», до сих пор не раскрытых «пятен». Сэй-Сёнагон – это дворцовое прозвище писательницы.
Свои «Записки» Сэй-Сёнагон хранила в специальном выдвижном ящичке, сделанном в твердом японском изголовье.
«Я буду писать обо всем, что в голову придет, даже о странном и неприятном», – повествует Сэй-Сёнагон, рассказывая о событиях, свидетельницей которых она оказалась, и называет подлинные имена своих героев. В ее записках впечатления прожитого дня, рассказы о происшествиях, описание цветов и пейзажей, оригинальные рассуждения о морали.
Сэй-Сёнагон не была красавицей. Наверное, поэтому один из рисовавших ее художников не показал на рисунке ее лица. Она сидит, повернувшись спиной, и держит в руках веер. Может быть, художник был прав: подлинная красота Сэй-Сёнагон в ее творчестве.
Жанр книги Сэй-Сёнагон несколько необычен. Это философские раздумья, глубокомысленные замечания, меткие характеристики, порой ирония и даже насмешки.
«Но больше всего я повествую в моей книге о том любопытном и удивительном, чем богат наш мир, и о людях, которых считаю замечательными.
Говорю я здесь и о стихах, веду рассказ о деревьях и травах, птицах и насекомых свободно, как хочу, и пусть люди осуждают меня: „Это обмануло наши ожидания. Уж слишком мелко…“
Ведь я пишу для собственного удовольствия все, что безотчетно приходит мне в голову…» {48} .
Интересны места книги, где ее автор рассуждает о встречающихся жизненных ситуациях и приводит, в частности, характеристики «приятных и неприятных вещей». Так, например, наводит уныние «собака, которая воет среди бела дня». Докучает гость, который без конца разглагольствует, когда «тебе некогда». Если с ним можно не считаться, то «спровадишь его без долгих церемоний». Но какая берет досада, если «гость – человек значительный и прервать его неловко». И как печалит лунный свет или вид скользящей по реке лодки.
А что еще волнует и порой так тревожит душу?
«Неприятно, если кто-нибудь вдруг перебивает чей-нибудь рассказ на том основании, что ему лично это будто уже давно известно». «Очень неприятна возня мышей». «Приятно выиграть много фишек в игре». «В тоскливый день, когда льют дожди, неожиданно найдешь старое письмо от того, кто когда-то был тебе дорог». «Самое печальное на свете – это знать, что люди не любят тебя. Не найдешь безумца, который пожелал бы себе такую судьбу». И как печален вид очага или жаровни без огня…
Сэй-Сёнагон искренне сожалела, что «Записки у изголовья» увидели свет. Она пишет:
«Эту книгу замет обо всем, что прошло перед моими глазами и волновало мое сердце, я написала в тишине и уединении моего дома, где, как я думала, никто ее никогда не увидит.
Кое-что в ней сказано уж слишком откровенно и может, к сожалению, причинить обиду людям. Опасаясь этого, я прятала мои записки, но против моего желания и ведома они попали в руки других людей и получили огласку» {49} .
Виновником обнародования личных записок Сэй-Сёнагон стал зашедший навестить ее «Тюдзё Левой гвардии Цунэфуса, правитель провинции Исэ».
«Циновку, поставленную на краю веранды, придвинули гостю, не заметив, что на ней лежала рукопись моей книги. Я спохватилась и поспешила забрать циновку, но было уже поздно, он унес рукопись с собой и вернул лишь спустя долгое время. С той поры книга и пошла по рукам», – рассказывает Сэй-Сёнагон {50} .
Как закончилась жизнь писательницы, рассказавшей о своеобразном и теперь уже таком далеком мире древней Японии? Об этом нет достоверных данных. Предполагают, что на склоне лет она постриглась в монахини или просто выбрала для себя ветхое жилище, где и прожила последние годы жизни.
«Рассказывают, что один путник увидел жалкую хижину, откуда высунулась изможденная старуха и крикнула: „Почем идет связка старых костей?“. Догорающая жизнь стала страшной гротескной легендой. Могилу Сэй-Сёнагон показывают в нескольких провинциях, подлинное место захоронения неизвестно» {51} .
Да, если бы было возможно прокрутить ленту ушедших веков с конца в ее начало…
Долго бродила я тем ранним утром по улицам Киото. Пора возвращаться в отель. У входа в него меня встретила Эрико-сан.
– Хотела уже вас разыскивать. Боялась, что заблудились, но потом вспомнила, что у вас есть карта города. Сегодня такое хорошее утро.
– Да, Эрико-сан. Утро прекрасное. Погуляла по Киото… Вспомнила Сэй-Сёнагон, Мурасаки Сикибу, Оно-но Комати… Какие здесь жили когда-то талантливые женщины!