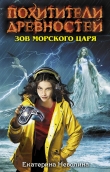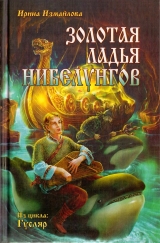
Текст книги "Золотая ладья нибелунгов"
Автор книги: Ирина Измайлова
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
– И где же?
– В сорока двух верстах от града Ладоги. Ежели от берега отплыть летом на рассвете да плыть всё на север и на север, то покажутся острова. Много их там. И один высоко из воды торчит, горбом выгибается. Наверху на нём идол стоит каменный, какой-то бог германский иль варяжский. Вот по тому идолу остров отыскать не так уж и трудно. Куда труднее ход найти, что с одной стороны в нём открывается. Так уж прячется этот вход среди леса, коим остров весь зарос, что можно мимо десять раз проплыть, да ничего не увидать. Но купец-лиходей мне присоветовал: надо, к острову приблизившись, выпустить с ладьи голубку. Та к берегу полетит, и на неё сразу вороны чёрные кинутся. Живёт их там несть числа. Однако голубка от воронья скроется – влетит в проход под берегом, куда, видно, воронам влетать заказано: они снаружи колдовской клад стерегут. Тут уж надо на вёсла налечь, от воронов чёрных отбиться да поскорее в ту нору вплыть. И тогда, проплыв под островом, отыщешь громадную ладью. Та ладья сама из злата выкована и доверху златом полна. Богатство невиданное и неслыханное! Стоит она на воде посреди большой пещеры, и от её сверкания там светло, будто солнце светит.
Слушая, Садко лишь на миг представил себе сверкающее грудами золота золотое судно, и в его груди что-то защемило, захолодило сладким и жадным желанием.
Но здравый смысл тотчас заставил купца отрезветь.
– Постой, Бермята! Складно ты сказываешь, только поверить в твои сказки нельзя. Про воронов и голубку я, может, и поверю, про то, что под островом есть проход и пещера, тоже. Но как же может ладья, что из злата скована да златом же и наполнена, на воде стоять? Сто раз бы потонула!
И опять разбойник замотал своей гривой и для убедительности вытаращил глаза.
– Должна! Должна потонуть, да не тонет! Я ж те сказывал, да и сам ты должен был слыхать, если про карликов знаешь, что колдуны они и многое могут сделать не таким, каким оно обычно бывает. У них, слышь, говорят, и шапка-невидимка имеется, они и чары наводят такие, что видишь то, чего нет. Потому и ладья на воде стоит, хоть тяжесть в ней громадная да и сама тяжела непомерно. Колдовством сотворили её нибанлунги. Оттого клад их проклятым считается, оттого почти никто об нём не рассказывает: почти все, кто искал тот клад, живы не вернулись. Но ладью ту я взаправду видал!
Садко, не удержавшись, вздрогнул.
– Видал? Не врёшь?
– Да чтоб мне сей же час древом в землю врасти! Видал я, Садко, это диво, как вот тебя вижу.
– Видал и не забрал?
Вновь Бермята усмехнулся, но на сей раз с горечью.
– Так говорю же, не про меня сей клад оказался. Вскоре, как узнал я от лиходея-купчины про нибанлунгово богатство, так и отправился с ватагой моей на Нево-озеро. Ладью мы отобрали у другого купца, ладная была ладьишка, быстрая. Приплыли, куда было указано, нашли горбатый остров, голубку выпустили, и она нам путь указала. И вплыли мы в пещеру, и увидали посреди её сверкание такое, будто огонь полыхал. Ну, тут мои людишки разум и потеряли. Как поняли, что это золото и что его так много, налегли на вёсла изо всех сил. Нет, чтоб осторожно подплыть. А там камни со дна поднимаются. Ладья наша на те камни и села. Разбойнички как завопят, в воду попрыгали и к златому кладу поплыли. А меня вдруг такой страх взял – не поверишь! Не поплыл я за ними. И только издали сквозь то сверкание видал, как они на борта высокие карабкались да над грудами злата за него же дрались. И один за другим в воду падали да тонули, видать, все друг друга перерубили.
– А ты что же? – не удержался Садко. – Выходит, робче всех оказался?
– Да вот и выходит! А поборол бы страх, жив бы не был. Ладья моя наполовину водой наполнилась, а я так и сидел на корме, меч держа наготове. Раз десять порывался тоже в воду скакнуть и плыть к золоту колдовскому, но решиться не мог. Вроде бы и ватага моя вся сгинула, никто б на меня не посягнул, и в пещере той ни единой иной души не было, а страшно! Казалось, будто вокруг меня тени какие-то снуют да из-под воды чьи-то голоса слышатся. Сидел я так, сидел и вот, веришь ли, заснул! А проснулся, вижу – так и сижу на корме ладьи, наполовину потонувшей, но уж не под островом, а среди других островков. Уж и не знаю – течение ль там было и ладью вынесло, приливом ли её с камней стащило... Плыть на ней было некуда: в днище – дыры, руль сломан. На моё счастье, рыбаки показались поблизости, я им покричал, ну, они меня и подобрали. Ладья купецкая была, я и сказал, что из дружины купеческой. Мол, ладья разбилась в шторм, все с неё потонули, а я вот один жив. Рыбаки меня довезли до твёрдого берега, ну а уж потом я собрал себе новую ватагу лихих людишек и за старый промысел принялся.
– Давно это было? – спросил Садко, с прежним вниманием слушавший рассказ разбойника.
– Пять годов минуло.
– И ты что же, с тех пор так ни разу и не попытался вновь за тем кладом отправиться?
Несколько мгновений Бермята, видимо, раздумывал, потом угрюмо пробурчал:
– А чего пытаться? Что тогда было, то и вновь бы стало. Или порешили б мы с ватагой друг дружку, или силы колдовские, что клад охраняют, нас бы всех угробили. Думал я про ту ладью, не раз думал. А решиться так и не смог. Но у тебя дружинники, надо думать, люди не разбойные... Может, они такого не учинят. Может, тебе удастся кладом карличьим завладеть. Я тебе всё, как было, поведал, ничего не утаил. Теперь сам решай. А меня, купец, отпусти. Уж ежели один раз помиловал, так и во второй раз помилуй.
– А ты мне не указывай! – резко воскликнул Садко Елизарович, сверху вниз всё с тем же отвращением рассматривая Бермяту. – Я не верю, что ты и впрямь остался на острове, чтоб мне свою благодарность явить. А вот в то, что убить меня собирался, очень даже верю. Так что, по совести, надо б тебя заколоть да рыбам скормить. Разве то меня остановит, что бывают злодеи куда хуже, чем ты. К примеру, тот купец, что нанял вас, злодеев, чтоб с другим купцом расправиться.
– Но знаешь ли ты, Садко, что потом с тем купцом-лиходеем сталось?
Прозвучавший прямо за плечом голос заставил купца вздрогнуть. Увлечённый сперва нежданным приключением, затем невероятным, но волнующим рассказом Бермяты, он совершенно позабыл про своего недавнего собеседника, странника Николая, который догадался каким-то непостижимым образом о грозящей Садко опасности и предупредил его. Всё это время старца было не видно и не слышно, но теперь он вдруг подошёл вплотную и неожиданно заговорил.
Купец обернулся к нему и убедился, что раньше ему не казалось: да, лицо странника в уже наступившей темноте сиреневой июльской ночи было освещено необъяснимым светом, будто светилось само. Стоило бы испугаться, но страшно почему-то не было... Более того, на это лицо хотелось смотреть всё время, не отрываясь.
Глава 5. Течение вспять
– Так что ж стало со злодеем? – с невольной дрожью спросил Садко. – И с какой такой лютой зависти либо обиды погубил он другого купца? Николай чуть приметно улыбнулся.
– Погубил, как ты догадался, из одной лишь зависти. Удачливей тот был, торговал лучше да успешней. Вот и обуяла злоба того лиходея. Калистратом его звали. Калистратом Фроловичем.
– Ты сказал, звали? – живо встрепенулся Садко. – Так он, значит, за своё злодеяние поплатился? Нет его больше?
– Считай, что нет. Хотя и жив он, но другой ныне человек. После того, что сотворил новгородский купец Калистрат, пошли у него беда за бедой. Лавки его в Новгороде дочиста погорели вместе со всем товаром. Никто их не поджигал – молния в грозу попала. Потом жена у него умерла, за нею следом три сына. Всё и всех он потерял. Так вот и понял, что злодейство своё оплачивает.
– И что с ним стало? – вместо Садко с неподдельной живостью спросил Бермята, смотревший на возникшего перед ними старика не только с интересом, но и с неподдельным страхом. Неужто так уж испугался загадочного света, словно бы исходившего от лица странника?
Николай вдруг улыбнулся, глядя при этом не на разбойника, а на молчаливо ожидавшего его слов Садко.
– А что ему оставалось? Хотел он ещё один страшный грех совершить – сам себя лишить жизни. Взял и в Волхов кинулся.
– Что ж то за грех? – искренне удивился разбойник. – Свою ведь жизнь отнять можно, она ж моя.
– Как это – твоя? – Теперь мягкий голос старца прозвучал гулко и жёстко. – Ты её, что ли, себе дал? Ты в себя душу вдохнул? Какое ж право имеешь отбирать то, что не тобой дадено? И, в грехах не повинившись, бежать ото всех, перед кем виноват, и от себя первого? Не удалось, однако, Калистрату, самоубийство – в реке в тот день девки бельё стирали. Увидали, что человек тонет, двое из них поплыли к лиходею и вытащили его на берег. А проходивший мимо монах помог откачать и сказал, что креститься ему надо. Тот согласился, и монах его окрестил. Константином теперь зовут былого убийцу. Живёт он в монастыре в девяти верстах от Новгорода. Денно и нощно молится о погубленных им людях и о своей грешной душе.
– И ваш добрый Бог его простил? – пытаясь усмехаться, но отчего-то с дрожью в голосе спросил Бермята.
Старец наконец обратил к нему взгляд, и разбойник совсем смешался, кажется, даже задрожал от страха.
– Бог не только наш, Он и твой тоже, – проговорил Никола. – От того, что ты вместо Бога молишься пням да колодам. Господа ведь не убудет. А прощает Он всегда, если только Его всей душою о том просят. Попроси, и Он тебя тоже простит.
– После того, как я столько народу перегубил? – потерянно прошептал разбойник. – Да какое уж тут прощение?
– А ты попроси!
Бермята, казалось, задумался.
– Странно у тебя выходит, дед! Если я сам себя убью, то, по-твоему, мне прощения нет. А за то, что других убивал, меня простить можно?
Никола вдруг улыбнулся. Так улыбается взрослый, услыхав глупый лепет ребёнка и смеясь в душе над неразумием малыша.
– Я ж сказал тебе, дурню: прощения надо попросить, и будешь прощён! А как ты попросишь после того, как убьёшь себя? Ухнешь, будто в яму чёрную, и уж не докричишься оттуда, не допросишься прощения.
– Чего, даже ваш Бог меня оттуда не услышит? – Казалось, Бермята пытается поймать старика на какой-то ошибке, неправильности суждения.
Но Николай не смутился. Похоже, его вообще невозможно было смутить, словно он заранее знал ответ на любой, даже ещё не заданный вопрос.
– Бог-то слышит всё и отовсюду. Так же, как видит всё и везде. Только Он не будет во второй раз давать тебе то, от чего ты сам отказался, возвращать твою падшую душу назад. Что ж тебе, новое тело скроить да выдать прикажешь? А не много ли возни с одним олухом? Вишь, сказано ведь, что Господь сотворил человека по Своему образу и подобию. А что это значит? Что мы на него лицом походим, что ли? Так не все ж с лица одинаковы. А подобны мы Ему в том, что одни во всём белом свете свою волю имеем. Всякая тварь в мире живёт, как Бог ей велит, только по Его законам. А человек может сам решать, как жить. Доверяет Он нам. А мы что? Будто котята слепые, лезем куда ни попадя, зло творим, сами того не ведая, не замечая. Ты, разбойниче, хотя бы знаешь, что убивать грешно?
– Прости, старик, но неужто этого кто-то не знает? – вмешался Садко, слушавший разговор странника и бродяги, пожалуй, с не меньшим интересом, чем недавний рассказ Бермяты о колдовском кладе. – Ну, ясное дело, на войне убивать приходится. Вот и священники воинам благословение дают: не убьют они врага, враг убивать будет, не остановится. Но подлые-то, разбойничьи убийства разве кто-то оправдать может?
Странник обернулся к молодому купцу, и того вновь поразило его лицо, но теперь уже не исходившим от него непонятным светом. Час назад, впервые увидав Николу, Садко счёл его совсем старым. Сейчас, казалось бы, слабо рассеянная лишь звёздным светом да отблесками полыхающего поодаль костра темнота должна была углубить многочисленные морщины старческого лица, сделать его ещё древнее. Но нет! Лицо Николая каким-то невероятным образом разгладилось, морщин стало куда меньше, глаза уже не выглядели глубоко запавшими, а губы сухими и тусклыми. Даже его снежно-седые волосы словно бы потемнели – серебро седины лишь искрами проблескивало в них. Теперь страннику, пожалуй, нельзя было дать и пятидесяти.
– Спрашиваешь, Садок Елизарович, а сам ответ знаешь, – с грустью проговорил Никола. – В разных землях разные законы, но везде обязательно есть закон-другой, по которому можно и не на войне убить да невиноватым остаться. И не в законах ведь дело, а в том, что частенько человек жизнь чужую губит, а виноватым себя не чувствует. Вот ты крещёный. А скажи: если, к примеру, раб сильно провинился перед хозяином, грех ли его за это убить?
– Конечно, грех! – не раздумывая, ответил купец. – Для чего зазря переводить своё же имущество? Выдрать ведь можно как следует, чтоб впредь не пакостничал. А всего надёжней рабов иметь поменьше: и содержать их недёшево, и доверять им надо с оглядкой. Лучше вольная дружина, вот как моя.
– Ну, и на том слава Богу! – добродушно усмехнулся странник. – Но с этим душегубом-то, с Бермятой, ты для себя что решил? Убьёшь его или снова отпустишь?
Неожиданно для себя Садко заколебался. Только что, до появления Николы, он готов был прикончить злодея даже и после его рассказа о сокровищах зловещих карликов. И рассказ смахивал на враньё, и обещаний заплатить за этот рассказ новым помилованием купец разбойнику не давал. Но теперь что-то заставило его усомниться. Что? Странник? Но тот вовсе не просил его о снисхождении к лиходею. Тогда как объяснить эту непонятную и непривычную нерешительность? Жалко стало, что ли? Уж точно, нет! Но рука с мечом не спешит подниматься, будто её что-то держит. Вот ведь глупость какая!
– А ты какой совет дашь? – спросил Садко и хотел добавить обращение «старче», однако оно прозвучало бы уже неуместно – стариком Николай казался всё меньше и меньше.
Странник продолжал улыбаться и молчал. И тогда решился вновь заговорить Бермята:
– Послушай-ка, мудрый человек! А что, коли мне, как злодею тому, купцу Калистрату, к монастырю прибиться? Если уж его туда взяли, то чего б и меня не взять? Я б вашу веру принял, стал бы вашему Богу молиться, глядишь, и попросил бы у Него прощения. И не стал бы более людей грабить да убивать. Там, в монастырях-то ваших, ведь кормят, поят да кров дают, верно? Князь-то нынешний, Владимир, как принял греческого Бога, большие богатства на монастыри ваши и церкви тратит. Значит, неплохо там жить. Можно, я туда поеду? А ты, мудрец, мне путь укажешь...
Предложение разбойника заставило Садко рассмеяться. Ишь, куда повернул! Лишь бы выкарабкаться. Но купец не возразил Бермяте, ожидая, что скажет Никола.
А тог вдруг обрадовался.
– Ну, что же! Если так надумал, то и быть тому. Давай, вытаскивай свой челнок из кустов, где его запрятал, да на вёсла садись. Я с тобой поеду. Монастырь, я уж сказывал, в девяти верстах от Новгорода, а стоит как раз на Волхове. Поедем.
Невероятно, но Садок Елизарович даже и не подумал возмутиться самоуправству странника: с какой это стати тот решает судьбу его пленника? Но когда Бермята уже кинулся исполнять приказ Николая, купец всё же заметил:
– А гы уверен, добрый человек, что этот лиходей и впрямь хочет креститься и в монастырь уйти? И не боишься ли с ним вдвоём в одном челне плыть?
Николай лишь на миг отвёл взгляд, потом вновь поглядел на Садко.
– Что ты! Не хочет он монахом быть и веру нашу принимать не собирается. А норовит только от тебя сбежать, чтоб после в монастырь проникнуть и богатые дары княжеские оттуда украсть. Заодно ещё хочет монаха Константина отыскать и убить. За что, спросишь? Да за то, что тот его богатством несметным соблазнил, а богатство то ему, душегубу, не досталось.
На миг Садко онемел. Потом воскликнул:
– Господи помилуй, Никола! Зачем же ты едешь-то с ним?!
– А затем, – тем же ровным голосом ответил странник, – что замысленного он не исполнит. Обернёт его Господь к себе лицом, и примет грешник крещение. И после того зло уйдёт из его души. Он этого не знает и, скажи я ему, не поверит, только так и будет. Завтра ко всенощной поспеем в монастырь Пресвятой Богородицы, и всё совершится. И Константин, что прежде Калистратом был, станет его крёстным отцом.
– Послушай, Николай, честной странник! – Теперь в голосе купца прозвучала едва ли не мольба. – Не рисковал бы ты так! Может, ты и вправду человек прозорливый, только вдруг да ошибаешься? Встречал я и среди крещёных людей таких, что от зла отвращаться и не думают! Не садись в одну лодку с душегубом! А ну как и с тобой что-то худое случится?!
– Со мной? – Странник засмеялся. – Это невозможно, Садко. Мне уже никто ничего худого сделать не сможет. Что же до Бермяты... Ты прав, не всякий после купели праведен становится, далеко не всякий. Но этот грешник будет обращён. Когда-нибудь ты сам в этом убедишься.
– Тогда хотя бы утра дождись и с нами поезжай. Ради тебя я, так и быть, возьму в ладью разбойника и людям моим не велю его трогать. Всё равно ты ошибаешься: путь ещё далёк, а грести надо против течения. Не поспеете вы к завтрашней всенощной.
– Ещё как поспеем! – Никола уже шёл к берегу, возле которого прорисовался в полутьме узкий чёрный силуэт разбойничьего челна. – Именно нынче и поспеем. Гляди, Волхов вспять потёк!
Садко всмотрелся. Он уже не раз и не два видел это чудо на Волхове, но дивиться ему не переставал. Да, странник оказался прав! Хоть и было темно, но по движению лёгких бликов на воде, по направлению, в котором мимо берега проплыла лохматая ветка и следом за нею – унесённое откуда-то бревно, купец понял: течение реки изменилось, она и в самом деле пошла вспять[20]20
Это, казалось бы, невероятное явление, можно порой наблюдать на Волхове и в наше время. Иногда река на несколько часов изменяет направление движения и действительно течёт вспять. Это объясняется небольшой разницей в уровне воды Ладожского озера, в которое Волхов впадает, и Ильменя, из которого он вытекает. Иногда большой приток воды в Ладоге делает её уровень немного выше, и течение Волхова меняется.
[Закрыть].
– Право, не удивлюсь, если ты скажешь, что сам повернул реку, чтобы она вовремя принесла тебя и злодея к монастырю! – вдруг вырвалось у купца.
И тут же он испугался. Надо же сказать такое! Не в колдовстве же он подозревает этого чудного странника?
– Ты меня с кем-то путаешь, Садко, – подтвердил его испуг Никола. – Не мне повинуются воды и ветры. Прощай же! И помни, что я тебе говорил: не зависти купеческой бойся, не с нею спорь.
Бермята тем временем успел веслом оттолкнуть чёлн от берега, и стало ещё виднее, что Волхов течёт сейчас против своего обычного течения: лодку стало оттаскивать от прибрежной полосы и потянуло в сторону Ильмень-озера.
– Дед, – окликнул разбойник. – Садись же, не медли. Унесёт челночок-то!
– Иду!
Николай в несколько шагов достиг берега, прошагал дальше и, подобрав подол длинной, почти до пят рубахи, шагнул в лодку. И только когда Бермята взмахом весла направил судёнышко на середину реки, Садко вдруг понял, что странник подошёл к челноку, когда тот был от берега уже на порядочном расстоянии. Чтобы в него войти, Николе надо было вступить в воду по колена, а то и глубже. Но молодой купец готов был поклясться, что вода не скрыла его ног и по щиколотку. По сути дела, он просто-напросто прошагал по реке, как посуху...
– Кажется, мне сегодня выпало многовато приключений, – прошептал купец. – Что-то творится с моей головой. Вообще, а может, мне всё это померещилось? И старик, и лиходей наш, не к ночи будь помянут, и его рассказ про клад нибелунгов... Спросить, что ли, дружинничков, кого они здесь, на островке, видали? Тьфу! Ну, это уже и вовсе бред какой-то! Надо бы отдохнуть до утра.
Приняв такое мудрое решение, Садко направился к костру, возле которого ему уже расстелили пару овчинок и кусок старого паруса. Он ни о чём никого не стал спрашивать – просто растянулся на немудрёном ложе и почти сразу крепко заснул.
ЧАСТЬ II
НОВГОРОДСКИЙ ПОСАДНИК
Глава 1. Пир у Добрыни
Проходя мимо резных дубовых ворот посадничьего терема, новгородцы не без удивления переглядывались: в кои-то веки с широкого двора доносились весёлые и хмельные голоса, звенели гусли и заливались дудки, а в просветы между тёсаными брёвнами ограды виднелись длинные накрытые столы, вкруг которых уже расселись немало городских бояр и дружинников. К слову, ворота были прикрыты, однако не заперты, что означало не слишком настойчивое, но всё же приглашение: хотите, честной народ, так заходите – места, может, всем за столами и не хватит, но чарку нальют, не обидят, да и чем закусить, найдётся. Некоторые и заходили – грех не воспользоваться таким редким случаем, княжий посадник, что живёт так скромно, не каждый день и далеко не каждый месяц устраивает у себя пиры. Так как же пройти мимо?
Терем новгородского посадника, может, и был в городе самым большим, но только от того, что у того была большая дружина и дружинники жили с ним в одном доме. Слишком неспокойное выдалось время – лучше дружину держать всегда под боком, не то вдруг да не успеешь призвать, когда понадобится?
Посадник Добрыня Малкович приходился родным дядей нынешнему князю Киевскому Владимиру и им же был посажен управлять в Новгороде, на что не жаловался, хотя беспокойный нравом город доставлял ему немало хлопот. Мало того, что город надо было оборонять от воинственных соседей, а подступы к нему всячески укреплять, так ещё и с самими новгородцами хватало головной боли. Бояре новгородские были упрямы и кичливы и поначалу пытались утверждать своё право, не желая безоговорочно повиноваться «рабынину братцу». Но Добрыня и не думал делать вид, будто не слышит их шипения и злых намёков. Он сразу показал, что терпеть этого не будет. Кому пригрозил, на кого наложил дань, большую, чем платили другие, ссылаясь на большее богатство того или иного данника или большие земельные наделы, которые тот успел урвать.
Самых лютых своих ненавистников Добрыня сумел выпроводить из Новгорода и повод для того нашёл легко: почти все недовольные княжьим посадником оказались замешаны в бунте. Причём бунт был не против самого Добрыни, но против греческой веры, пятью годами ранее учреждённой князем Владимиром, то есть получилось, что бунтовщики покушались именно на княжескую власть. Бунтовщики подняли немало горожан, к ним легко и подозрительно быстро примкнула чернь из окрестных сёл. И запылали ярким пламенем терема многих новгородских христиан. Заговорщики едва не сумели поджечь и тринадцатиглавую Софию[21]21
Речь идёт не о современном каменном храме Святой Софии Новгородской, тогда ещё не построенном. Немного на другом месте стоял первоначально возведённый деревянный тринадцатикупольный храм Святой Софии, по отзывам современников, также отличавшийся красотой и величием.
[Закрыть], но там их сумели остановить и не дали совершить задуманное...
Посадник, в недалёком прошлом опытный воевода, подавил бунт жёстко, но не жестоко, лишней крови проливать не стал, однако так или иначе убрал из Новгорода всех зачинщиков и наиболее отчаянных участников разбоя (само собою, тех, кто остался в живых). Остальные сразу поутихли. И шипение по поводу «рабынина братца» умолкло. Тем более что обидеть и уязвить этим Добрыню было невозможно. Смешно ему было стыдиться родства с матерью великого князя Киевского, а кем она была прежде, так кого ж это касается? Сами-то вы, любезные бояре, кто бы были без надёжной княжеской власти и твёрдой руки своего посадника?
Конечно, вспоминать историю появления своего при дворе прежнего князя Святослава Игоревича Добрыня не любил. Были они со старшей сестрой Младой[22]22
Имя матери Святого князя Владимира Малуши в ряде справочников трактуется как уменьшительное от славянского имени Млада.
[Закрыть] детьми любечского княжьего дружинника Мала. Дружинник отличался нравом крутым и порой буйным, драться любил не только на бранной сече, но и в жизни мирной, притом по любому поводу. Как-то во время княжьего застолья Мал, хватив лишнюю чару хлебного вина[23]23
Хлебным вином именовали напиток, который можно считать прародителем современной водки. Его знали ещё древние скифы до нашей эры.
[Закрыть], сошёлся в споре с другим дружинником, дошло до кулачной схватки, и тяжёлый кулак Мала, угодив в висок противника, отправил того в мир иной.
Князь пришёл в ярость, ибо всё случилось прямо у него под носом, дерущиеся так разошлись, что и княжьего окрика не послушались. И, как на беду, Мал в ту пору оказался совсем без денег – виру[24]24
Вирой назывался денежный штраф, довольно долго применявшийся в древнерусском судопроизводстве за самые различные провинности, вплоть до убийства. Правда, князь Владимир ввёл в судопроизводство применение смертной казни, но совершалась она крайне редко и была в конце концов фактически отменена, её вновь заменили вирой. Во всяком случае, непредумышленное убийство, о котором идёт речь в данном случае, явно не могло быть наказано смертью.
[Закрыть] платить было нечем. Оставалось либо продавать себя в рабство родственникам убитого (их, как назло, оказалось много, и все голосистые и напористые!), либо как-то откупаться от них. Провинившийся дружинник не нашёл ничего лучше, чем предложить в качестве виры собственную дочь, семнадцатилетнюю красавицу Младу. Обиженные родственники с удовольствием на это согласились. Так старшая сестра Добрыни сделалась невольницей. Вскоре в Любеч наведался с дружиной сам князь Святослав Игоревич. Он приехал за данью, которую надо было выплатить, князь бывал очень крут с теми, кто платить не хотел, это знали уже во всех подвластных ему изначально и во многих завоеванных им землях. Любечский князь стряс княжескую дань со своих бояр, и среди подношений Святославу оказалась красивая молодая рабыня.
Князь Киевский остался доволен. Млада сразу ему приглянулась. Он забрал её с собой в Киев и, чтобы во время его частых военных походов девушка была под надёжным приглядом, подарил невольницу своей матери княгине Ольге.
Что до пятнадцатилетнего Добрыни, то он не захотел после этого оставаться с отцом, уехал из Любеча в Киев и сумел попасть в княжескую дружину. Был парень высок ростом, крепок, неплохо владел оружием и умел ездить верхом, а на то, что у него ещё не пробивается борода, как-то и не обратили внимания. Тем более что многие дружинники в то время, подражая князю, начисто брили бороды[25]25
Один из иностранцев, видевших князя Святослава Игоревича, оставил подробное описание его внешности: князь был среднего роста, синеглазый, без бороды, но с длинными усами, с выбритой головой, на которой был оставлен лишь длинный «клок волос», свисавший набок, с золотой серьгой в одном ухе. Не стоит этому удивляться: в дохристианской Руси такой варварский облик был вполне обычным, хотя развитие и культура государства были уже на достаточно высоком уровне.
[Закрыть]. Таким образом, Добрыня остался хотя бы вблизи любимой своей сестрицы да и служил исправно, так что спустя десять лет стал при князе уже воеводой[26]26
Исторический факт: мать Святого князя Владимира Малуша и её брат Добрыня были родом действительно из города Любеча, одного из древнейших русских городов, расположенного неподалёку от Киева. А вот каким образом они оказались в Киеве и почему Малуша стала невольницей и ключницей княгини Ольги, строятся самые разные предположения. Точных подробностей этой истории не сохранилось.
[Закрыть].
Княгиня Ольга, так и не уговорившая своевольного сына принять крещение, очень скоро склонила к греческой вере и полюбившуюся ей Младу, и её брата. Они охотно сделались христианами. Поэтому, когда князь Владимир Святославович решился креститься сам и крестить весь подвластный ему народ русичей, Добрыня стал ему в том преданным помощником.
К тому времени, к концу десятого столетия по Рождеству Христову, на Руси было уже немало крещёных людей, во многих местах давно жили прочные христианские общины, были даже монастыри, так что задуманное князем дело оказалось хотя и трудным, но небезнадёжным[27]27
Первая христианская община была основана на территории будущего Русского государства апостолом Андреем Первозванным, т.е. ещё в первом веке от Рождества Христова. Располагалась она в поселении вблизи будущего места строительства града Киева. С тех пор отдельные христианские общины появлялись и существовали в разных местах Руси.
[Закрыть]. К тому же и самый обряд крещения – общее погружение в воду с совершением красивого, необычайного греческого чина – многим понравился. Это чем-то напоминало давнишнюю традицию праздника Купалы[28]28
Один из древнейших христианских праздников – день Иоанна Купалы – и по сей день сохранил отголоски предшествовавшего ему языческого праздника.
[Закрыть], всеми любимого, не вызвавшего у народа никакого протеста.
Но вот когда рухнули, покатились с холма и упали в быстрые воды Днепра, Волхова, других русских рек грозные изображения Перуна, Даждьбога, Велеса, о, вот тогда ропот прокатился по городам и сёлам Руси. Волхвы-колдуны, что служили прежним богам, разъярились и грозили самыми страшными карами отступнику-князю и всем, кто заодно с ним принял новую веру. Они баламутили народ тут и там, поднимали восстания, запугивали, а то и убивали крещёных. Совершилось и несколько убийств греческих священников, прибывших на Русь по приглашению великого князя. Бунтовщики надеялись, что остальные греки струсят и сами уедут прочь из мятежной страны. Не тут-то было! Христианам было не привыкать к гонениям и опасностям. Хотя много прошло уж времени с тех пор, как эту веру повсеместно гнали и уничтожали, хотя и воцарилась она в Риме и Царьграде[29]29
Царьград – русское название столицы Византии Константинополя.
[Закрыть], прижилась и во многих западных землях, но было и немало мест, где христианам приходилось трудно. Поэтому священники, прибывшие в новокрещёную страну, были готовы к службе нелёгкой, а если понадобится, и к жестокой кончине. Никто не уехал.
В Новгороде бунт произошёл самый яростный, недаром же новгородцы всегда отличались своеволием и непокорством. Но Добрыне удалось с этим справиться, он не подвёл доверявшего ему Владимира, который хоть и был ему племянником, но дружил с ним, невзирая на разницу в возрасте (Добрыня был семнадцатью годами старше).
Среди всех этих бесконечных испытаний и повседневных хлопот правителя Добрыня Малкович редко мог себе позволить устроить настоящий пир. А ведь прежде очень их любил! Святослав, хоть и не слезал с коня и провоевал большую часть своей недлинной жизни[30]30
Исторические справочники чаще всего называют годом рождения князя Святослава 942 год. В 972 году он во время одного из своих походов был убит печенегами. Если дата рождения верна, то прожил он всего тридцать лет, немного даже по понятиям того времени.
[Закрыть], но, когда выдавалась любая возможность, пировал с дружинушкой буйно и разгульно. До своего обращения в Христову веру так же поступал и Владимир Святославович. Да и став христианином, он не чуждался застольного веселья, куда более пристойного, нежели раньше, но всё же радостного и широкого.
А вот у Добрыни почти не получалось разрешать себе пирушки.
Но на этот раз у него был повод. Он только что вернулся из достаточно тяжёлого и кровавого похода – пришлось в который уже раз дать отпор обнаглевшим печенегам. И на этот раз – Добрыня был в этом уверен – докучные недруги уймутся надолго: они получили хороший урок, будут помнить новгородцев! Удалось не только разбить и погнать от пределов своих вотчин печенежскую рать, но и захватить ханское стойбище, которое враги поспешно покинули, но добро с собой взять не успели. Так что добыча оказалась хороша: несколько десятков коней (недруги понесли сильный урон, и не всем понадобились сёдла для бегства), брошенные луки и копья, доспехи и дорогие наряды, меховые шапки из лисы и бобра, чеканная серебряная посуда, украшения – всего немало. С такой-то прибыли ну как было не устроить праздник на своём дворе? А что ворота не нараспашку, так это намёк: кто меня по-прежнему не жалует, того и я к себе не зову, а кому я люб, так милости просим – створки дубовые чуть приоткрыты, и шире открыть их труда не составит.
Дубовые столы только что не прогибались под блюдами, кувшинами, чашами, горшками, под налитыми до краёв чарами – у посадника и знати серебряными, у дружинников и прочего люда – костяными да деревянными. Для пира подали нескольких зажаренных на вертеле кабанчиков, возложенных на громадные подносы, с которых обильно тёк и капал ароматный жирок, перепёлок и уток, которых этим утром настреляли в ближней роще и на берегу Ильменя, печёную стерлядь и копчёных лещей, крошившуюся в пальцах пареную репу, варёные бобы и нарезанный ломтями лук, мочёные, прошлого урожая яблоки и вишню, едва успевшую поспеть этим летом. Хлеб подали на стол горячим, только из печи, так что от румяных караваев шёл такой же душистый пар, как от блюд и подносов с дичью.
Может, до изысканного разнообразия княжьих пиров Добрынин пир и не дотягивал, но стол был достаточно обилен, а вся еда отменно вкусна.
Дружинники уже выпили за здравие посадника, а сам он поднял чару за их воинское искусство и отвагу. Кроме хлебного вина, наливали и заморские красные вина, которые не были так крепки, но, смешавшись с хлебным зельем, лихо ударяли в голову.
Добрыня сидел во главе стола, облачённый в красную, с широкими рукавами рубаху, красиво вышитую по вороту. Было жарко, и посадник давно скинул кафтан и шапку. В то лето ему сравнялось пятьдесят два года. Он был по-прежнему могуч, а постоянные боевые схватки не давали ему огрузнеть. Высокий, широкий в плечах, Добрыня казался моложе своих лет, разве что обильная седина, запудрившая его тёмно-русые, по-юношески густые волосы выдавала его возраст. Он подстригал свои кудри коротко, как и бороду, длиннее они вырастали лишь за время долгих военных походов, когда бывало не до ножниц. Лицом посадник походил на свою старшую сестру, то есть тоже красив, но если красота Малуши была тонка и нежна, то лицо её брата отличалось суровостью, которую подчёркивали два небольших шрама: один – расчертивший слева лоб и перечеркнувший бровь, другой – прошедший от правого уха до самой бороды.