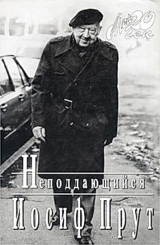
Текст книги "Неподдающиеся"
Автор книги: Иосиф Прут
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
– Этого вполне достаточно! – решительно заявил Завадский. – Создадим романтический спектакль, фоном которого будут бессмертные мелодии и поэзия прошлого. Назовем его «Встречи и разлуки». Для этого вы, Саша, приедете за два часа до концерта. Мой администратор привезет вам кое-что из нашей постановки «Маскарада».
Так и произошло! В день концерта Н. Савиной ее муж приехал заранее в Дом культуры имени Чкалова. И, когда актриса вышла на сцену этого прекрасного камерного зала, она не удержалась и ахнула от восхищения, ибо очутилась в уютном салоне, достойном княгини Волконской. Все соответствовало той далекой эпохе: кресло, канделябры, драпировки, ковры. За столиком сидел ведущий – ныне покойный талантливый чтец Валентин Миронов. Весь концерт был объединен единым сюжетом: поэзия, которой отвечал романс.
Вечер прошел с громадным успехом. К сожалению, по состоянию здоровья Юрий Александрович не смог присутствовать и не увидел своего последнего творческого детища. Памятью остались лишь отзывы прессы да созданный под влиянием этого представления музыкально-поэтический театр «Камелия».
Его душа – Нелли Савина. К сожалению, двух ее собеседников на аллеях Переделкино – мужа и Завадского – уже нет в живых. Я был на концерте Нелли. Он длился сравнительно недолго, но впечатление оставил огромное.
Сразу же оговариваюсь: я высказываю только свое личное мнение, хотя убежден, что в зале у меня нашлось бы немало единомышленников. Я в этом твердо уверен и сейчас объясню почему.
Нелли Савина исполняла романсы. Русские. Старинные и новые.
А русский романс – к какой бы эпохе он ни относился – психологический удар огромной силы. Ибо русский романс воскрешает в тебе, слушателе, все твое прошлое, а молодым передает величие и удивительную теплоту русской души, представляет всю красоту и величие близкой тебе русской природы и облик такой простой, такой обаятельной русской женщины.
Я родился еще в XIX веке. Поэтому слышал всех первых жриц этой особой глубокой музыкальной религии.
Проникающий в сердце русский романс родился давно, навеянный русской народной песней. Чувствовались в нем иногда и чужие напевы, цыганские, например. Но основа – как языковая, так и душевная – всегда оставалась русской.
Мне выпало огромное счастье слушать великую Анастасию Дмитриевну Вяльцеву. И великую Варю Панину, а также великую Надежду Плевицкую.
Полагаю, что предшественницей этого потрясающего трио была знаменитая в свое время Вера Васильевна Зорина, рано ушедшая в лучший мир, успев только справить свое пятидесятилетие.
Недолговечны были и Вяльцева (умерла сорока двух лет), и Панина – не дожившая до сорока.
Дольше всех продержалась Плевицкая. Эмигрировав после Октября в возрасте тридцати трех лет, она еще очень долго пела за границей.
За этой великой плеядой последовали наши – советские – исполнительницы русского романса.
Знаменитая пятерка двадцатых – тридцатых годов: Екатерина Юровская, Тамара Церетели, Анна Орлова, Лидия Русланова, Изабелла Юрьева. И конечно, Надежда Обухова.
Все они до Великой Отечественной войны и после нее триумфально шествовали по нашим сценам, радуя души слушателей чистотой и задушевностью русского романса.
Потом пришла Клавдия Шульженко. И снова зазвучали удивительные напевы, проникновенные слова, призывающие нас к любви и добру, к душевной чистоте.
Все это я пишу для того, чтобы твердо заявить: сегодня законной наследницей этого великого музыкального прошлого, этих блестящих представительниц бессмертного русского напева является Нелли Савина.
Последние годы своей жизни Завадский часто простуживался. Насморк или кашель беспокоили его постоянно. Как-то мне случайно стало известно, что в Москву приехал знаменитый сибиряк – доктор Бутейко. Встретившись с ним, я попросил его выступить со своим показательным сеансом в Центральном Доме работников искусств. Когда он дал согласие и был установлен день, я на это мероприятие пригласил Юрия Александровича. Из его носа текло, как из водосточной трубы. Познакомив с ним доктора Бутейко, я попросил, чтобы тот сегодня особое внимание уделил Завадскому.
И что вы думаете?! После двухчасовой лекции этого чудо-доктора Юрочка стал абсолютно здоровым: насморка как не бывало! На долгие месяцы Завадский избавился от столь беспокоивших его простудных заболеваний.
Не помню уж, в каком году, нас, работников искусства, собралось много на церемонии открытия нового памятника Николаю Васильевичу Гоголю на Арбатской площади (старый был перемещен в один из дворов Никитского бульвара). Когда мы с Завадским шли обратно, я не удержался и сказал:
– Мне кажется, что тот, кто сидел здесь раньше, безусловно, мог бы написать «Мертвые души».
На что Завадский ответил:
– А этот – бодренький – вряд ли их читал.
В тридцатых же годах мы провели каникулы на Украине. Наши друзья – актеры Русского драматического театра в Киеве – предложили совместную поездку для посещения чудесной местности на Днепре, расположенной в 100 километрах к югу от столицы Украины.
Из Москвы тронулись вчетвером: Ирина Сергеевна Вульф, Юрий Александрович, Павел Александрович Марков и я.
По прибытии на место нас прекрасно устроили в уютном домике у великолепной хозяйки, пятидесятилетней вдовы Матрены Гнатовны.
Утром следующего дня Ира и Павел пошли знакомиться с местностью и рынком, а Юрий Александрович вышел посидеть под окнами – на завалинке.
Я что-то записывал в комнате, возле открытого окна, и услышал такой разговор между Завадским и хозяйкой:
– Ну, раз вы вже у моей хате, так расскажите, Юрий Лександрович: хто з вас хто?
– Я – режиссер! – ответил Завадский.
– Это ж як понять?
– Режиссер – человек, который руководит всем на сцене. Вы бывали в театре?
– Ну як же?! Була. У Полтави: смотрела «Запорожца, шо був за Дунаем»! Добре грали!
– Значит, я – режиссер: объясняю артистам, как надо двигаться, как произносить слова, как быть одетыми, и так далее…
– Ясно. А Воня хто? (Это, естественно, про меня.)
– Иосиф Леонидович – драматург. Он пишет все то, что артисты говорят и делают.
– Ага, писменник!.. Ну, а Арина Сергеевна?
– Она – артистка.
– Спивает? Може, танцует?
– Если надо, и поет, и танцует.
– Разумию. За вас – ясно. Ну, а той малый, шо вы Пашкой кличете?
– Павел Александрович – критик.
– Это чево?
– Вот Иосиф Леонидович напишет пьесу и прочтет ее труппе. Артисты, в том числе Ирина Сергеевна, выучат все наизусть. Затем я объясню артистам, как надо играть. А когда все уже будет готово, – приходит Павел Александрович, смотрит представление от начала до конца и потом говорит всем нам, что ему кажется плохо, что не годится, чему зритель не поверит…
– Стой! Значит, Осип робыть, робыть, робыть; Арина Сергеевна – робыть, робыть, робыть; вы – робыте, робыте, робыте… А Пашка прийде, гляне, да тильки каже, шо це гавно, та то – гавно, – так ему за это ще и гроши платють?!
Завадский ничего не мог ответить, не имея возможности что-либо противопоставить столь «железной» логике. Он только развел руками: очевидно, Матрена Гнатовна была права.
Не очень удачным для Юрия Александровича оказался «ростовский период», когда его направили работать в драматический театр Ростова-на-Дону. Длилось это с 1936 года до возвращения в Москву после окончания войны. Короче это была пятилетняя ссылка. Кроме того, крайне тяжело проходило объединение московской и ростовской трупп… Получился малоудобоваримый коктейль: всех «новеньких» (а фактически старыхростовских артистов) Завадскому приходилось «переучивать»… Но среди них были и такие, которые привыкли к своейманере игры, имевшей у местных зрителей огромный успех благодаря именно такому, присущему только им,исполнительскому мастерству (это были люди уже не молодые, вполне заслуженные – любимцы публики). Популярность корифеев была велика, и они искренне полагали, что своейтрактовкой ролей бесспорно помогают новому главному из столицы поднять театр на еще большую высоту. И в этом была их ошибка: произошло столкновение двух – совершенно разных – творческих систем. У Завадского ушли годы для приведения объединенной труппы к общему знаменателю.
Наконец сам Завадский, за многие лета привыкший к студийной работе, к студийным размерам зала и сцены, к шепоту, доходившему до последнего – недалекого – ряда, вошел в гигантский сарай, вмещающий более двух тысяч зрителей и к тому же с ужасающей акустикой: новое здание Ростовского драматического театра, «подарок городу» периода сталинской эпохи.
Труппа театра при слиянии со студийцами Завадского разделилась на две почти равные части. Одна – категорически не приняла метод нового главного, а вторая – во главе с прекрасным актером Григорием Леондором – всей душой отдалась во власть нового худрука, полностью ему доверяя и сбрасывая с себя груз многолетних штампов. В общем, Завадский «хлебнул» на Юге!
Я приехал в Ростов повидаться с ним в конце 1937 года, когда шла работа над выпуском, к двадцатилетию Советской власти, спектакля «Дорога на Юг». Он заканчивался апофеозом – освобождением Ростова от деникинских полчищ.
Я был автором этой пьесы, я – местный житель, я – личный друг многих участников представления: все это создавало особый порыв в актерской среде. Заняты были все корифеи объединенной труппы: главную женскую роль играла Вера Марецкая, а генерала Деникина – Григорий Леондор.
Спектакль имел шумный успех, я был счастлив, Завадский – меньше. Он все еще не мог забыть родные пенаты…
Мой театр
Тридцатые годы – с точки зрения не только моей, но и многих моих коллег – были периодом расцвета советской литературы, драматургии, кино.
Лично я называю Театр Красной Армии – своим. С ним связана моя жизнь тех десяти лет, которые значатся годами тридцатыми.
Я позволяю себе считать Театр Красной Армии моим и потому, что семьраз появлялось мое имя на строгой афише этого – теперь ставшего академическим – театра.
Семь моих пьес, поставленных в этом театре; количество спектаклей, сыгранных на его сцене… Пожалуй, я, как автор, занимаю первое место.
Центральный Театр Красной Армии явился подлинным детищем наших вооруженных сил. И я счастлив, что был участником и свидетелем его становления!
В конце 30-х или в 40-м году в Советский Союз приехал министр культуры Франции. Побывав на одном из спектаклей ЦТКА, он спросил меня:
– Что надо сделать, чтобы и в Париже появился такой театр?
Я ответил:
– Создать Красную Армию!
А с людьми, творцами этого удивительного начинания – армейского театрального коллектива – я встретился, конечно, значительно раньше.
Все началось с того, что у энтузиаста и мечтателя – режиссера Павла Ильина и композитора Александра Александрова появилась мысль о создании красноармейского хора и солдатского театра: базы, так сказать, культурного отдыха для наших воинов.
Александров и Ильин добились осуществления своих замыслов. В 1929 году Главное Политическое Управление дало команду об организации драматического театра при Центральном Доме Красной Армии – для обслуживания наших армейских частей и флота. Его начальником был назначен бригадный комиссар Леонид Борисович Орловский. Руководимый им синтетический организм поначалу включал в себя четыре компонента: драматическую труппу, театр малых форм (миниатюр), кукольный театр и ансамбль «Красноармейская песня», который и возглавил Александр Васильевич Александров, мой старый добрый знакомый.
Два года перечисленные коллективы работали вместе. Затем отпочковалась и обрела самостоятельность драматическая труппа.
Только что родившийся в столице театр начал свою жизнь, прямо скажем, в очень небольшом помещении. Им оказался актовый зал бывшего Института благородных девиц, ныне – актовый зал Центрального Дома Российской Армии.
На маленькой эстраде, обрамленной колоннами, Павел Ильин поставил «Первую Конную» Всеволода Вишневского – моего друга и соратника по Гражданской войне. Оба мы служили в Первой Конной: я – в строю, Всеволод – на бронепоезде.
На эстраде, где в течение многих десятилетий выступали милые девочки, то бишь «благородные девицы», где они читали «Белеет парус одинокий…», на этой маленькой сцене родился будущий армейский театр.
Во главе труппы, которая формировалась очень бурно, встал выдающийся организатор театрального дела Владимир Евгеньевич Месхетели. Ему удалось привлечь к работе замечательных актеров и актрис, увлечь их своими репертуарными замыслами, зажечь в их сердцах великий творческий огонь. Владимир Евгеньевич убедил Юрия Завадского, а затем Алексея Попова возглавить художественное руководство театром. И именно эти два крупнейших мастера советской режиссуры вывели наш театр, армейский, в первый ряд именитых театров Москвы.
Я пришел, когда он существовал уже почти два года. Принес туда свою пьесу. И был счастлив, что ее поставили именно там, потому что после моего «Мстислава Удалого» в Театре Красной Армии появились такие спектакли, как «Гибель эскадры» и «Слава» Корнейчука, «Последняя жертва» Островского, мой «Год девятнадцатый», знаменитое «Укрощение строптивой» и еще многие-многие другие, принесшие нашему театру известность.
Скажу прямо: образы, которые были созданы на сцене этого театра, – незабываемы! В названных пьесах играли актеры «первого призыва» – такие, как Алексей Митрофанович Петров, Александр Евгеньевич Хохлов, Павел Иосифович Герага, Дарья Васильевна Зеркалова, Фаина Георгиевна Раневская, Александр Панкратович Хованский, Антонина Павловна Богданова, Владимир Сергеевич Благообразов, Марк Наумович Перцовский – просто всех не назовешь… Это был удивительный по тем временам коллектив. Была – воистину – героическая эпоха, можно сказать, период бурного, невиданного роста. И вот именно тогда утверждалась и развивалась военная советская драматургия.
Считаю необходимым заметить, что методпоиска сюжета мне подсказал Юрий Завадский… Этим методом я пользовался всю последующую жизнь в литературе и драматургии театра и кино.
– Пиши, Оня, – сказал мне Завадский, – о том, что знаешь лучше всего! А знаешь ты лучше всего – судя по твоим рассказам – героическое прошлое нашей армии. Будь я на твоем месте, да еще таким «нафаршированным» исключительными воспоминаниями, вообще давно бы написал книгу! Одни твои рассказы о Буденном, Ворошилове, Городовикове, Апанасенко, Жлобе, Тимошенко – уже книга! Какая галерея! Какой изумительный парад героев, таких разных личностей! Вот о них и пиши. А для начала, что еще лучше – о самых рядовых бойцах, твоих непосредственных товарищах!
И я послушался Завадского. До высоких командиров мне было далеко, поэтому задумал пьесу-реквием: о моих соратниках, самых мне близких в ту тяжелую пору, о тех, кого уже нет в живых, кто отдал жизни за нашу победу. Я назвал ее «Князь Мстислав Удалой» – такая надпись была на белогвардейском бронепоезде, отбитом нами у деникинцев.
Работа спорилась. Я закончил пьесу в три месяца и первый, кому ее прочитал, был Владимир Евгеньевич Вольф, художественный руководитель Ленинградского Красного театра. Он остался доволен, похвалил меня и сказал, что будет режиссировать лично:
– Дайте нам право первой постановки, после чего везите ваше сочинение в столицу.
Что я и сделал. Встретился с Юрой, рассказал ему о цели моего приезда в Москву (в те годы я еще жил в Ленинграде, писал киносценарии для «Ленфильма», как говорил об этом выше) и предложил прочитать пьесу. Мое чтение Завадский не любил. У него были на то причины:
– У тебя, Оня, никогда не поймешь, что фактически написано, а что еще нет. Читаешь ты так, будто играешь за всех на сцене, прибавляя по настроению половину текста. А когда я, после твоего ухода, перечитываю тобой написанное, – нет ничего похожего на то, что мы слышали!.. Всеволод Вишневский – тоже такой: наверное, ты от него и заразился! Оставь мне рукопись, я прочту ее сам.
Естественно, я с трепетом ждал результата. На следующий день Юра позвонил мне в гостиницу:
– Пойдет. Я предложил Владимиру Евгеньевичу Месхетели. Если она ему понравится, то буду ставить эту твою железнодорожную историю у него в Центральном Театре Красной Армии: он там начальник.
Я никак не отреагировал на подковырку – «железнодорожную историю», тут было не до полемики и перебранки. Передо мной открывался путь театрального драматурга. И к пятнадцатилетию Советской власти 7 ноября 1932 года в Москве состоялась премьера «Мстислава».
Ленинградцам эта пьеса – чудесно поставленная Вольфом – так и не была показана: накануне премьеры здание Красного театра сгорело дотла вместе с готовыми декорациями моего первого шага на театральной сцене.
Но через два года Леонид Сергеевич Вивьен, режиссер и актер Александринки, став художественным руководителем Драматического театра Ленинградского военного округа, поставил «Князя Мстислава Удалого» на сцене Дома Красной Армии.
Главные роли исполняли: Степы Суслова – Василий Меркурьев, комиссара – Юрий Толубеев, а командира играл сам Леонид Вивьен. В спектакле были также заняты молодые Евгений Самойлов и Михаил Екатерининский. Пьеса шла там до момента перехода основных исполнителей в бывший Александринский – ныне Академический театр имени Пушкина.
Юрия Александровича Завадского и Алексея Дмитриевича Попова можно назвать людьми самого разного мироощущения, мировоззрения, миропонимания, самого полярного восприятия и отношения к искусству.
Однако, когда Попов пришел на спектакль «Мстислав Удалой», он – после окончания действия – сказал:
– Я поставил бы эту твою пьесу точно так же.
И Завадский – после просмотра моей пьесы «Год девятнадцатый», поставленной Поповым, – в точности повторил его фразу!
Для того чтобы войти в драматургию самостоятельно, вовсе не нужно «изобретать» в Баку или Новосибирске, а то и в Москве нечто уже давно изобретенное в других городах или иностранных державах, как, например, велосипед. Важны степень подготовки автора, пишущего для театра или кино, объем его знаний, образованности, элементарной начитанности – и не только в отечественной литературе.
Что крайне удивляет, так это современный авторский диапазон: от яркой вспышки, осветившей экран или театральные подмостки, до беспредельной безвкусицы, зачастую – просто пошлости… Огорчает!
В этой фразе, звучащей как приказ, было желание приобщить меня – автора пьесы – к созданию спектакля, подчеркнуть недостаточно удачную реализацию актером режиссерских указаний, а вовсе не демонстрация собственного неумения объяснить исполнителю роли свою режиссерскую, творческую трактовку.
Как-то я рассказал Пете и Лёне Турам историю одного иностранного легиона. Они написали пьесу и попросили меня ее откорректировать. Так появился «Восточный батальон» и надпись в афише «при участии И. Прута».
А потом последовали адресованные мне стихи Александра Жарова:
Ты бы мог войти в литературу,
Я тебе бы в этом подсобил,
Если бы ты с этим грязным Туром
Смердяковщину б не разводил!
Пьеса «Пятьдесят седьмая страница» была задумана мною специально для трех актеров Студии Завадского: Марецкой, Мордвинова и Абдулова.
Юрий Александрович сразу же начинает ее репетировать. Спектакль был создан в самые короткие сроки. Он сдается Главреперткому, и… наши цензоры запрещают ее публичный показ! Мотивировка: «Вы что хотите этим сказать? Что партия ослепла?!» (Один из действующих лиц – терял зрение.)
В это же время было принято решение отправить Студию Завадского в Ростов-на-Дону. (Я уже рассказал читателю, сколь тяжкой была для Юрия Александровича эта «высылка».) Делалось сие якобы для усиления тамошней драматической труппы.
Актеры Студии во главе с ее руководителем написали в Центральный Комитет партии мольбу о жизни: просьбу оставить Студию самостоятельной, не разрушать сложившийся коллектив.
В тот момент я – за то, что сделал сценарий будущего фильма «Тринадцать» (в течение тринадцати дней), – удостаиваюсь чести стать делегатом Всероссийского Стахановского совещания. Зная, что буду приглашен в Кремль, я взялся передать послание коллектива Студии высокому руководству.
В кремлевском зале я сидел в первом ряду. И, когда был объявлен перерыв, передал это заявление прямо в руки Сталину.
Увидя мой поступок, тогдашний нарком просвещения, Андрей Сергеевич Бубнов (а он в тот момент стоял в кулисе), пришел в ужас. Я же спокойно объяснил ему, что, будучи делегатом Съезда, имею, по моему разумению, полное право обратиться с личным письмом в Президиум.
К сожалению, несмотря на мое «героическое» деяние, положительной реакции на заявление не последовало: Студию отправили в Ростов.
И вот я снова возвращаюсь к первой постановке «Мстислава Удалого».
Вместе с Завадским работал Михаил Михайлович Яншин – будущий народный артист Советского Союза, великий актер Художественного театра. Он помогал Юрию Александровичу в режиссуре спектакля. И надо сказать, что на маленькой сцене (на этой полуэстраде) было создано грандиозное театральное зрелище.
Представление потрясало зрителей тем, что Завадский и его актеры заставляли их забыть о времени, в котором они находились, полностью перенося всех сидящих в зале в незабываемую эпоху Гражданской войны.
Завадский работал с каждым актером, какое бы количество текста тому ни было отпущено, уделяя всем одинаковое внимание и одинаковое терпение.
Бывало, что работа отдельных артистов, а вернее, отдельные куски в трактовке отдельных персонажей не удовлетворяли Юрия Александровича. Он утверждал, что лишь тогда задача актера может считаться выполненной до конца, когда в его роли абсолютно отсутствуют пробелы и нет никаких, даже самых маленьких, творческих простоев. Роль должна идти на одном дыхании! Так учил он своих артистов и меня также.
Посещение репетиций дало мне многое. Если прежде я сомневался в том, что смогу написать вторую пьесу, то после уроков Завадского, после наблюдения за его работой с актерами понял, что написать вторую пьесу для этого театра и для этого режиссера – мой долг!
Репетиции приближались к той стадии, когда можно было начать думать о музыкальном оформлении пьесы. Юрий Александрович сказал мне:
– Я чувствую, спектакль получается… И боюсь тебе сказать, но мне кажется, что он получится хорошим. Меня все удовлетворяет уже в начальной стадии. Но для такого спектакля должна быть и высокого качества музыка!
Для музыкального оформления Завадский пригласил Дмитрия Кабалевского, в то время уже известного композитора. Этот человек – мудрый и строгий к своим работам – после прочтения пьесы и просмотра первых репетиций отнесся чрезвычайно требовательно к тому делу, которое ему было поручено. Он создал не просто музыкальную иллюстрацию или сопровождение того, что происходило на сцене, нет. Кабалевский написал сюиту и назвал ее «Князь Мстислав Удалой». Это большое эпическое произведение, состоящее из нескольких частей, живет по сегодняшний день как самостоятельный музыкальный опус композитора Кабалевского периода тридцатых годов.
Я сказал бы, что не менее ответственно, чем к своей режиссерской работе, Юрий Александрович отнесся к оформлению спектакля. На сцене появилась площадка бронепоезда. Создали ее художники Андрей Гончаров и Леонид Попов. Зрителю представал подлинный бронированный вагон со всеми достоинствами и недостатками, – присущими подобным машинам того времени. И это тоже помогало воссоздавать ощущение, что зритель находится не в сегодняшнем дне, а в героической эпохе Гражданской войны.
В общем, в театральной жизни столицы появился букет, созданный из великолепных актеров, великолепных художников, прекрасного композитора и прекрасного режиссера. Сколько мне ни приходилось впоследствии сталкиваться с театрами, такое наблюдал лишь еще раз: несколько позже, когда во главе Центрального Театра Красной Армии встал Алексей Дмитриевич Попов (Юрий Александрович тогда уже руководил созданным им коллективом, который из Театра-студии Завадского стал теперешним Театром имени Моссовета).
Следующей моей работой в этом великолепном театре была пьеса «Я вас люблю» о советских героях-летчиках. Поставили ее Виктор Типот и Вениамин Пильдон – те, кто под руководством Юрия Александровича Завадского работали в ту пору в театре.
«Я вас люблю» – лирическая комедия. Музыку к ней написал возглавлявший ансамбль песни и пляски Советской Армии тогда еще молодой композитор Борис Александров.
Чтобы закончить рассказ о Юрии Завадском, напомню, как на студии «Межрабпом-Русь» готовился к съемкам фильм по роману А. Толстого «Аэлита». Было это аж в 1924 году. Я порекомендовал Завадского на роль Гора, хранителя энергии Марса. Яков Александрович Протазанов пригласил Юру в ателье. Там сделали фотографию, а затем и кинопробу. Завадский был утвержден Художественным Советом на эту роль.
Мои восторженные слова о друге услышал через год и режиссер Константин Эггерт. Он приступал к работе над воплощением сценария «Медвежья свадьба» по мотивам пьесы Луначарского. И Юрий Александрович предстал перед кинозрителями в роли красавца Ольгерда. На этом, по-моему, его непосредственное участие в кино закончилось. В 1925 году он в первый раз женился.
Вера Петровна Марецкая родилась 31 июля 1906 года, а ушла от нас навсегда 17 августа 1978-го. Восемнадцатилетней девочкой, окончив Студию при будущем Театре имени Вахтангова, была принята в Студию под руководством Завадского, где сразу заняла ведущую роль в спектаклях репертуара коллектива.
Мать Юры – Евгения Осиповна – сердечно приняла сноху, раскрыв ей свое благородное сердце. Она сказала мне: «Кажется, наконец укротили строптивого!» Эти слова были произнесены уже в следующем году, когда у молодоженов родился сын. Назвали его в честь бабушки Евгением. В тот момент, когда пишутся эти строки, упомянутый «ребенок» сам уже дед.
У Завадского, в силу некоторых скрытых черт характера, кроме матери, не было личных близких друзей.
Когда Евгения Осиповна узнала о том, что ее сын был на вечере ВТО с Галиной Улановой, я спросил у старой дамы: какие у нее мысли по этому поводу и что это могло означать?
Она усмехнулась и ответила:
– Возможно, Юра хочет проверить свои режиссерские способности в балете. Он всегда во всем слышал музыку – от Моцарта и Чайковского до аргентинского танго. А уж экспрессия, жест, мимическое выражение – для него имеют первостепенное значение.
Когда достигаешь определенного возраста, начинается пора воспоминаний. Мы часто говорили с Завадским о нашем прошлом. Как-то коснулись его работы в ЦТКА. Юра оживился и сказал много лестного о том периоде своей творческой жизни.








