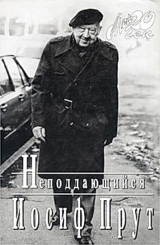
Текст книги "Неподдающиеся"
Автор книги: Иосиф Прут
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
Иван Козловский
На моем 80-летии в Доме литераторов Иван Семенович Козловский пропел со сцены в мою честь:
Люблю я Оню Прута,
Который – тута!
Вот он сидит на сцене —
Наш друг, наш гений!
Его орлиный профиль
и взгляд глубокий.
Как флаги на флагштоке,
Свисают щеки!..
Иван Семенович Козловский всегда был легок на подъем. Он участвовал в наших «капустниках» не только в ЦДРИ, но и в Доме литераторов
Писатели – в свою очередь – помогали ему. В селе, где он родился, создана музыкальная школа. И ежегодно в ЦДЛ мы давали платные «концерты» в пользу этой школы. В них принимали участие и Антокольский, и Белла Ахмадулина, и конечно же я.
На моих юбилеях Козловский непременно пел. В день моего девяностолетия он был болен и прислал в подарок венок из ржи, который просил считать за лавровый.
Естественно, я не оставался в долгу. И, когда в Большом театре праздновали девяностолетие Ивана Семеновича, я вышел на сцену с такими словами:
– Пятый гусарский ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк вошел в строй русской армии 21 июня 1783 года.
Полк – до 1917-го – участвовал во всех войнах нашей Родины и награжден за исключительную доблесть – всеми высокими знаками русского воинского отличия.
Я рассказываю вам это затем, чтобы вы знали, что в 1900 году штаб полка располагался в селе Марьяновка Полтавской губернии, где именно в ту пору родился наш дорогой юбиляр. А эскадроны полка находились в окрестных деревнях, носивших живописные названия: Шамраевка, Верхне-Мануйловка, Марковка и Бутенки.
Поэтому я спою моему другу – Ване, а с ним я дружу ровно шестьдесят пять лет, – песню этого славного полка, причем последний куплет посвящаю лично юбиляру:
Кто там в малиновой венгерке
И в чьих глазах горит пожар?
Я узнаю тебя, бессмертный
Александрийский лейб-гусар!
Без кунтуша, в одном халате,
Шинель накинув в рукава,
Фуражка теплая на вате,
Чтоб не замерзла голова!..
Летя на тройке полупьяный —
Снег забивался мне в глаза,
И по щеке моей румяной
Стекала медленно слеза.
Быть может, нынче, может – завтра
Нас всех на копьях понесут
И там, в могилу опуская,
Нам память вечную споют.
Так пей, гусар, покуда пьется,
И горе в жизни забывай.
У александрийцев так ведется:
Пей, брат, ума – не пропивай!
И наконец:
Хотя мы пили по-московски,
Но никогда он не был пьян,
Иван Семенович Козловский,
Иван Семенович – Иван!..
Ваня меня целует и говорит:
– Оня, тебе бы мой голос!
А я ему в ответ:
– Жопа, тебе бы мой слух!
Это, конечно, телевидение «вырезало»…
Сергей Михалков
С Сергеем Михалковым я дружу, пожалуй, года с тридцать пятого. Вы знаете о его небольшом дефекте – речевом. Как-то шел он по улице Горького, увидел меня, подходит, взволнованно что-то пытаясь сказать. Я его опередил словами:
– Если насчет денег, даже не заикайся!
Надо заметить, когда речь шла о деньгах, он… не заикался!
– Н-нет! Я иду… из ре-ре-дакции «Пра-авды». С-с-да-ал… – Пауза. – Две-две-ести строк. – И абсолютно не заикаясь добавил: – Получил сто сорок рублей. Правда, здорово?!
Уже в послевоенные годы мы поехали с Сережей Михалковым в Одессу, намереваясь писать сценарий.
Сергей говорит:
– 3-значит, так: восемь часов спим, д-два часа работаем, д-два часа гуляем, д-два в день – на еду, д-два – на баб, еще д-два часа мне, чтобы вылечиться от з-заикания. В Одессе это умеют…
И вот тут-то произошел знаменитый диалог писателя с милиционером. Дело было на одесском вокзале: долговязый Михалков видит маленького милиционера. Манит его к себе пальцем и произносит:
– А с-скажите, где тут у вас з-знаменитая школа з-заикания?
Милиционер, настоящий одессит, в ответ:
– 3-зачем вам школа? В-вы же и так в-великолепно з-з-заикаетесь!
По рассказам очевидцев, Михалков, будучи военным корреспондентом, в один из первых дней войны застрял в Одессе. В то время враг приближался к городу, и Одесса готовилась к обороне.
Расстроенный событиями, Сергей шел в порту вдоль пирса, а ему навстречу – моряк торгового флота. Обращаясь к Михалкову, он, сильно заикаясь, спросил:
– К-кот-торый ч-час?
От дурных дум и ужасного настроения Михалков стукнул моряка, и тот полетел в воду. Подбежал патруль:
– В чем дело?!
Моряк, вылезая из воды, уцепившись за кольцо, удивленно кричит:
– 3-за-а что?!
Михалков, обращаясь к патрулю:
– П-подумайте, какая с-сволочь! Тонет, а дра-а-знится!
Когда, вместе с Эль-Регистаном, Сережа написал гимн Советского Союза и утром объявили о том, что он получает Сталинскую премию, Михалков, взволнованный, прибежал к своему двоюродному брату, чтобы сообщить радостную новость. Там все еще спали и только его племянник – первоклассник – собирался в школу. Он открыл дверь лауреату. Сергей поднял мальчонку на руки, расцеловал и, как всегда, заикаясь, сказал:
– Т-ты з-з-наешь, я получил Ста-алинскую премию!
На мальчика это не произвело впечатления. Он ответил:
– Подумаешь! Я вчера получил пятерку!
А этому эпизоду уже я сам был свидетелем… Во время войны я приезжал с фронта в Алма-Ата, где Иван Пырьев снимал по моему сценарию фильм «Секретарь райкома». Естественно, я навещал семьи своих друзей, в том числе и Михалковых, ибо Наташу Кончаловскую, как уже говорил, знал с детства.
И вот то ли в Алма-Ата, то ли после войны в Москве в доме Михалковых произошла такая сцена.
За чаепитием сидели я и маленький Андрон. Приходит Сергей с пакетом – продуктовым пайком. Кладет его на стол, разворачивает: Среди прочей снеди – сливочное масло. Отец отрезает кусочек сыну и большую долю себе, при этом говоря:
– Ты-ы маленький – тебе по-оменьше, а я бо-оль-шой – мне по-о-больше.
На что ребенок с сарказмом замечает:
– А когда дядя Оня приезжал с фронта, он нам с мамой отдавал все свое масло!
Не знаю, помнит ли об этом нынешний знаменитый кинорежиссер, но эту реплику ребенка я запомнил…
Эммануил Казакевич
и Вениамин Рискинд
Это было на фронте в 1943 году. После одного организованного мною и удивительно удачно закончившегося поиска в расположении противника я сказал исполнителю этой исключительно тонкой операции:
– Ты – самый лучший командир разведроты в нашей армии!
На что капитан Петр Цушко ответил с его неповторимым южным акцентом:
– Есть – више! И куды више: Казакевич!
Так впервые я услышал эту фамилию. А познакомились мы с Эммануилом Генриховичем уже после войны: у нас оказался общий друг – Веня Рискинд. А так как друзья наших друзей – наши друзья, мы сразу и подружились. Оставаясь на «вы» (Казакевич однажды сказал, что это признак наивысшего уважения), мы называли друг друга уменьшительными именами. Поэтому Казакевич стал для меня просто Эммой.
Сегодня с особой теплотой вспоминая о моем ушедшем товарище, я отлично понимаю, что многие, знавшие Казакевича как писателя (и возможно встречавшиеся с ним ежедневно), сообщат читателям другие подробности, достойные этого крупного самобытного литературного дарования. Мне хотелось бы отметить несколько микрограней лишь одной стороны его сущности: доброту и удивительную человечность.
Воин беспредельной личной храбрости в бою, Казакевич был в мирное время самым мирным из всех моих самых мирных знакомых. Никогда и никто по внешнему его виду, по манере двигаться, по особой фразеологии – такой предельно «гражданской» – не мог бы предположить, что его собеседником является первоклассный армейский разведчик.
Как-то утром раздался телефонный звонок.
– Слушаю!
– С добрым утром, Оня. Говорит Казакевич.
– Здравствуйте, Эммочка!
– Надо сегодня повидаться!
– А что случилось?
– Есть одно большое дело.
– Литературное? – спросил я.
– Наоборот: финансовое!
– Вам нужны деньги?
– Нет. Но о них пойдет речь! Захватите пятьсот (разговор происходил в 1956 году)!
– Где встречаемся?
– Не в Академии же наук.
– Значит, в кафе «Националь)?
– Именно.
– Когда?
– В двенадцать ноль-ноль!
Казакевич, ждавший меня за столиком, сразу приступил к делу:
– Надо выручать Рискинда!
– В каком смысле?
– Довольно ему сочинять впустую. Веня много пишет, но его гениальные опусы никто не покупает.
Рискинд был автором слов и музыки многих песен. Отлично сам аккомпанировал себе на баяне. Его рассказы читала со сцены Вера Николаевна Пашенная.
– Что же вы предлагаете: аукцион?
– Острить начнем вместе, когда решим главный вопрос! – сказал Казакевич. – Рискинд должен начать выступать публично. Причем за нормальную плату. Конечно, он к этому не привык! Я присутствовал на его концерте сравнительно недавно: залом была кухня этого кафе. Народу – полно! Веня, в день Восьмого марта, пел для официанток и поварих, пел вдохновенно, но совершенно бесплатно!.. Я хочу пресечь эту опасную благотворительную деятельность. За свой труд Рискинд должен получать нормальное вознаграждение! И есть человек, который согласен возглавить его артистическое турне: этого слова при Вене не говорите, он – его не знает и подумает, что речь идет о выпивке… Итак, Рискинд поедет выступать от Мосэстрады с песнями войны и мира по нашей необъятной стране. В его успехе я не сомневаюсь!
После паузы я спросил:
– А Веня согласен стать гастролером?
– Да. Я уговаривал его больше недели: поедет!
– Так значит, все в порядке! И при чем тогда деньги?
– Очень при чем! Деньги нужны. У Вени нет костюма! Ему для выхода нужен… фрак.
– Эммочка! Веня – бывший чемпион по велоспорту. У него фигура, более схожа с формами Григория Новака, нежели…
– …Нежели чем с линиями Галины Улановой? Согласен!.. Но в своей гимнастерке он выступать не может! Конечно, где-то вы правы, если Веня выйдет во фраке, зрители подумают, что он комик, изображающий капитализм. Может, смокинг? Будет очень эффектно, когда он с баяном начнет:
Здравствуй, мама, родная старушка!
Я сегодня иду в первый бой,
Набросаю фашистам игрушек
И с победой вернуся домой!..
– Эммануил Генрихович! Песни фронтовика – в смокинге?
– Полагаете, что может прозвучать насмешкой? Хорошо! Тогда – вы и я покупаем ему хороший черный костюм. Гоните ваши пятьсот монет.
Я протянул Казакевичу пять сотенных купюр.
– Вот и наши полтыщи. Покупать костюм пойдет с Веней моя жена Галина Осиповна.
– А он не обидится?
– На кого?
– В таком походе – под присмотром вашей супруги – есть элемент недоверия…
– Что вы предлагаете?
– Дать Вене деньги на материал, а костюм сшить в Литфонде.
– Может, вы и правы… У Рискинда, конечно, нестандартная фигура и подобрать что-нибудь подходящее для него будет нелегко.
Через месяц Казакевич сообщил:
– Деньги я Рискинду отдал. Материала он не купил и концертный костюм сшит не был. Веня отослал нашу тысячу в Ленинград своей племяннице Анечке, дочери его убитого на войне брата-капитана. Я, как инициатор этого грабежа, хочу вернуть вашу долю.
Услышав мой отказ, Эммануил Генрихович сказал:
– Дружба, если она настоящая, довольно дорогая штука. А раз мы друзья Вени, будем нести и дальше этот крест… Я придумаю для него еще что-нибудь в таком же роде…
Еще один памятный разговор:
– Что сочиняете, Эммануил Генрихович?
– Должно вам понравиться! Роман о разведчиках, о людях, действовавших в тылу врага. Таким образом, у моих будущих героев на войну – особая точка зрения: они видят гитлеровцев со спины и участвуют в боевых событиях с другой стороны. В последней главе хочу описать взятие Берлина. Факт грандиозного значения, ибо повержена цитадель самого страшного зла в истории человечества, да и сам город – не Жмеринка…
Александр Фадеев
Не помню точно года… Звонит Фадеев:
– Оня! Приехала хозяйка нашего Дома литераторов графиня Олсуфьева!
– Это ей принадлежал особняк, где теперь клуб? Ну и что? Она требует его обратно?
– Нет. Хочет посмотреть.
– А я при чем?
– Мне сказали, что она по-русски не говорит, только по-немецки. Так что проводи ее!
– Хорошо. Буду с ней говорить по-немецки.
Через двадцать минут – второй звонок:
– Я ошибся! Говорить надо по-французски!
– Хорошо. Буду говорить по-французски, хотя непонятно: она же смолянка, русская…
– Не знаю! – отвечает Фадеев. – Мне так сказали, и нечего рассуждать!
Я заехал за этой почтенной женщиной в «Националь» и привез ее на Поварскую. Она вошла в дом и остановилась перед доской с именами погибших на войне писателей, спросила:
– Кэс кё сэ? («Что это?»).
Я объяснил. Дама перекрестилась и поднялась в зал. Увидела столики ресторана, усмехнулась и сказала:
– Хорошо, что люстру оставили!..
– Ее трудно менять: весит много.
– А откуда вы так хорошо знаете французский?
– Гвардии казак! – ответил я.
– Хочу пройти туда, – она кивнула на балкон второго этажа, – посмотреть свою спальню: там я рожала своих дочерей.
В той комнате был партком. Я ужаснулся:
– Вам будет тяжело подниматься, мадам. В доме нет лифта.
– Ничего! Я дойду по внутренней лестнице.
Вот мы идем. Подходим. Дверь закрыта. Олсуфьева ее приоткрывает и видит Виктора Сытина, что-то пишущего явно не в пользу прежней хозяйки дома…
– Что здесь теперь? – спрашивает меня она.
И я решил: хватит дурачиться! На русском уже языке отвечаю:
– Здесь находится партийный комитет, мадам!
И тотчас она мне тоже по-русски:
– Ну, спасибо тебе, гвардии казак!
После этого мы перешли на русский, и визит владелицы нашего Дома литераторов завершился.
В день моего пятидесятилетия получил от Фадеева чудесное письмо. В нем было столько теплоты и дружбы!.. Сейчас я сдал его в ЦГАЛИ.
А тогда в шутку спросил: будет ли какая-нибудь награда мне к юбилею?
Он ответил:
– Вечер и ужин тебе Союз закатит потрясающий! Почету будет – выше головы! А орден – вот! – И Саша показал мне дулю.
Памятуя о рассказанной мне истории моего рождения, когда голова была еще в чреве матери, а дуля тети Ани уже лишила меня тысячи рублей, – я не удивился и не огорчился. Но все-таки поинтересовался:
– Это за что же?
– За твой длинный язык! Даже я не мог уговорить начальство!
Вспоминаю «свой язык». Шло очередное для 1948 года осуждение кого-то из литераторов. Человека горячо и громко обвиняли в космополитизме.
Войдя в переполненный зал, видя затравленного литератора, который слабо отбивался, доказывая, что он не «космополит», я, не сдержавшись, громко вопросил:
– Что это у вас тут за мышиная возня?! – И покинул зал. Не сомневаюсь, что не один из моих собратьев по перу отправил «гневные высказывания в мой адрес» наверх…
А вот в 60-е годы, уже после XX Съезда партии, мы зашли с Сашей в кафе возле ВААПа… и тут же вышли: кто-то из сидевших там, увидя Фадеева, крикнул:
– Ну что? Доволен своей «работой»?!
Этот XX Съезд, осознание Фадеевым того, что он, свято веря Сталину, многих обрек на каторгу и расстрел, решили и судьбу его самого: Саша оставался честным человеком до самого конца…
Фадеев был на год моложе меня. Познакомились мы с ним в Ростове и были друзьями. Он и сейчас в моем сердце. Он верил в советскую власть, а в Сталина – как в Бога!
По-моему, это было в довоенный период…
Гуляю я вдоль кремлевской стены по Александровскому саду и вижу идущего по мостику Фадеева. Он тоже меня заметил и спустился в сад. Сказал на ухо:
– Оказывается, Мишка Кольцов работал на три иностранные разведки! Могли бы мы это подумать о нашем товарище?!
– Если три, то ты дурак, Саша! Сказать такое про Мишу Кольцова!
– Это ты – трижды дурак, Оня: мне это только что рассказал сам товарищ Сталин!
Вот так-то. А лет пять-шесть назад, в период «перестройки», Аркадий Ваксберг опубликовал список тех, кто был уже обречен на смерть… В этом – сталинском – «расстрельном списке интеллигенции» на букву «П» – первым значился я…
В третий раз в аналогичном «списке» я – по рассказам тех, кто его читал, – тоже значился. Это было уже в расцвете перестройки, когда стало все дозволено. Такой список составляли наши, «доморощенные» фашисты. Думаю, никто из них не видел ни моих спектаклей, ни фильмов, не читал моих пьес… Ведь это – неандертальцы!
Если б меня спросили: «Каким был творческий метод Фадеева?» – я бы ответил так:
– Будучи противником романтизма, он был проповедником социалистического реализма, по которому – с его точки зрения – должна была успешно двигаться отечественная литература.
Фадеев всегда старался сказать мне доброе слово, что-либо приятное.
Я инсценировал «Разгром». Саше поступило много предложений, но он, ознакомившись с моим текстом, разрешил это только мне. И сказал:
– Прекрасный может получиться спектакль. Если бы я заново писал «Разгром», то теперь – после прочтения твоей пьесы – использовал бы кое-что из твоего текста и поворотов сюжета.
Премьера состоялась через 13 лет после ухода Саши из жизни: 25 декабря 69-го года. Пьеса прошла на сцене Театра имени Маяковского более 200 раз.
Левинсона играл Армен Джигарханян, играл потрясающе! Это была его первая роль на московской сцене.
Режиссер спектакля – Марк Захаров – поставил до этого в Театре Сатиры пьесу «Банкет», которую репертком тут же – на просмотре – разгромил. Она была запрещена, а Захаров уволен.
Но я настоял на том, чтобы «Разгром» поручили именно ему, ибо верил в его талант. И он оправдал наши надежды. Триумфальная премьера! После такого успеха, естественно, – товарищеский ужин.
Произнося заздравный тост, я сказал Захарову:
– В «Сатире» у вас «Банкет» закончился разгромом, а тут «Разгром» – кончается банкетом!
Судя по трогательной надписи, которую он начертал на своей, подаренной мне книге – он не обиделся…
И еще два слова о нашем разговоре с Фадеевым: я вернулся из Бурят-Монголии. Пришел в Союз. Фадеев спросил:
– Ну, что делают монголы?
– Бурят! – ответил я.
Константин Симонов,
Евгений Долматовский
и Михаил Светлов
Симонов и Долматовский – это люди, близкие мне по профессии и по духу.
5 июля 1995 года в Доме Ханжонкова – бывшем кинотеатре «Москва» – проходил вечер памяти Константина Симонова и Евгения Долматовского. Оба они родились в 1915 году.
Жене исполнилось бы восемьдесят лет. Костя – на полгода моложе, а я – на 15 лет старше их обоих.
Начали они свою творческую деятельность в ту пору, когда были живы и почитаемы великие русские поэты первых трех десятилетий нынешнего – XX – века.
С какою жадностью звериной
Мы между воблой и пшеном
В сырой нетопленой гостиной
Читали Блока перед сном…
Многие старались подражать корифеям. Но Жени и Кости это не касалось: они держались своего собственного литературного стиля и шли по своему литературному пути.
Евгений Долматовский главным образом и в основном писал стихи, слова к песням и стал большим поэтом.
Константин Симонов завоевал и поэзию, и прозу, и драматургию театральную, и сценарное дело. Это был большой разносторонний талант.
Человек храбрый, он всю войну прошел военным корреспондентом, и стихи его знала и читала вся страна.
Сила обоих состояла в гражданственности: все о Родине, все о ней и для нее!
Нелегко им было, когда литературой командовал ВАПП – Всесоюзная Ассоциация Пролетарских Писателей. От ее ударов гибли и прозаики, и поэты.
В Ленинграде расстреляли Бориса Корнилова за выступления против ЛАППа (Ленинградская Ассоциация).
В 1932-м ВАПП был ликвидирован. Вместо него в 1934 году создали Союз писателей.
Через три года оба – Женя и Костя – стали его членами, талантливо продолжая свою честную, плодотворную работу.
Когда началась война – с первых ее дней до последнего победного часа – и Женя, и Костя – были впереди, на фронте, ежедневно рискуя жизнью!
Итак, оба остались в боевом строю русской литературы до последнего своего дня.
Я никогда не забуду моих дорогих друзей: вечная им память!
Прошел фронт, побывал рядовым в окопах и Михаил Светлов: нелепый, долговязый, сутулый под тяжестью армейской шинели. Он всегда оставался самим собой, не переставая шутить и иронизировать в самых сложных ситуациях.
Во время войны Михаил Светлов на фронте написал о Семене Кирсанове:
О Светлове написано много исследований серьезными специалистами. А я помню Мишу в быту, в нашей литературной среде… Мы были грамотными, образованными. Среди нас встречалось много талантливых людей. Еще раз повторю: на острое слово, сказанное коллегами, никто не обижался…
Был такой добрый человек – Наум Лабковский. Он переводил с польского, но в основном с украинского. На его творческом вечере каждый из нас преподнес ему сюрприз.
Помню два:
Миша Светлов сказал Науму по-украински:
Нэ бэда, що нэма у Наума ума,
а бэда, що Наум – претендуе на ум!
Я же – добавил уже в прозе:
– Наум Лабковский перевел Остапа Вишню с малороссийского на еще менее российский!
Один молодой поэт спросил у Михаила Светлова:
– Почему академиков считают на члены, а баранов – на головы?
Светлов ответил:
– Вероятно, учитывая, у кого что слабее…
Кончилась Великая Отечественная. Надо было решать: как отражать события недавнего боевого прошлого в искусстве и литературе. Поэтому группа из семи бывших фронтовиков написала руководству свои предложения. Приближался 1948 год…
Резолюция была такой, что Светлов изрек:
– Мы написали «письмо семи» и получили ответ – «антисеми»!..
Со Светловым я отдыхал в Ялтинском Доме творчества писателей. Было скучно. Идем по набережной, навстречу – две девицы, нельзя сказать, чтобы хороши собой… Посмотрел на Мишу. Он понял молчаливую просьбу и изрек:
О Господи!
Почто изъял ты
Красивых девушек из Ялты?!
Последние дни жизни Михаил Светлов провел в Боткинской больнице.
Я часто навещал его.
Под окном палаты проходила дорожка, ведущая в морг…
Миша называл ее «Моргенштрассе» и каждое утро говорил ей:
– Гутен морген!
Когда в палату заходила сестра, чтобы сделать очередной укол, Миша провозглашал:
– А вот и Наденька! Пришла по ягодицы!
В очередной мой визит я застал Мишу лежащим с закрытыми глазами. Решив, что больной спит, уже было собрался уйти. Но вдруг, открыв глаза, он сказал:
– Нашел!
– Что? – спросил я.
Он ответил:
– У знатной доярки —
Елизаветы Петровны Елагиной —
коровы были такого качества,
что имели вымя и отчество…
Через три часа Миши не стало…








