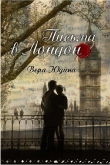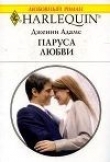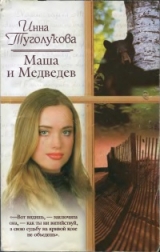
Текст книги "Маша и Медведев"
Автор книги: Инна Туголукова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
– Это стонет обманутый властью народ!
– Во дает коммуняка! – восхитились сокамерники.
– Я не коммунист! – гневно открестился тщедушный. – Зюгановцы продались за тридцать сребреников. Я член партии «Трудовая Россия»! Мы не болтуны! Мы делатели!
– Ты чё разорался-то, гнида? – приподнялся с настила кудлатый заспанный парень. – Мало тебе на митинге накостыляли? Так я добавлю!
Но тщедушного было уже не остановить. Глаза его горели революционным огнем, на губах вскипала слюна, а узкую грудь вздымала сумасшедшая жажда всеобщей справедливости.
– Немедленно откройте дверь! – барабанил он в металлическую обшивку, распаляясь все сильнее. – Я требую прокурора! Здесь попираются гражданские права!
Смотровое окошко со скрипом приоткрылось.
– Опять выступаешь, Курицын? – лениво поинтересовался дежурный. – И когда ты только свой поганый язык прикусишь? Пятнадцать суток, считай, уже заработал...
– Вы почему отказали даме в телефонном звонке? – взвизгнул Курицын.
– Какой даме? – удивился сержант. – Мы дамам никогда не отказываем...
– Вы бросьте свои грязные намеки! – запетушился борец за гражданские права. – Вам этот произвол просто так с рук не сойдет!
Дежурный отпер дверь и хмуро отыскал взглядом Марусю.
– Это вы, что ли, его возбудили? Вам же предлагали позвонить. Лейтенант Тарабрин предлагал, я сам слышал. То молчала, как рыба об лед, а то волну гонит. Идите звоните!
У Таи было занято, и Маруся набрала номер Лизы. Трубку сняла Софья Андреевна, выслушала, не перебивая, сказала:
– Успокойся и жди, скоро мы тебя вызволим.
Но только через долгие четыре часа Марусю привели наконец в кабинет, где находились уже знакомый лейтенант Тарабрин, Тая, Лиза и Роман.
– Маруся! – шагнул он ей навстречу.
Но она замахала руками, будто отгоняя привидение и безуспешно пытаясь что-то сказать внезапно севшим голосом.
– Потом, потом! – кинулась на выручку Лизавета. – Все! Мы уезжаем, а ты, – обернулась она к Тае, – заберешь из квартиры Машкины вещи...
Вечером они сидели за столом в маленькой кухне, и Софья Андреевна на правах старшей первой взяла слово:
– Давайте обсуждать только реальные варианты. Лично мне приходит в голову лишь один: надо заставить Романа или разменять квартиру, или купить Марусе однокомнатную.
– Ну правильно! – возмутилась Тая. – Они останутся в ее трехкомнатной, а Машка...
– Все остальное – пустые мечты, – охладила ее пыл Софья Андреевна.
– Я ничего от него не приму, – тихо сказала Маруся.
– Тогда живи у нас...
– Или у нас...
– Нет, – покачала она головой. – Это исключено.
– А что же ты будешь делать?!
– Я... Я уеду.
– К Юльке?
– Софья Андреевна! Можно, я с вашего телефона пошлю телеграмму? – И, не дожидаясь ответа, Маруся, словно боясь передумать, сняла трубку и набрала «06». – Девушка, пожалуйста, Ивановская область, Савинский район, почтовое отделение Меховицы, деревня Новоюрово, Крылову Василию Игнатьевичу, – волнуясь, проговорила она. – А текст такой: «Если ваше приглашение остается в силе, я приеду. Маша!»
– Это тот старик, с которым ты познакомилась в метро? – первой нарушила тишину Лиза.
– Да ты что, Машка, белены объелась?! – взорвалась Тая. – Ты его видела две минуты! Может, это сволочь почище твоей Тамары! Или сумасшедший! Куда ты едешь?! Что ты вообще будешь там делать, в этой деревне? Коров пасти?
– Ты не горячись, – остановила ее Софья Андреевна. – Это не такой уж плохой вариант.
– Тогда объясните мне, чем он хорош, а то я, убогая, не понимаю!
– Она сменит обстановку – это главное. Придет в себя. Ее сейчас, в таком состоянии, ни в одно издательство не возьмут. Вообще никуда! У нее же на лбу написано: «На грани нервного срыва». А в деревню она, считай, отдыхать едет – на каникулы к дедушке. Лето только начинается! Загорит, воздухом надышится, соловьев послушает, вернется осенью – кровь с молоком. Будем от нее работодателей поганой метлой отгонять!
– А что ты Юльке напишешь? – не сдавалась Тая.
– Вот так и напишет: решила, мол, пожить летом у друзей на даче...
7
Генерал-майор Крылов Василий Игнатьевич в одночасье лишился всей своей семьи: жены Валентины Петровны, сына Коли, невестки Татьяны и любимой внучки Кати. Чудом уцелел только Катин муж Митя, потому что именно он и должен был сидеть за рулем своего новенького «мерседеса».
Но в то раннее июньское утро за руль сел Николай – хотел проверить, что это за штука такая – иномарка и с чем ее едят. А Василий Игнатьевич с Митей поехали следом на черной генеральской «Волге».
Трагедия произошла у них на глазах, в двух километрах от дачи: на крутом изгибе загородного шоссе «мерседес» вынесло на встречную полосу, прямо под колеса груженного кирпичом «МАЗа»...
Случилось это семь лет назад. И в квартире, и на даче жить стало невозможно: все здесь кричало о невосполнимой утрате. Впрочем, жизнь вообще потеряла какой бы то ни было смысл, вне зависимости от времени и места. Что могло вернуть ему радость бытия в семьдесят пять лет? Ничего! Кому он был еще нужен на этой земле? Никому.
И Василий Игнатьевич принял, как ему тогда казалось, достойное старого солдата решение: составил завещание в пользу Мити, выпил водки и отпер маленький сейф в стене под картиной, где хранился именной «Макаров».
Но пистолета там не оказалось. Взять его мог только один человек. И пока генерал, холодея от ужаса, пытался дозвониться до Мити, пока орал на него, кроя последними словами и уже понимая, что не для себя Митя забрал пистолет, а его спасал, старого дурака, решение уйти из жизни перестало казаться единственно возможным.
Как он мог забыть о Мите! А вот тот не забыл и, сам чрезмерно страдая, думал о нем, спрятал пистолет...
И все же из Москвы Василий Игнатьевич уехал. В тот самый медвежий уголок Ивановской области, где вот уже без малого пятьдесят лет служил лесничим его старинный, еще с войны, товарищ Аркадий Иванович Бояринов. Купил в Новишках крепкий пятистенок, завел огород, курочек и стал сельским жителем. Скажи кому, что генерал-майор, не поверят.
Места эти благословенные он знал давно и очень любил – каждый год ездил сюда к Аркадию то на охоту, то на рыбалку, а то по грибы, по ягоды. Пенсии генеральской, по местным меркам огромной, на скромную здешнюю жизнь хватало с лихвой плюс хозяйство, лесные дары необоримые да река-кормилица. Плохо, конечно, что с началом перестройки заводы и фабрики по всей округе встали, зато красавица Уводь очистилась, наполнилась рыбой.
Маруся не знала, не ведала, что может быть такая красота, такой простор, неоглядные дали. Вся ее прежняя жизнь, все беды-несчастья, пыльная сумасшедшая Москва – все куда-то отступило, исчезло, будто и вовсе не бывало или привиделось в душном кошмарном сне, растаявшем бесследно прозрачным весенним утром.
А здесь орали петухи, гомонили птицы, с утробным мычанием неторопливо шествовало стадо, оставляя за собой терпкий навозный дух. Журчал вдоль огородов ручеек, ан нет, и не ручеек вовсе, а, оказывается, речка Бурничка струилась студеной ключевой водицей, купая сочные листья и стебли великого множества трав и растений, названий которых Маруся не знала, перемежаемых голубыми звездочками незабудок и почти смыкающихся над водой. И в густом, духмяном, нагретом солнцем воздухе жужжали пчелы, звенели комары и бесшумно порхали разноцветные бабочки.
За ручьем на горке среди берез и сосен стояли ладные рубленые баньки, а за ними начинался лес, сначала светлый, веселый, разрываемый полями и дальними деревнями, а потом все более мрачный, дикий, нехоженый, неезженый, до самого Суздаля.
Приходила из соседнего Фердичакова Галинка – старшая дочь Аркадия, крепкая шестидесятилетняя женщина, приносила молоко, творог, сметану, учила Марусю кормить кур.
– Лю-лю-лю, лю-лю-лю! – кричала тонким голосом, и куры, заполошно кудахтая, неслись со всех сторон, хлопая крыльями.
Все здесь било через край, достигая превосходной степени: оглушительные лягушачьи концерты, сиреневые благоуханные кущи, полянки, красные от земляники, необозримые заросли черники с мириадами матовых сизых ягод, которые не опадали до сентября, наливаясь теплой сладкой спелостью. Ну а уж грибы – это была отдельная песня!
В путешествиях по округе Марусю сопровождали два верных товарища: хозяйский спаниель Челкаш и семилетний Галинкин внук Юрка – удивительный человечек, настоящий кладезь лесных секретов.
– Откуда ты все это знаешь? – удивлялась Маруся.
– Это всем известно! – в свою очередь, удивлялся Юрка и добавлял с угадываемым презрением: – Просто вы городская...
(То есть ущербная и к жизни не приспособленная.)
Василий Игнатьевич тоже любил бродить по лесу: дважды в неделю уходил с ружьем и большим туго набитым рюкзаком. Марусю с собой не звал, а она и не просилась – чувствовала, что ему это не нужно.
Гостью свою Василий Игнатьевич представил внучатой племянницей. Впрочем, их родственными отношениями никто особо не интересовался, в душу не лез – старого генерала в округе уважали и гордились таким соседством.
Вопрос с работой тоже был улажен. В местной школе, расположенной в шести километрах от Новишек, в большом селе Вознесенье, учителей хронически не хватало, так что оставалось только дождаться сентября.
По утрам Маруся ходила на ключик, брала воду для травяного чая. Ах, что это была за вода! Хрустальная, студеная до ломоты в зубах, а вкуснющая – всё бы пил!
Потом собирала в корзинку листочки черной смородины, малины, земляники, веточки мяты, мелиссы, черники и брусники и заваривала их в большом китайском термосе. К полднику душистый настой становился нежно-зеленым, к вечеру кирпичным, как настоящий чай, а утром бордово-красным, терпким. Маруся сливала остатки чая в кувшинчик и заваривала новый.
По дороге с ключика встречала стадо, отходила в сторонку – боялась. Коровы были черно-белые, одинаковые, будто сестренки, смотрели влажными печальными глазами, меланхолично жевали.
Пастухи, Монин и Перфилыч, крыли их семиэтажно, оглушительно щелкая кнутами. Монин когда-то давно служил милиционером, и былая значимость бросала героический отблеск на его нынешнее, так ему казалось, ничтожество. Он был надменен и обидчив. А Перфилыч, доброжелательный и беззубый, как в прямом, так и в переносном смысле, всю жизнь трудился скотником и прекрасно себя чувствовал в этом качестве.
Машино знакомство с ними началось с конфуза, над которым потом потешалась вся округа.
Восхищенно глядя на гигантскую черную «корову», тяжело шагавшую среди казавшихся мелкими на ее фоне пестрых буренок, она сказала:
– Такая огромная, а вымя недоразвито. – И блеснула глубокими познаниями в животноводстве: – Мясная порода?
Перфилыч беззвучно затрясся, прикрывая ладонью беззубый рот. Зато Монин оторвался по полной программе: заржал как сивый мерин, хлопая себя по ляжкам, задыхаясь и захлебываясь словами, из которых Маруся узнала, что поразившая ее воображение черная корова – это племенной бык Черномор, а недоразвитое вымя соответственно... Ну, в общем, понятное дело.
Вообще в первое время Маруся неплохо поработала на имидж деревенской дурочки. Сначала ее буквально пригвоздил к перегородке фермы молодой бычок, зажевав подол сарафана, пока она чесала ему теплый велюровый лоб. И доярки долго покатывались со смеху, прежде чем освободили ее из плена. Потом старый коняка Матрос наступил ей на ногу, когда она кормила его хлебом. Месяц хромала! И наконец, Маруся провалилась в старый погреб, собирая малину в заброшенном саду у развалившегося дома в конце деревни. На ее истошные вопли прибежала Татьяна Рябикова по кличке Барбоска, вытащила перепачканную страдалицу и понеслась звонить по всей деревне да по соседнему Сельцу – веселить народ.
Но Маруся была девушка простая – смеялась вместе со всеми. Тем более что народ здесь жил незлобивый, очень даже неплохой народ.
А как хороши были долгие летние вечера! Когда засыпал в листве ветер, умолкали птицы, и деревенька, и так-то немноголюдная, словно вымирала.
Маруся звала Челкаша и отправлялась гулять в поля за околицу. Пес носился кругами, расходуя накопленную за день энергию, а она брела нога за ногу неоглядным затерянным миром, залитым желтым закатным солнцем, и думала-мечтала. И мысли приходили легкие, светлые, и не помнилось зла.
На обочине проторенной между полями дороги, там, где выбивалась ключиками из-под земли речка Бурничка, лежал огромный жемчужно-серый валун. Маруся садилась на его гладкую, нагретую за день поверхность, отдыхала. А то и пела! Кто ж здесь услышит, кроме Челкаша? Тот садился на задние лапы, склонял набок голову и, приподняв одно ухо, строил такую потрясенную морду, что Маруся сконфуженно замолкала – петь она не умела.
Камней здесь было великое множество: от мелкой разноцветной гальки на дне Бурнички до таких вот неподъемных сказочных великанов. И в душе у Маруси рождалось странное благоговение перед этими таинственными, как ей казалось, творениями природы.
– Смотри, Юрка, какой красавец! – восхищалась она. – Я таких никогда не видела! Зеленый камень! Может, это малахит? А этот-то! Розовый! А вот, смотри-ка, бордовый! Откуда они здесь в таком количестве?
– Из земли растут, – авторитетно пояснял Юрка.
– Ну уж, ты скажешь! – не верила Маруся.
– А чё тут странного? Не с неба же падают! Вон мы огород копаем весной и осенью и каждый раз по ведру камней собираем. А откудова им еще взяться, если здесь все копано-перекопано? Ясное дело, из земли растут.
– Ну хорошо, допустим. А вот эти-то, огромные, поди с ледникового периода здесь лежат?
– Эти давно лежат, – соглашался Юрка. – Потому что их с места не стронешь. Только если трактором попробовать. А которые вокруг полей валялись, те дачники по своим участкам растащили. Разве ж это умно?
– Это красиво, Юрка. Давай и мы с тобой натаскаем и альпийскую горку сделаем или, например, сад камней.
– Охота была камни таскать! Они же тяжелые.
– А мы на тележке.
– Баловство это, Марь Сергевна, – охлаждал ее энтузиазм Юрка. – Вы бы лучше топинамбур посадили. Я вам клубеньков принесу...
Еще Марусю восхищали поэтические названия здешних деревень: Синяя осока, Золотниковская пустынь, Лебяжий луг. И заповедных местечек в окрестностях Новишек – Сказочная поляна, Заячья горка, Редкие березы...
Были здесь и свои Кресты. Это уже в Большом лесу. Сходились вместе четыре дороги, неведомо когда проложенные, невесть куда ведущие, и уж сколько лет никто ими не пользовался, а не зарастали. Разве не странно?
Рассказывал Юрка, что черники там видимо-невидимо, а лисичек – ногу некуда поставить. Но зачем же так далеко ходить, если и в своем лесу необоримо?
И все же к Крестам они пошли, когда, по расчетам Юрки, зацвели в Большом лесу голубые колокольчики.
– Вы, Марь Сергевна, таких еще не видывали, – сказал он. – А их больше и нет нигде. Кто на те цветы посмотрит, тому большая удача привалит. Только рвать их нельзя: счастье свое упустишь, а до дому все одно не донесешь – завянут. А охраняет колокольчики сила неведомая, не всякого еще и подпустит...
– Ну, прямо «Аленький цветочек»! – улыбнулась Маруся.
В неведомую силу она не верила, а вот на колокольчики дивные посмотреть хотела. И ранним солнечным утром они тронулись в путь.
От Крестов пошли по левой дороге, уходящей в; глубь Большого леса. Солнце почти не проникало сквозь густой еловый шатер, и воздух тоже был густым, влажным, а по обочинам стояли диковинные бледные грибы с вывернутыми толстыми шляпками.
– Какие странные... – удивилась Маруся.
И голос, будто в вате, утонул в вязкой тишине.
Здесь не пели птицы, не шелестел листвой ветер, и Юрка, не закрывавший обычно рта, шагал рядом молчаливый, серьезный. Сзади понуро плелся Кузя, Юркина дворняга, увязавшийся за ними сегодня вместо Челкаша.
И Маруся совсем уж было решила повернуть обратно, прервать это безрадостное затянувшееся путешествие, как вдруг дорога почти под прямым углом вильнула в сторону и глазам ее открылось фантастическое зрелище: из черной сырой земли среди голых сучковатых стволов в великом множестве росли колокольчики. С высоких изумрудных стеблей изящной дугой свисали крупные пронзительной синевы чашечки цветков. И случайное это драгоценное озерцо в темной оправе дремучего леса будто позванивало тихим лазоревым звоном.
– Господи! – ахнула Маруся. – Откуда здесь это чудо?!
И склонилась – нет, не сорвать! – просто коснуться кончиками пальцев прохладной хрупкой синевы.
– Не трогайте, Марья Сергевна! – вскрикнул Юрка. – Худо будет!..
Маша вздрогнула и резко выпрямилась.
Что-то неуловимо изменилось вокруг. А что именно – не понять: вроде все то, да не то.
Кузя, поджав хвост, неотрывно смотрел в гущу леса и мелко дрожал. Она проследила за его взглядом, ничего не увидела, но знала, ощущала всем своим существом: кто-то глядит на них из глубины холодными яростными глазами.
Ужас зародился где-то внизу живота и медленно пополз вверх, леденя кровь, поднимая волосы, отключая рассудок.
Маленький Юрка испуганно всхлипнул и опрометью бросился бежать. Кузя рванул следом. И Маруся, охваченная паническим, первобытным, слепым страхом, кинулась прочь от этого места, ничего не видя вокруг, не замечая, что давно потеряла из виду и Юрку, и Кузю, и мчалась сквозь дикий дремучий лес, не разбирая дороги.
8
Марусина мама была заядлая лыжница. Муж с дочерью ее увлечения не разделяли. И она, возвращаясь из своих лесных походов, веселая, румяная и голодная, неизменно говорила:
– Глупые вы люди! Лишаете себя такого несказанного удовольствия!
Маруся грела обед, и мама, с аппетитом набрасываясь на еду, рассказывала:
– Ах, Манюня! Какая же в лесу красота! Дух захватывает! А я лечу и думаю: «Вот сейчас вынесут меня лыжи на полянку, а там терем стоит высокий. Захожу я в горницу – на столе блины горячие, самовар жаром пышет...»
– И кто же в этом тереме живет? – лукаво интересовалась Маруся. – Двенадцать витязей прекрасных?
– Зачем же двенадцать? – удивлялась мама. – Мне и одного хватит...
Это уж потом Маша проводила различные аналогии. А пока она брела по лесу в полном отчаянии, потому что понимала, что безнадежно заблудилась. Пыталась унять панику, сориентироваться по солнцу. Уговаривала себя, что ее ведь будут искать и обязательно найдут, что нельзя же умереть с голоду в лесу, полном ягод и орехов, но получалось плохо...
Впереди между деревьями показался просвет. Она развела еловые лапы и вышла на опушку.
На берегу небольшого заросшего озерца стояла избушка.
– Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом, – не веря в свое счастье, прошептала Маруся, не испытывая даже тени тревоги, ибо все здесь было пронизано светом, все дышало, пело, ласкало взор и слух: смолисто пахли нагретые солнцем сосны, манил дурманным духом наметанный возле плетня стожок, перекликались лесные пичуги, белые барашки облаков плыли по небу, и оно отражалось прохладной синью в спокойной глади озерца, так похожего на колокольчиковый дивный островок в черном лесу. И будто даже плыл над ним тот самый тихий лазоревый звон. Вот только...
Она резко обернулась. На нее пристально смотрел огромный дымчатый мастифф.
– 3-здравствуйте, – вежливо сказала Маруся, попятилась и плюхнулась к подножию стожка.
Мастифф не ответил, лег в кружевной березовой тени, положил голову на мощные лапы, не спуская глаз с непрошеной гостьи.
И Маруся, смирившись с обстоятельствами, утомленная обилием потрясений, свалившихся на нее в злосчастный этот день, устроилась поудобнее на благоуханном своем вынужденном ложе и, поморгав немного на лениво плывущие облачка, уснула.
Она не слышала, как на поляне появился хозяин дома. Тихо свистнул собаке, положил в тень садок с рыбой, подошел к стожку – взглянуть на пленницу: фирменные кроссовки, голубые легкие джинсы, короткая маечка – особа явно не местная, то есть совершенно очевидно, что не местная! Он усмехнулся, узнавая, удивленно качнул головой.
Незваная гостья раскраснелась-зарумянилась в жарком душистом стожке. Русые волосы спутанным ореолом обрамляли безмятежное во сне лицо. Легкий ветерок раскачал сухую травинку, щекотнул ноздри. Маруся сморщила нос, чихнула и открыла глаза.
Перед ней стоял мужчина в высоких болотных сапогах-комбинезоне и синей клетчатой рубахе с закатанными рукавами. Серые глаза из-под козырька спортивного кепи смотрели внимательно.
Он протянул руку, и Маруся, сжав сухую твердую ладонь, выбралась из стожка.
– Здравствуйте, – сказала она. – Меня зовут Маша. Я живу в Новишках... в Новоюрово. Вот... пошла в лес и заблудилась...
– Так это вы приехали к Василию Игнатьевичу? – догадался мужчина и тоже представился: – Дмитрий.
– Вы его знаете? – обрадовалась Маруся. – Вы мне не покажете, как отсюда выбраться? А то он будет волноваться, а ему нельзя – у него сердце больное. Юрка-то, наверное, уже вернулся, он здесь все тропинки знает.
– Конечно, – склонил голову Дмитрий, – я вас провожу. Только накормлю сначала. Долго вы по лесу блуждали? И как получилось, что Юрка вас бросил?
При упоминании о еде в желудке у Маши предательски заурчало.
– Ну, вот вам и ответ, – смущенно улыбнулась она. – Но я не могу терять время...
– Ничего, времени это много не займет, а подкрепиться надо – путь предстоит неблизкий, уж очень далеко вы забрались...
Он жестом пригласил ее следовать за собой, но направился не к избушке, а к большому добротному навесу в глубине двора под корявой раскидистой сосной. Быстро разжег буржуйку, разогрел сковородку, вскрыл банку тушенки, залил яйцами.
Никогда в жизни Маруся не ела так вкусно. Все пело и ликовало у нее внутри, встречая каждый кусочек. Наконец она тщательно вытерла тарелку корочкой хлеба, отправила ее в рот и удовлетворенно откинулась на лавке.
Дмитрий, сидя над своей почти не тронутой тарелкой, смотрел на нее смеющимися глазами.
– Ой! – сказала Маруся. – Что-то я проголодалась, как волчиха...
– Вот и отлично, – улыбнулся хозяин, подвигая ей стакан. – Пейте чай и пойдем, а то старик действительно будет волноваться.
Он довел ее до Крестов, но дальше не пошел, а она не осмелилась попросить его об этом. Ей показалось, будто он хотел что-то сказать на прощание, и она замедлила шаг и вопросительно взглянула на него, понимая, что ему трудно, конечно же, вот так сразу предлагать неизвестной женщине продолжение знакомства. Наивная дурочка! Хотя у нее-то как раз было такое чувство, словно она знает его уже давным-давно... Но он так ничего и не сказал.
У поворота дороги Маруся оглянулась. Дмитрий стоял, заложив руки за спину, и смотрел ей вслед. Но тут на нее с радостным визгом налетел Челкаш, и когда она снова подняла голову, дорога позади была пуста.
Из-за поворота показался Юрка, а вслед за ним запыхавшийся Василий Игнатьевич:
– Ну, слава Богу, нашлась пропащая! А я уж Юрку изругал всего. Ну как можно было городскую женщину одну в лесу оставить?! Тоже мне, кавалер называется!
– А-а, дедушка! Знаете, как страшно было! Я уж только когда опомнился, заметил, что Марь Сергевна отстала, – виновато оправдывался Юрка. – Уж я ее искал-искал, кричал-кричал, даже к колокольчикам еще раз ходил, не забоялся. Был бы со мной Кузя, мы бы ее точно нашли. Но он первый убежал – вот как страшно было!
– А чего же вы так испугались, бедолаги? Медведь, что ли, к вам вышел?
– Да я и сама не знаю, – задумчиво произнесла Маша. – Кузя хвост поджал, весь дрожит, смотрит в чащу. А лес глухой, черный, и тишина звенящая, и будто смотрит кто-то чужой, недобрый, непонятный. Никогда я такого ужаса не испытывала...
– Скорей всего Кузя почуял дикого зверя, – предположил Василий Игнатьевич. – Вот мне сегодня Монин рассказывал, что утром они, как гнали стадо, кабанов видали. Насчитали тринадцать голов. Пошли, говорит, в сторону Суздаля. А вам не следует больше в такую глушь забираться. И на лося напороться можно, и на волка.
– Ну уж, на волка, – усомнился Юрка.
– А забыл, как в прошлом году у Афанасовых козу задрали? То-то. И на лихого человека можно натолкнуться...
– Кстати! – оживилась Маруся. – У меня для вас привет, знаете, от кого?
– Конечно, знаю! От лесного хозяина, Михайлы Потапыча. Мы с ним завсегда приветами обмениваемся.
И так он при этом посмотрел на Марусю, что та поняла – знает Василий Игнатьевич, о ком пойдет речь, и не хочет, чтобы она это при Юрке рассказывала. И чем больше становилась тайна, тем сильнее разгоралось Машино любопытство.
У околицы их поджидал Кузя. Увидев хозяина, он то вскакивал, то снова садился на задние лапы, повизгивал от возбуждения и так махал хвостом, что казалось, тот сейчас отвалится, перекрутившись у основания, но навстречу броситься не решался – чуял свою вину.
Маруся едва дождалась, когда Юрка распрощается и уйдет в свое Фердичаково. Но и тогда не осмелилась приступить с расспросами, только поглядывала.
Наконец сели пить чай. Василий Игнатьевич электрических самоваров-чайников не признавал. Был у него полуведерный медный красавец по прозванию Ваше Сиятельство, старинной работы тульских мастеров, который он самолично разжигал-раздувал в особых случаях и чай заваривал.
Видимо, сейчас выдался как раз такой случай. Маруся это чувствовала и с удовольствием включилась в священнодействие: постелила на стол чистую белую скатерть, достала из массивного буфета вазочки с медом, с вареньем, с кусковым сахаром, поставила сушки с маком, нарезала душистый белый батон, показала Василию Игнатьевичу хрустальный графинчик с домашней малиновой настойкой – тот одобрительно кивнул.
Когда за стол усаживались, смеркалось – зажгли лампу под низким розовым абажуром, и, принимая из Машиных рук большую синюю чашку, над которой ароматным туманным дымком вился пар, Василий Игнатьевич наконец заговорил:
– Не любитель я врать да сочинять, а посему расскажу тебе правду, а чтоб ты все правильно поняла, начать придется издалека...
Вот так Маша узнала о трагической гибели семьи генерала и о том, что осталась у него на всем белом свете одна родная душа – чудом уцелевший Митя, который его на этом свете удержал и до сих пор держит.
9
Потеряв молодую жену, Митя пытался найти забвение в работе и, заглушая черную тоску, загонял себя до такой степени, что сил хватало только добраться до постели. Помогало это плохо, зато дела быстро пошли в гору.
Вот тогда и появился в штате созданной им инвестиционной компании Гена Карцев – двоюродный брат из Калуги. Звезд с неба не хватал, но как было «не порадеть родному человечку»? И тетка слезно просила, да и кому же еще доверять безоговорочно, если не близкому родственнику?
И Гена, начав с охранника, постепенно поднимался все выше, пока не стал вторым лицом в компании – как говорится, из простых лягушек выбился.
Их общий дед, Дмитрий Михайлович Медведев, родился в 1906 году в семье путевого обходчика. Ему было шестнадцать, когда отцовская лошадь вернулась домой без седока. С тех пор никто больше обходчика не видел. Тот исчез, канул в Лету, растворился в небытии.
В восемнадцать лет дед приехал в Москву, поступил на рабфак, а через три года на юридический факультет Московского университета, но учебу не закончил – в 1929-м его арестовали, обвинив в распространении якобы фальшивого политического завещания В.И. Ленина. Это было знаменитое письмо XII съезду партии.
Почти три года он провел в лагерях Западного Урала, а отмотав срок, узнал, что местом жительства ему определен крохотный городок Каменск-Уральский в Свердловской области, приютившийся в устье речки Каменки, там, где она впадает в Исеть, который и статус города-то получил только в 1935 году. А еще через три года, в тридцать восьмом, врага народа и японского шпиона Михаила Дмитриевича Медведева вторично арестовали и из тюрьмы уже не выпустили – расстреляли.
К тому времени дед успел жениться на Дине Львовне Шестопаловой, тоже бывшей зечке, бывшей москвичке и бывшей же учительнице истории, неправильно и вредно трактовавшей генеральную линию партии большевиков. Теперь у них была совсем другая жизнь и совсем другая история, в которой не хватило места воспоминаниям – слишком больно.
Бабушка Дина осталась одна с двумя детьми: годовалым Мишенькой – будущим Митиным папой, и Сонечкой, зачатой в ночь перед арестом. Но дед этого уже не узнал.
Жили трудно, бедно – как все. Дина работала учетчицей на алюминиевом заводе – в школу путь был заказан, вечерами занималась с Мишей и Сонечкой, благо телевизоров тогда еще не было.
Перед самой войной барак, где они жили, сгорел. Но большое несчастье обернулось неожиданным благом – десятиметровой комнатой в коммунальной квартире на втором этаже двухэтажного деревянного дома.
Соседкой оказалась молодая одинокая женщина Паня, повариха из заводской столовой. Паню послал им Бог: кроме доброго сердца, легкого нрава и жизнеобеспечивающей профессии, она имела еще дом в деревне и какое-никакое хозяйство, которое тянула старушка мать, – огородик, пяток кур-несушек и картофельная делянка. В мае все вместе копали огород, в сентябре картошку. Жили одной семьей, потому, наверное, и выжили.
Вставала Паня в пять, бежала на работу, зато и заканчивала рано, брала Мишу с Сонечкой сначала из сада, потом из школы, кормила, гуляла, следила, чтоб делали уроки. Вот тут-то и выяснилось, что сама Паня абсолютно безграмотна. Так что, к радости ребятишек, учились они сообща, причем труднее всех приходилось именно Пане.
– Ну, читай, Паня! Смотри, как просто: «к» да «о» – «ко», «з» да «а» – «за». А что вместе получается?
– «К» да «о» – «ко», – послушно повторяла Паня, – «з» да «а» – «за».
– Ну а вместе? – торопила Сонечка.
– Козлуха! – догадалась сообразительная Паня. Так и приклеилось к ней это прозвище – Козлуха.
В 1959-м Сонечка вышла замуж и уехала в Калугу. А Миша окончил Политехнический институт в Свердловске и вернулся в Каменск-Уральский с молодой женой Настей. Через год умерла Дина и родился Митенька – продолжил ее на этой земле.
А еще через четыре года отца перевели в Москву, и остались у Мити от маленького уральского городка самые первые детские воспоминания, пачка черно-белых любительских фотографий и семейные предания и легенды.
Он помнил огромного черного кота с белой грудкой. Когда все засыпали, кот прыгал к нему в кроватку, обнимал тяжелой бархатной лапой, теплый, мягкий, и пел на ухо колыбельные, сонные песни. Кот был знаменит еще и тем, что писал в чужие шляпы, которые гости опрометчиво оставляли в прихожей или на кухне.
Когда они уезжали в Москву и грузчики выносили мебель, последним остался мамин туалетный столик с наполовину выдвинутым верхним ящиком. Кот заметался и втиснулся, забился в этот ящик – испугался, что оставят в опустевшей вдруг комнате, не возьмут с собой, забудут в неожиданно рухнувшем мире.