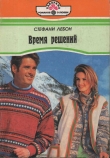Текст книги "Для подростков или Вся правда о наркотиках"
Автор книги: Инесса Ципоркина
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Оберегайте и защищайте свою личность. А для этого постарайтесь поверить в то, что она существует, и в то, что она вправе реализовать себя. Повторяем: себя, а не фантастический персонаж, позаимствованный из современного мифа – из социального стереотипа. И для начала попробуйте избавиться от стыда и вины, рождающих баррикады, стены, цитадели лжи.
Глава 3. Анонимных алкоголиков не бывает
Сначала вы требуете выпивку, потом выпивка требует выпивки, потом выпивка требует вас.
Синклер Льюис
Ложные доказательства истины
Начнем эту главу с ряда вопросов, имеющих косвенное отношение к психологической зависимости как таковой, а именно: умеем ли мы запрещать? Знаем ли мы, как действует разноголосица, звучащая в сознании каждого человека, когда чувства и разум твердят разные, а то и диаметрально противоположные вещи? Можем ли мы повлиять на нее таким образом, чтобы мозг – наш или чей-нибудь еще – принял верное решение? Скорее нет, чем да. В принципе, нам известен только один подход: чем страшнее обещанное наказание, тем меньше притяжение запретного плода. И это несмотря на все контраргументы искусства, в котором огромное количество сюжетов построено на обратном: вероятность ужасной кары порождает любопытство, азарт и искушение. А чем сильнее искушение, тем вероятнее падение. Значит, пока мы старательно апеллируем к рациональному восприятию, оно все слабее и слабее противостоит иррациональному чувству и ничем не оправданной вере «во все хорошее». Или, по крайней мере, в то, что «все обойдется».
Но можно ли заставить верить во что приказано? Напугать-то можно. Можно заставить. Можно достать. Но желание такими способами не искоренишь, и оно вырвется наружу из-под запретов, а потом натворит неописуемых бед. Или еще того лучше: так и останется в подавленном состоянии, пожирая личность изнутри.
Единственным средством избежать прессинга является формирование внутреннего оправдания. Сейчас мы объясним, что это такое и как его достичь.
Внешнее оправдание складывается при наличии достаточного внешнего стимула, положительного или отрицательного. Например, если человеку заплатили кругленькую сумму за то, чтобы он снялся в рекламе несимпатичного ему продукта, каких-нибудь консервированных жареных кузнечиков в собственном соку. И это вполне достаточное внешнее оправдание или, соответственно, положительный стимул. А вот если бы его стали шантажировать ошибками молодости, заставляя лопать в кадре кузнечиков прямо из банки, это был бы серьезный отрицательный стимул. Выполняя требование, предъявленное вкупе с основательным стимулом, личность не нуждается ни в каких внутренних оправданиях. И, естественно, не станет себя убеждать в том, что этот продукт, по большому счету, вкусный, пикантный и некалорийный. А если сумма недостаточная? Или ошибки молодости не так уж страшны, чтобы бояться разоблачения? Одно из двух – либо человек отказывается от выполнения требований, либо соглашается и начинает искать внутреннее оправдание своего согласия. Со стороны кажется, что он, вероятнее всего, откажется. Но на самом деле многие соглашаются на неприятные заказы и принимаются искать резоны для оправдания своего выбора. То есть стараются думать об этом мерзком месиве, отдающем прогорклыми орехами, как о покойнике, – либо хорошо, либо ничего.
Техники самоубеждения складываются еще в детстве. Психологи Э. Аронсон и Дж. Меррил Карлсмит провели эксперимент в детском саду Гарвардского университета. Сначала они попросили пятилетних детей оценить привлекательность нескольких игрушек. Затем выбрали одну, которую дети сочли весьма привлекательной и запретили с ней играть. Половине детей за нарушение запрета угрожали мягким наказанием: «Я немного рассержусь», а другой половине – суровым наказанием: «Я очень сильно рассержусь и заберу все игрушки, уйду домой и никогда больше не вернусь; я буду думать, что ты маленький неслух». После этого экспериментаторы уходили из комнаты, позволив детям играть в другие игрушки, но потребовав, чтобы никто не трогал запрещенную игрушку. Все дети последовали их требованию.
Вернувшись в комнату, психологи снова попросили детей оценить привлекательность всех игрушек. Результаты оказались поразительными: дети, подвергшиеся угрозе мягкого наказания, теперь находили запрещенную игрушку менее привлекательной, чем прежде. Получается, что в отсутствие адекватного внешнего оправдания отказа им удалось убедить себя в том, что они не будут с ней играть потому, что она им не нравится. Однако игрушка не казалась менее привлекательной детям, которым угрожали суровым наказанием. Они продолжали оценивать запрещенную игрушку как даже еще более желанную, чем до запрета. У детей из этой группы имелись вполне достаточные внешние причины для отказа, а потому у них не возникало потребности искать дополнительные обоснования своего поведения; в результате игрушка по-прежнему им нравилась.
Подводя итоги, можно сказать, что угроза сурового наказания оказалась неэффективным средством отучения детей от запрещенного поведения, а вот угроза мягкого наказания оставалась эффективной и спустя два месяца (!) после запрета. Все потому, что игрушка обесценилась в глазах детей из первой группы не в результате прессинга со стороны взрослых – дети сами себя убедили в нежелательности данного пристрастия. Не только в вопросах предпочтения игр и игрушек, но и в вопросах коррекции агрессивного поведения прослеживается та же закономерность: дети, на которых родители сильно давят, запрещая проявления агрессии, склонны воздерживаться от буйства в домашних условиях, но распускаются в школе и вообще за пределами отчего дома[33].
В первых главах уже затрагивалась проблема несогласованности рациональных и иррациональных (или попросту эмоциональных) рекомендаций к действию. Это явление называется когнитивным диссонансом.
Внутреннее оправдание – одно из средств уменьшения когнитивного диссонанса, «вилки» между нашими поступками и нашими убеждениями.
Не менее действенным средством является и отрицание неизбежности. Личность старательно преуменьшает негативный аспект ситуации: если индивиду не разрешают играть любимым плюшевым мишкой или кормят невкусными вареными овощами, причем он знает, что это безобразие – отлучение от мишки и приучение к овощам – будет продолжаться и дальше, то включается психология неизбежности. В сознание внедряется идея о том, что мишка уже старый, а индивид уже большой, чтобы играть в малышовые игры; что овощи не такие уж противные, а также способствуют вырастанию индивида в сильного-пресильного, большого-пребольшого. Но если негативный аспект слишком силен – что-нибудь вроде надвигающейся войны или стихийного бедствия – сознание просто отказывается обдумывать вероятное продолжение событий. Оно как бы отключает эту тему, чтобы не расходовать энергию.
В середине 1980-х годов в Лос-Анжелесе было проведено геологическое исследование, результаты которого показали, что с вероятностью в 90 % в ближайшие 20 лет произойдет как минимум одно сильное землетрясение. А в 1987 году два социальных психолога, работавших в Калифорнийском университете Лос-Анжелеса – Д. Леман и Ш. Тейлор – провели интервью со 120 студентами и выяснили, что те никаких мер по обеспечению безопасности на случай подземных толчков не принимают. Причем студенты, живущие в общежитиях, построенных без учета требований сейсмической безопасности, думали о вероятности землетрясения даже меньше, чем студенты, живущие в более безопасных зданиях. Можно сказать, люди, чья жизнь буквально висела на волоске, потрудились основательнее тех, у кого имелись приличные шансы выжить: психика первых сама себя стабилизировала, попросту отрицая вероятность землетрясения. Хотя в 1994 году землетрясение все-таки произошло, но, к счастью, унесло немного жизней. Между тем геологи продолжают утверждать, что главный катаклизм еще впереди, а жители Лос-Анжелеса старательно им не верят.
Если сознание может отыскать позитивный аспект неприятной ситуации (овощи полезны, поэтому я их ем; я уже большой, поэтому перестал играть в куклы), оно выдвигает эту сторону происходящего на передний план. А если в надвигающихся событиях нет ничего позитивного (нельзя же искать положительные стороны землетрясения и гибели тысяч людей), но избежать катастрофы нельзя, психика использует прием отрицания. Ведь никакие действия по обеспечению мер безопасности, вроде выяснения, где находится запасной выход, а где – огнетушитель, не являются гарантией спасения. И вдобавок в ходе превентивных мер может выясниться, что здание, в котором индивид проживает, рухнет в первую же секунду землетрясения, задолго до того, как его обитатели вспомнят о каких-то там выходах и огнетушителях. Выходит, что все меры безопасности только усиливают когнитивный диссонанс и, соответственно, обостряют чувство тревоги. Неудивительно, что в подобной ситуации люди предпочитают вовсе не верить в возможность катастрофы.
Но не только тревожное чувство заставляет человека поступать иррационально. Вторым таким «иррационализатором» может стать понижение самооценки. Не только серьезная деформация личности, о которой рассказывалась в главе, посвященной стыду и вине, но и кратковременное понижение самооценки у совершенно нормального человека – в результате ссоры с родными или критики со стороны начальства. Психологи Э. Аронсон и Д. Метти в ходе эксперимента доказали это явление: они провели тесты, после окончания которых половине тестируемых сообщили лестную оценку, а половине – отрицательную. После чего вся группа уселась играть в карты. Для каждого игрока была создана возможность плутовать, не боясь разоблачения. И те, кому «экзаменаторы» сказали: «Вы зрелые, интересные и серьезные личности!» оказались гораздо честнее, нежели те, кого огорошили противоположным высказыванием: «По результатам теста вы инфантильный, поверхностный и скучный тип!» – эти-то плутовали вовсю, не стесняясь в средствах. Шулерство неплохо сочеталось с упавшей самооценкой, с Я-концепцией типа «Я – ничтожество, способное на низость». Кстати, контрольная группа, которая тоже прошла тест, но не получила никакой информации, мошенничала средне, без вдохновения. Это что же, достаточно раз услышать: «Вы жалкая, ничтожная личность!» – и вероятность превращения вполне приличного человека в сына лейтенанта Шмидта, обирающего провинциальные исполкомы без соблюдения конвенции, вырастает многократно?
Увы, но человеку только кажется, что он неспособен изменить свои установки, что он верит в то, во что верит и поступает соответственно вере своей неизменной и непоколебимой, аминь.
На самом деле человек способен на удивительную психологическую эквилибристику: он может верить в один принцип, а поступать согласно противоположному; он может верить во взаимоисключающие идеи; он может уничтожить себя, пытаясь уменьшить когнитивный диссонанс.
Как сказал философ-экзистенциалист Альбер Камю: «Люди – существа, которые тратят свою жизнь на то, чтобы убедить себя, будто их существование не абсурдно». Поэтому будем действовать так, как подобает действовать в мире абсурда. Попытаемся исправить ошибки, сделанные теми, кто обращался к рациональной стороне человеческого «Я».
Вот один из примеров такой ошибки: курильщики, напуганные данными о последствиях курения, стараются уменьшить когнитивный диссонанс, называя себя «умеренными курильщиками» (хотя норма в 1–2 пачки в день, согласитесь, никак к этому определению не подходит) или отрицая вероятность возникновения рака легких в результате курения. При этом антиникотиновые кампании по-прежнему ведутся методами ужесточения прессинга: СМИ и популярная литература щедро сыплет названиями заболеваний, спровоцированных курением, обещает всем дымоглотателям геенну огненную и адские муки еще при жизни, пугают некурящих последствиями пассивного курения, а в подтверждение цифры, цифры, цифры… Прямо-таки предсказание личного апокалипсиса, грядущего в течение ближайшей четверти века с вероятностью никак не меньше 90 %. Естественно, многие курильщики ведут себя аналогично жителям Лос-Анжелеса: если это так страшно, я, скорее всего, ничего не смогу изменить, а значит, лучше не верить в нарисованную вами ужасную перспективу. А ну кыш, воронье!
И чего же добились эти воинствующие абстиненты? Только одного: некурящие, кому совершенно не требуется уменьшать когнитивный диссонанс, то есть отрицать опасность курения, становятся все более агрессивными в отношении собратьев, имеющих слабость (а согласно некоторым мнениям, не столько слабость, сколько наглость) потакать своим порокам. Получается, что антиникотиновая кампания не столько помогает бросить тем, кто курит, сколько портит характер тем, кто не курит! Бывает, лица без вредных привычек от большого ума начинают оскорблять обладателей этих самых привычек: вы же убийцы, вы отравляете окружающих ядовитыми испарениями, вы портите генофонд нации, вы развращаете молодежь, вы обогащаете табачные компании – в то время, как стране не хватает денег на социальные программы! А какова реакция? Да все та же: либо мощные стрессогены – стыд и вина, требующие немедленного принятия дозы аддиктивного агента; либо падение самооценки, сопряженное с выходом на первый план далеко не лучших качеств человеческой натуры. И как, господа пропагандисты здорового образа жизни, устраивает вас такой результат?
Аналогичным образом действуют и другие кампании, направленные против вредных привычек.
Люди, которых запугивают и которым в то же время ничего не предлагают, становятся агрессивными или неадекватными. Усиление прессинга только усугубляет воздействие вины и стыда и заставляет рассудок уходить в глухую оборону.
Понять всю необходимость отказа от излюбленной, но вредной привычки, – это полдела. Или даже четверть дела. То есть у сознания всегда найдутся аргументы в пользу здорового образа жизни, зато у подсознания на каждый аргумент сыщется три контраргумента в пользу нездоровых пристрастий. И решающим окажется нехитрый психологический ход вроде «Но это же так приятно!», на которую сознанию и ответить-то нечего.
«Истину нельзя объяснять так, чтобы ее поняли; надо, чтобы в нее поверили», – советовал английский поэт и художник Уильям Блейк. Между тем вере мешает все: и агрессивная манера изложения данных о вреде табака и алкоголя; и обещание скорого мучительного конца, содержащееся в указанных данных; и нелепое предложение категорически отказаться от всех радостей жизни ради продолжительности жизни. А чего ее продолжать, если ни выпить, ни закусить, ни закурить, ни… Кому нужна такая жизнь, да еще долгая-долгая?
Чтобы оправдать свой небезопасный гедонизм, любители табака и алкоголя рассуждают так: если бы курение неизбежно вызывало рак, а бутылка пива в день – алкоголизм, человечество бы состояло из ходячих алко– и онкопатологий. Но ведь это не так! И вдобавок каждый из нас может при желании вспомнить какого-нибудь двоюродного дедушку (вариант: троюродную бабушку), всю жизнь дымящего, словно паровоз, лихо опрокидывающего стопку за стопкой, тонкого ценителя горилки и самогонки, все еще бодрого мышиного жеребчика (вариант: старую эротоманку) лет этак девяноста… семи. Значит, все врут трезвенники-абстиненты. Денежку себе выбивают на расширение социальных программ. Или пытаются наполнить высшим смыслом свою безрадостную жизнь. Типичное заклинание, успокаивающее злых духов-стрессогенов: уйди, проклятый дискомфорт, за темные леса, за высокие горы, за подсознательные запоры…
Этот эффект определен психологией неизбежности. Если я не в силах отказаться от этой отравы, меня убивающей, я могу не думать о последствиях. И веселиться, пока живой. Как писал Джордж Бернард Шоу, тяжело страдавший от того, что его отец был алкоголиком: «Если вы не можете избавиться от фамильного скелета в шкафу, постарайтесь заставить его танцевать». Ну, а если скелет станцует сам, по доброй воле? Тогда придется обратить на него внимание и рассмотреть хорошенько, не страшась и не зажмуривая глаза.
Итак, перед нами задача: преодолеть побочные эффекты жесткого запрета – психологическую защиту в форме отказа и рационализации, уменьшить влияние психологии неизбежности.
То есть заставить скелет станцевать и разглядеть его во всей красе. Если человек не хочет осознавать реальность вреда, нанесенного организму алкоголизмом, наркоманией, курением, необходимо заставить его поверить в то, что эти пристрастия вредны: разрушить блокаду защиты и превратить ее в опыт. Но как?
В первую очередь, надо перейти со стороны психологической блокады на сторону рационального осознания. Преувеличивая опасность, мы сами толкаем человека (особенно молодого и импульсивного) в водоворот стыда и вины. Что с ним будет дальше, описано в предыдущей главе. Последствия возникновения спирали стыда могут оказаться самыми тяжелыми. Зато ужасающая перспектива употребления спиртных напитков… не столь неизбежна. Нет, мы не пытаемся реабилитировать пьянство. Мы пытаемся посмотреть в лицо реальности и честно ответить на вопрос: алкоголь – причина алкоголизма или только средство? В последнее время между спиртными напитками и аддиктивными расстройствами часто ставится знак равенства. Притом, что все знают: это всего лишь пропагандистский прием. Но многие из нас устали от пропаганды так же, как от рекламы. Откажемся на время от реклам и агиток и попытаемся быть объективными. Ну хотя бы адекватными.
Теперь подумайте сами: много вы знаете людей, вовсе не употребляющих? Таких, которые никогда, ни при каких обстоятельствах, ни грамма, нигде и ни с кем? И как они, симпатичные? Позвольте предположить, что не очень. Пусть эта антипатия процентов на пятьдесят состоит из предубеждения против жестоких трезвенников, она дает хорошие основания для того, чтобы свести общение к минимуму. Ведь с предметом нашего обсуждения, с алкоголем (как, впрочем, и с перееданием) в России (да и не только в России) связано множество традиционных и широко доступных радостей. Празднества никогда не обходятся без еды и выпивки, общественные и личные контакты налаживаются за едой и выпивкой, присоединение к любой социальной группе проходит под еду и выпивку, соединение и расставание близких людей отмечается едой и выпивкой.
Представьте себе человека, «всухую» сидящего на вечеринке и скучно потягивающего минералку, пока окружающие радостно хлещут пиво, вино, водку – ведь этот «каменный гость» портит своим воздержанием все удовольствие! Сотрапезники сидят и думают: вот мы сейчас согреемся, расслабимся, комплименты начнем говорить или анекдоты рассказывать… специфические, а там, глядишь, плясать пойдем и песни петь – такие народные, народней некуда. А он, гад, тем временем будет наблюдать, запоминать, усмехаться про себя. А может, и не только про себя. Не, нам свидетели нашей расслабухи не нужны. Нам нужны соучастники и собутыльники. Так что ну его с его аскетизмом. Пусть дома сидит, под минералку вегетарианствует.
С одной стороны, людей, собравшихся именно для того, чтобы оторваться по полной программе, можно понять – фигура «аскета» служит им ненужным напоминанием о здоровом образе жизни, связанном с ограничениями в еде и питье. Такой вот «живой укор» в разгар пиршества выглядит в два раза более укоризненным и в два раза менее живым. Мигом настроение понижается. Вроде как на пиру во время чумы встречаешь могильщика с телегой, полной мертвых тел, – и все, «страх живет в душе, страстьми томимой»[34]. Может, кто и выскажется в романтическом духе: мол,
«все, что гибелью грозит
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог»[35],
но и он не встанет из-за стола и не побежит следом за тележкой с покойниками, наслаждаясь неизъяснимо. Поэтому большинство людей предпочитает пировать с комфортом, без аскетических укоров и неаппетитного присутствия каменных гостей и мертвых тел.
С другой стороны, неужели алкоголь – это чистый яд? Выходит, человечество изобрело горячительные напитки в каком-то суицидальном помрачении? Конечно, подделки ядовиты, а спиртосодержащие средства для чистки стекол или авиационное топливо, принятые внутрь, – это вообще смерть в жидком виде, но как быть с нормальным, качественным продуктом? Разве не встречаем мы периодически робкие упоминания о том, что хорошее виноградное вино в умеренных дозах даже полезно? Что оно смывает холестериновые бляшки со стенок сосудов? Что спиртное – лучший антидепрессант, чем все медикаментозные средства, изобретенные за последнее столетие? Что…
Впрочем, нельзя об этом так, вскользь. Надо поподробнее. Итак, уважаемая публика, перед вами хит сезона! Лекция о пользе алкоголя!
Алкоголь с человеческим лицом
Для начала придется сообщить уважаемой публике парадоксальную информацию. Оказывается, существует… два алкоголя. Один нам хорошо знаком – это алкоголь в больших дозах, оказывающий на организм так называемое фармакологическое воздействие. То есть работающий как лекарство. Напомним: лекарство, полезное в случае болезни, может оказаться вредным в случае ее отсутствия. И, соответственно, при передозировке любые лекарственные средства становятся ядом. Итак, большие дозы алкоголя вредны тем, кому они не полезны. Позднее мы раскроем содержание этого удивительного сообщения. А сейчас поговорим об алкоголе, с которым народ русский почти не знаком. Это алкоголь, содержащийся в напитках хорошего качества, принимаемый в малых дозах.
Первый вопрос, мы предвидим, будет: что это за малые дозы такие? Честно говоря, единого ответа не существует: уж очень велика разница между индивидуальными параметрами потребителей алкоголя. Но если взять некую условную среднюю норму, то это будет от 10 до 60 грамм чистого алкоголя в день для мужчин и от 5 до 40 грамм – для женщин. В пересчете на алкогольные напитки 10 граммам алкоголя соответствует примерно 100 мл вина, 200 мл пива и 25 мл водки, виски или коньяка. Вот и считайте. Получается, что человек, выпивающий литр пива, или бутылку вина, или, как говорил товарищ Дынин, «что ни день – сто грамм, а то и сто пятьдесят!»[36], может… не быть алкоголиком и даже не продвигаться легкою стопою прямиком к пьянству и потере образа человеческого.
Исследователи на западе пользуются куда более широкой шкалой определений, нежели наша отечественная «двоичная система» – есть алкоголики и трезвенники.
Там, у них, на западе существует целый ряд терминов, обозначающих степень потребления алкоголя: слегка пьющий, умеренно пьющий, пьющий в компании, излишне пьющий, много пьющий, злоупотребляющий алкоголем и, наконец, алкоголик, он же зависимый от алкоголя.
При одинаковых материальных и психологических условиях разные люди имеют разную подсознательно установленную планку потребления спиртного. Некоторые врачи даже считают, что личность, воспитанная родителями-неаддиктами, осознает свою «алкогольную норму» в возрасте до 30 лет и уже не переступает этой черты. При одном условии: если в жизни личности не происходит событий, сильно травмирующих психику. После психологической травмы, а также после резкой смены окружения и обстановки потребление алкоголя может существенно возрасти.
Значит, не существует никакой «эскалации доз», когда человек начинает с малого и планомерно идет к алкогольной зависимости, все увеличивая и увеличивая количество выпитого? Можно сказать, что так. Более того, алкоголики и люди, злоупотребляющие алкоголем (иными словами, пьющие изрядно), принципиально различаются между собой.
У алкоголика зависимость есть, а у злоупотребляющего неалкоголика ее нет. И следовательно, он способен снизить потребление до безвредных, контролируемых пределов.
Хотя неспециалист может не заметить никакой разницы между этими двумя. Он просто реагирует на «показания дозиметра»: мой Вася принял поллитра и сосед столько же. Мой Вася, скотина, напился «и качался, как спелая рожь», а потом и вовсе лег под стол, откуда жалобно просил спеть ему колыбельную или что-нибудь душевное из советской классики. Зато сосед ушел на своих двоих и даже самостоятельно надел ботинки. Правда, не свои, а Васины. Кто из них лучше, а кто хуже? Как говорится, оба хуже. Супруга Васи-меломана не рассматривает подноготную Васиного пьянства, ей не до того. Она лишь отмечает, сколько он пьет, с какой частотой, какие суммы пропивает, как ведет себя в пьяном виде… Бытовые подробности, с которыми она сталкивается постоянно, кажутся важнее глубинных различий.
Тем не менее, именно эти детали физиологических и психологических структур могут подарить или отнять надежду на излечение. Еще недавно считалось, что алкоголиком можно стать. Но выяснилось, что это неверная теория. Алкоголиком можно только родиться. Еще не установлены биохимические механизмы, лежащие в основе алкоголизма, хотя многочисленные исследования подтверждают: алкоголизм обусловлен изменениями в ряде генов, кодирующих белки, которые, в свою очередь, принимают непосредственное участие в биохимических реакциях нейронов мозга. В результате этой мутации меняется активность ферментов, а вместе с ферментами – и нейротрансмиттерных, сигнальных систем мозга.
В первой книге мы писали об этих системах, но сейчас все-таки напомним, что они собой представляют. Благодаря указанным системам происходит передача информации. Чувствительные клетки мозга – нейроны – передают нервный импульс друг другу. Между нейронами находятся микроскопические щели – синапсы. Когда импульс доходит до окончания нейрона, в синаптическую щель высвобождают свое содержимое передатчики информации – нейротрансмиттеры, они же нейромедиаторы. Попавшее в щель вещество раздражает принимающий участок следующего нейрона – и так далее. Сигнал идет по цепочке, возбуждая все новые клетки. Но если принимающая клетка мертва или заторможена, она не реагирует и сигнал затухает. Про нейротрансмиттеры вы наверняка слышали: лучше всего изучены серотонин, норадреналин, допамин, а также относительно недавно открытая гамма-аминомасляная кислота (ГАМК).
Люди, чей организм в силу генетических причин не может самостоятельно обеспечить своевременное возбуждение и затухание сигнала в клетках мозга, могут испытывать трудности с получением информации. Следовательно, они эмоционально обеднены и для полноценной, яркой жизни им требуется дополнительный переносчик информации и энергии. На эту роль вполне годится этанол, он же алкоголь. Потребность в «помощнике для нейронов мозга» может быть такой высокой, что приводит к зависимости. Но! Генетический материал не гарантирует возникновения зависимости. Даже среди монозиготных близнецов[37], чьи родители страдали алкоголизмом, встречаются неалкоголики.
Из одинакового генетического материала может выйти и алкоголик, и личность, свободная от психологической зависимости.
Следовательно, на человеческое мышление и поведение влияет не только генотип, но и условия жизни, и внешние факторы. Именно они модулируют алкогольную зависимость из склонности к повышенному потреблению алкоголя. С одной стороны, при благоприятных условиях – при отсутствии хронического стресса, морального прессинга и аддиктивной среды общения – человек обуздал бы свою тягу к спиртному, и аддиктивное расстройство не возникло бы. С другой стороны, если в организме человека отсутствуют необходимые генные изменения, алкоголизм не становится патологическим состоянием психики – даже в неблагоприятной обстановке. Вместо этого появляется привычка злоупотреблять алкоголем и соответствующие паттерны поведения. Но если личность вовремя перехватить и грамотно лечить, псевдо-алкоголизм отступит. Человек, в генотипе которого отсутствует «мусорный ген»[38], даже сможет перейти к умеренному потреблению, в отличие от алкоголика, которому не следует прикасаться к спиртному, а также посещать питейные заведения или пьющие компании – невзирая на обострение физиологической тяги, на растущий дискомфорт, на регулярные депрессии.
Все потому, что только неалкоголик может испытывать нормальную потребность в спиртном. Да-да, есть такая потребность. Причем не патологическая, а совершенно естественная. Дело в том, что алкоголь – не чуждое организму вещество. И наше тело вырабатывает его… совершенно самостоятельно, без какой-либо помощи извне. Собственно, эндогенный (то есть буквально «образующийся внутри») алкоголь и называется этанолом. Было установлено, что в 100 мл плазмы крови человека, воздерживающегося от приема спиртных напитков, содержится в среднем 0,039 мг алкоголя. Впрочем, индивидуальные вариации шире – от полного отсутствия до 0,16 мг. И повторяем: это при полной трезвости поведения! Считается, что эндогенный алкоголь синтезируется при переработке ферментами сахара в нижнем отделе кишечника. Продукт этой переработки всасывается слизистой и поступает в кровь. Но зачем?
Затем, что этанол образуется не только в кишечнике и нужен не только для того, чтобы слизистой было что всасывать. Этанол также образуется в клетках организма, включая нейроны мозга. Он участвует в энергетическом обмене клетки, перенося энергию между митохондриями и цитозолем – двумя клеточными структурами, которые эту энергию вырабатывают. Каждая из них работает по-своему, они разделены мембраной, непосредственного сообщения между структурами нет. Нужен челнок, свободно проходящий через мембрану и координирующий процесс. Этанол – один из таких челноков. Второй челнок – ацетальдегид, в который этанол превращается путем обратимой реакции. Вот они и снуют туда-сюда, превращаясь друг в друга, чтобы передать или забрать энергию. Митохондрии, в отличие от цитозола, могут производить уникальный аккумулятор и переносчик энергии – аденозинтрифосфат (АТФ). По мнению А.Г. Антошечкина, исследователя молекулярной структуры метаболитов[39], внутриклеточное образование этанола является одним из механизмов, регулирующих производство АТФ в митохондриях.
И если «натуральное» производство энергии падает, организм пытается увеличить производство АТФ путем увеличения содержания этанола. Экзогенный (то есть попадающий извне) алкоголь вписывается в нормальный метаболизм, существующий в клетке, и успешно компенсирует потери энергии. К дефициту «жизненной силы» чувствительнее всего клетки центральной нервной системы и ее «руководящего органа» – головного мозга. Разумеется, они восприимчивее всего к этанолу. Хотя само действие алкоголя на мозг – это множество разных процессов, далеко не до конца изученных. Прогнозировать, какой будет реакция организма на прием одной или нескольких рюмок (бутылок) алкогольного напитка, – дело сложное. Если, конечно, вести речь о физиологии, а не о том, кто как себя ведет в подпитии. Вопрос в том, каков уровень восприимчивости организма к алкоголю, какой именно физиологический процесс окажется ведущим и какой дозой ограничится «принимающая сторона». Есть и другие параметры, но эти можно считать главными.