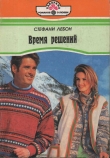Текст книги "Для подростков или Вся правда о наркотиках"
Автор книги: Инесса Ципоркина
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Эта кропотливая «ловля блох» страшно раздражала, отнимала силы и доводила до отупения. Тогда Женя пошел на хитрость, он предложил новую концепцию сайта, как он сам объяснил, «более крутую». С ним согласились, одобрили и… попросили побыстрее закончить, потому что поджимают сроки. И опять Женя остался один на один с рутиной и доводкой. Чтобы себя не мучить, Женя апгрейдил отдельные детали. Начальство выразило Жене свое недовольство: твои идеи прекрасны, но ты занимаешься мелочами, а воз и ныне там. Женя попробовал качать права: «Неужели вас не интересует качество? Ведь все можно сделать еще круче!» Но начальство интересовал готовый продукт к указанному сроку. Муки творчества в расчет не принимались. Женя еще пару недель пробуксовал над сайтом, а потом уволился. Пробовал устроиться в другие места. Но и там рано или поздно наступала та же самая история: в какой-то момент наваливалась рутина, и, что самое ужасное, она и оказывалась главной составляющей процесса. Женя изворачивался как мог, оттягивал время, чтобы только не заниматься унылыми мелочами. А когда разражался скандал, Женя уходил. И потом на его место непременно приходил кто-то другой, еще более суперкреативный, чем Женя, и таки доводил дело до конца. Только уже со своими идеями. Когда Женя об этом узнавал, ему становилось обидно. Выходило, что он проиграл. Но едва возникала мысль, что вот, снова впрягаться в бодягу, становилось тошно и хотелось куда-нибудь сбежать. Только куда?
Ливанский писатель Халиль Джебран сказал: «Желания – половина жизни; безразличие – половина смерти». Притом, что именно неумеренные и неуправляемые желания приводят человека на порог смерти и вежливо приоткрывают дверцу: не желаете ли войти, с хозяином познакомиться? Но общественное мнение, а точнее, стереотипы восприятия упорно рекламируют «половодье чувств»: чем безумнее ваши страсти, тем полноценнее ваша личность! А потому и к страстям (в частности), и к личности (в целом) вечно предъявляются завышенные требования. Они – то есть личность и ее страсти – должны непрерывно дерзать! Приносить ощущение полноты жизни! Делать мир ярким, красочным и великолепным до бесстыдства!
А еще страсти просто обязаны доставлять удовольствие. Благодаря их воздействию на личность индивид должен то и дело убывать в нирвану, иначе его страсти можно отнести к разряду второсортных или вовсе некачественных.
Первоклассные и упоительные страсти индивид может заполучить… где угодно. Современному человеку рекомендуется взращивать страсти на любой почве и получать удовольствие от всего подряд: от работы, от учебы, от секса, от семьи, от общения… Как же иначе? Иначе и жить не стоит! Хотя, честно говоря, такое количество удовлетворения неминуемо приведет к положительному стрессу (в психологии он называется «эустресс»). О том, как стрессы воздействуют на организм, мы уже писали в книге «Психологическая зависимость: как не разориться, покупая счастье». Поверьте, эустресс, хоть и переносится лучше, чем стресс негативный (он же дистресс), может нанести серьезный вред и психике, и соматике[4] человека. Так что к рекомендациям, исходящим главным образом от масс-медиа, следует относиться осторожно. Погоня за тотальным удовлетворением не просто опасна в плане вреда для здоровья – она может обернуться полным провалом и в социальном плане.
Чрезмерная потребность в удовольствии приводит к тому, что психолог Конрад Лоренц назвал «тепловой смертью чувства». В своем исследовании «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества» он пишет о том, как современные технологии поощряют общечеловеческое стремление избегать неудовольствия, а человечество идет навстречу технологиям, попутно обостряя свою чувствительность ко всем ситуациям, вызывающим неудовольствие, и столь же постоянно притупляя чувствительность ко всякому удовольствию. Можно сказать, что возникает такое явление, как толерантность: для наступления желаемого эффекта нужно непрерывно повышать количество стимулятора; а вместе с тем реакция на стимулятор постоянно понижается. Мы неизбежно привыкаем к удовольствию и нам нужно его все больше, чтобы всего-навсего почувствовать себя комфортно.
Но почему такое поведение рассматривается как один из смертных грехов или, по крайней мере, как путь, ведущий к пагубным последствиям? К. Лоренц дает такое объяснение: «Возрастающая нетерпимость к неудовольствию – в сочетании с убыванием притягательной силы удовольствия – ведет к тому, что люди теряют способность вкладывать тяжелый труд в предприятия, сулящие удовольствие лишь через долгое время. Отсюда возникает нетерпеливая потребность в немедленном удовлетворении всех едва зародившихся желаний… преувеличенное стремление любой ценой избежать малейшего неудовольствия неизбежно влечет за собой исчезновение определенных форм удовольствия, в основе которых лежит именно контраст. Как говорится в «Кладоискателе» Гете, «веселым праздникам» должны предшествовать «тяжкие недели»; этой старой мудрости угрожает забвение. И прежде всего болезненное уклонение от неудовольствия уничтожает радость». Психолог Гельмут Шульце, называвший радость «божественной искрой», отмечал, что в теории Фрейда присутствует обозначение наслаждения, но нет понятия радости. Зато это понятие неизбежно возникает там, где речь идет о самореализации личности, а не просто об удовлетворении потребности.
Психолог Абрахам Маслоу назвал радость термином «пик-переживание» – это лучшие моменты человеческой жизни, которые могут длиться несколько минут или несколько часов и характеризуются «чувством открывающихся безграничных горизонтов, ощущением себя одновременно и более могущественным, и более беспомощным, чем когда-либо ранее, чувством экстаза, восторга и трепета, потерей ощущения пространства и времени»; а также «плато-переживания» – более устойчивые и длительные ощущения, во время которых возникает новый, глубокий способ видения и мироощущения, появляются фундаментальные изменения отношения к миру, изменяется точка зрения, создаются новые оценки и усиленное «сознавание» мира. Маслоу видит в таких состояниях возможности для развития индивидуальности, а не просто для приятного времяпрепровождения. В процессе пик-переживания или плато-переживания происходит перестройка индивидуальной системы ценностей: именно в эти моменты личность взрослеет, создавая, помимо стандартных и базовых потребностей, свои собственные стремления и установки. То есть строит свой собственный мир и учится ценить то, что удалось построить.
Препятствия, возникающие на пути к «плато» и «пикам», также создают тот самый контраст, который позволяет оценить степень необходимости поставленной задачи. Благодаря им человек учится производить сознательный отбор целей, обмер ресурсов и отсев капризов. И наконец, он учится переносить периоды рутины, то есть приобретает способность к длительному и добросовестному труду ради лучшей перспективы, а не только ради сиюминутного удовольствия. Между прочим, именно эта способность служит признаком зрелой личности, а вовсе не «буйство глаз», «половодье чувств» и прочие эмоциональные катаклизмы, не тем будь помянуты.
Да, приходится признать: именно рутина, а отнюдь не энтузиазм, сопутствует ощущению жизни как «бесконечного будущего», о котором говорил Шопенгауэр. Это ей мы приносим в жертву большую часть времени, а вовсе не великим делам, которые нас ждут. Ждут-ждут и никак не дождутся. Потому что наше сознание (и подсознание) сильно занято: мы изо всех сил скучаем. А по ходу нарастания скуки постепенно теряя веру в себя, а следовательно, и в свое предназначение. Где уж тут взбираться на какие-то пики? Тут бы в трясине негатива не потонуть.
Притом, что рутина и ее главный эффект – скука – не донимали бы нас с такой страшной силой, если бы мы вовремя сделали некоторые полезные выводы о природе обыденной, неяркой стороны жизни. Скука – практически неотъемлемый «побочный эффект» избытка сил и времени.
Скука логически вытекает из молодости, как результат из уравнения. Надо только правильно подставить данные.
Условия уравнения таковы: мы имеем молодой сильный организм, которого периодически плющит и колбасит от переизбытка гормонов; плюс высокие, если не сказать завышенные требования к себе и к миру; плюс отсутствие не только жизненного опыта, но и умения обрабатывать добытую информацию так, чтобы она превращалась в опыт; плюс неспособность отсрочить получение желаемого; плюс базовая тревога, свойственная всем молодым людям, переживающим стадию взросления и социализации[5]. На самом деле таких переменных гораздо больше, а само уравнение гораздо сложнее, но для иллюстрации вполне достаточно. Теперь вы понимаете, отчего эта реальность совершенно не устраивает большую часть представителей младшего поколения: она невыразимо скучна. А вернее, кажется таковой. Чтобы избавиться от подобного ощущения, человеку необходимо серьезно поработать над собственной личностью. Иначе он никогда не научится управлять своими чувствами, а значит, и своей жизнью.
Так, в детстве, юности и молодости кажется, что удовольствие – проблема наличия объекта, а не субъекта.
То есть проще говоря, дайте мне что-нибудь приятное для моих органов чувств, а уж я-то оттянусь на всю катушку! И даже мысли не возникнет про необходимость развивать и органы чувств, и все свое восприятие, и способность усваивать информацию на все сто процентов, а не на тридцать, как это делает торопливое сознание, не умеющее концентрироваться на задаче… Хотя именно она, эта поспешность, отнимает у человека шанс найти себя и выбрать собственный путь к успеху.
Неистовое желание «жить интересной жизнью» возникает вне зависимости от наличия у человека достаточного опыта, перспектив, возможности и ответственности. Как отмечали психологи Б.М. и М.Б. Левины, «на всех дорогах в мир взрослых – непролазные пробки. Скорость ограничена, обгон запрещен, поворота вправо, поворота влево – нет, подача звуковых сигналов запрещена. А так хочется скорости, движения, удачи, впечатлений! Терпения не хватает – нет пока должной закалки. А нетерпение заставляет искать заменители реального движения». Нетерпение гонит молодежь на поиск эрзаца, который больше походит на кошмарный сон, чем на интересную жизнь. Каких только глупостей не делает незрелая личность в попытках «раскрасить» свое блеклое существование! И самой страшной из содеянных глупостей, как правило, бывает употребление опьяняющих веществ и заработанная в погоне за тотальным удовлетворением психологическая зависимость. А в результате – полные и непреложные кранты всем честолюбивым помыслам и творческим замыслам. Канун да ладан. Вот к чему приводит поспешность в борьбе с нормальной молодежной скукой.
Приходится мириться с тем, что для выполнения списка дел на сегодня (которое, собственно, и есть жизнь в ее среднестатистическом выражении) вовсе не требуется столько энергии, сколько бурлит в молодом организме. И с тем, что повседневная рутина совершенно не похожа на прямой и короткий путь к вершинам успеха. А из этих предпосылок следует вывод: молодые люди во все времена довольно сильно скучают и даже боятся, что придется проскучать всю жизнь. Им кажется, что это очень долго. Об этом состоянии еще Шекспир писал:
«Мы дни за днями шепчем: «Завтра, завтра».
Так тихими шагами жизнь ползет
К последней недописанной странице.
Оказывается, что все «вчера»
Нам сзади освещали путь к могиле»[6].
К сожалению, взрослые в большинстве случаев не понимают шекспировских страстей, терзающих подростковую психику. И нередко вместо оказания помощи старшее поколение начинает давить на младшее, а в качестве аргумента использует сомнительной свежести воспоминания о своей собственной прекрасной юности. Им с расстояния в пятнадцать-двадцать лет кажется, что лично они на той самой заре туманной юности знай себе распевали: «какой прекрасный день, какой прекрасный пень, какой прекрасный я и песенка моя!» Даже если в роли ближайшего пня оказывался преподаватель, начальник, милиционер или просто мужик с пудовыми кулаками. Уж так нам весело жилось!
И пока взрослые вязнут в сиропе воспоминаний, страх перед безрадостно-макбетовским исходом жизни толкает молодежь на необдуманные буйства. Мы предчувствуем читательское недоумение: а что, бывают обдуманные буйства? Конечно, бывают. Человек, знающий, что он может себе позволить и на что у него хватит физических, психических и экономических ресурсов, может и побузить. Как гласит английская пословица: «Бери что хочешь и плати за это».
В отличие от «рационального шалуна», твердо знающего цену всего, что ему захочется взять, младшее поколение ничего ни про какие ресурсы не знает и на ценники не смотрит.
Поэтому у нее нередко возникают странные иллюзии: например, насчет того, сколько стоит человеческая жизнь. А на фундаменте иллюзий возникают странные идеи насчет того, как этим установкам соответствовать.
Страх легионеров
Иногда это похоже на откровения солдата французского Иностранного легиона, который не хуже Рембо пулю из собственного тела зубами вынет, зашьет рану чем бог послал и, пренебрегая правилами гигиены, весь в крови двинет на врага: сплошной спортивно-боевой экстрим, сексуально-эмоциональный экстрим, а заодно и наркотически-алкогольный экстрим.
Стандартный романтический образ, целиком построенный на архетипе героя[7]: гиперсексуален, агрессивен, не брезглив, желудочно-кишечными расстройствами не страдает, без семьи и без определенного места жительства, а потому неуловим, неуязвим и нафиг никому не нужен.
Естественно, бомж по имени Рембо абсолютно бесстрашен. Он не боится никого, зато его боятся все, даже влюбленные в него фигуристые блондинки. Несмотря на то, что упомянутый герой в перерывах между романтическими свиданиями спасает всех своих белокурых возлюбленных от смертельных опасностей, которые, впрочем, сам и накликал. Нормальное поведение. Для архетипа.
К сожалению (или к счастью), люди не настолько одномерны, чтобы индивидуальность (даже весьма неразвитая) могла целиком уместиться в рамках литературного (или кинематографического) персонажа. Поведение, которое так привлекает в персонаже, у реального человека свидетельствует о наличии серьезной психологической проблемы, которую психолог Карен Хорни называла «невротической потребностью». Это иррациональное решение обычного, но оттого не менее важного вопроса: как добиться успеха в жизни? Невротическая потребность предлагает варианты ответа, которые только для архетипов хороши:
1) невротическая потребность в любви и одобрении представляет собой стремление доставлять другим удовольствие и соответствовать их ожиданиям – даже вопреки собственным желаниям; человек живет ради хорошего мнения о нем окружающих и чрезвычайно чувствителен к любому знаку отвержения и недружелюбия;
2) невротическая потребность в «партнере-опекуне» делает человека паразитом, который переоценивает любовь и чрезвычайно боится быть брошенным и остаться в одиночестве;
3) невротическая потребность в узком ограничении жизни выражается в нетребовательности, скромности и незаметности; личность удовлетворяется малым и старается не бросаться в глаза;
4) невротическая потребность в силе формирует стремление к силе ради нее самой, неуважение к другим, огульное восхваление к силе и презрение к слабости; люди, боящиеся проявлять силу открыто, могут пытаться управлять другими посредством интеллектуальной эксплуатации и превосходства; другой вариант этого стремления – потребность в вере во всемогущество воли, благодаря чему появляется убеждение, что усилием воли можно добиться всего;
5) невротическая потребность в эксплуатации других;
6) невротическая потребность в значимости, когда самооценка определяется уровнем публичного признания;
7) невротическая потребность в том, чтобы быть объектом восхищения, заставляет создавать «дутый» образ самого себя: мною должны восхищаться просто потому, что это я, а не в зависимости от моих дел и достижений;
8) невротическая потребность в личных достижениях вызывает стремление быть лучше всех, всех превосходить и достигать все больших вершин – без оглядки на собственные возможности и реальные желания;
9) невротическая потребность в самодостаточности и независимости формируется в результате разочарования в теплых, приносящих удовлетворение отношениях с другими людьми, когда человек старается отдалиться от всех и становится одиночкой;
10) невротическая потребность в совершенстве и безупречности заставляет бояться ошибок и критики, поэтому люди с такой потребностью стремятся быть неуязвимыми и непогрешимыми; они ищут в себе пороки и слабости, чтобы иметь возможность скрыть их до того, как эти болевые точки станут известны окружающим.
Снисходительное отношение к подобным отклонениям (ну, это всего лишь перегибы, ошибки молодости!) тем более широко распространено, чем чаще невротики достигают успеха, ставя свою «гиперпотребность» на службу карьерному росту. Оценивая состояние человека по общественному положению, которое тот занимает, люди нередко забывают о том, что каждая из описываемых гиперпотребностей имеет чудовищную власть над личностью и уже не ведет, а попросту тащит индивида в заданном направлении, портит ему жизнь и характер, огрубляет и оглупляет его натуру, как всякий невроз.
Ошибочное представление как о сущности успеха, так и о дорогах, ведущих к успеху, пронизывает все структуры личности.
Психолог Андраш Ангъял отмечал, что невротика нельзя «представить как гнилую половинку здорового яблока или отдельную опухоль внутри человека, как растение, которое можно вытащить с корнем, не нарушая и не изменяя остальной личности. Невротический человек невротичен во всем, в любой сфере жизни, во всех трещинах и трещинках своего существования». Но в то же время в разумном соотношении и в управляемом варианте все эти потребности помогают личности развиваться, постигать мир и познавать себя. Поэтому искоренять описанные стремления ни в коем случае не требуется. Надо лишь ввести их в адекватные рамки. Не то как раз превратишься в архетип.
Кстати, это не пустая угроза. На жизненном пути мы встречаем множество лиц, коим вполне удалось упростить собственную личность до уровня простейшего психологического конструктора вроде «Лего». Их взоры ясны, принципы неколебимы, установки отчетливы, умы невинны. Мы натыкаемся на очеловеченные архетипы в школах и в институтах, на предприятиях и на отдыхе, в поликлиниках и в магазинах. Потеряв свободу индивидуального выбора, взамен они обретают четкость безличной функции: ведь архетипу предписано действовать определенным образом и иметь определенное отношение к жизни. И никаких «вариаций на тему».
Опять-таки неясно, к сожалению или к счастью, но личности мало быть функцией. Она (личность) от существования в рамках функции болеет и даже может с ума сойти. Поэтому не следует попадаться на крючок общественно одобряемых образцов, всплывающих и в массовой культуре, и в классическом искусстве.
Жизнь, подражающая искусству, ничуть не свободнее жизни, подражающей телевидению.
А чтобы перестать подражать, надо перестать бояться. Конечно, принять себя целиком – не столько удача, сколько работа. Психолог Карл Роджерс отмечал, что люди часто формируют и укрепляют совершенно не соответствующий действительности образ себя – причем отнюдь не всегда это бывает положительный образ! Например, чувствуя себя неудачником, личность исключает из сознания или искажает данные, противоречащие «подретушированному» образу: так, продвижение по службе воспринимается не в качестве заслуженной награды, а в качестве проявления жалости со стороны начальства. И потом, исполняя новую должность, человек намеренно совершает ошибки – все, чтобы доказать миру: не надо меня хвалить и уважать, я недостоин!
Но зачем подтверждать выдуманный статус неудачника? Затем, что он подкрепляет некогда составленный образ собственного «Я». К. Роджерс называл его Я-концепцией. Если в окружении индивида происходят события или появляются люди, демонстрирующие чувства и идеи, «отбракованные» Я-концепцией еще в детстве, индивид начинает нервничать – как ему кажется, без всякого повода. Он будет критиковать чье-то поведение – например, чужую агрессивность и сексуальность – внутренне отрекаясь от собственной агрессивности и сексуальности. Или, наоборот, презирать слабость и мягкосердечие другого человека, надеясь искоренить те же свойстве в себе самом. Так личность защищается от нового опыта: деформируя восприятие, отвлекая сознание, закрывая каналы получения информации. Зачем? Во имя целости и сохранности Я-концепции. Даже если она не соответствует потребностям и сигналам, исходящим от собственного организма личности.
Выход один: сменить реакцию безоговорочного отвержения опыта на реакцию анализа полученных данных. Откуда полученных? Да от тела, откуда же еще. Оно (тело) дает мозгу достаточно информации, просто мозг не дает себе труда расшифровывать. Нормальный человек, в отличие от архетипа или от застывшей Я-концепции, должен постоянно оценивать свои переживания, чтобы увидеть, насколько они требуют изменения ценностных установок. Карл Роджерс писал об этом методе: «По мере того, как индивид все больше воспринимает и принимает в свою Я-структуру свои органические переживания, он обнаруживает, что замещение системы ценностей – во многом основанной на искаженных интроекциях[8] – постоянный процесс».
Чтобы стать на этот путь, первым делом надо научиться не бояться. Не нагнетать в себе чувство безнадежной скуки. Не поддаваться ощущениям беспомощности и бесполезности. Не провоцировать возникновение и развитие невротических потребностей. Не искать обходных и объездных путей для скорейшей самореализации. Не покупаться на приглашения эскапизма[9]. Не гоняться за удовольствиями с опасностью для жизни. Честно говоря, можно продолжать в том же духе долго-долго: не… не… не…
Хотя им, молодым, кого жизнь третирует, от подобных советов проку никакого. Притом, что жизнь, со свойственным ей равнодушием, третирует всех – и пугливых, и храбрых, и чувствительных, и твердолобых. Буквально с детских лет. Эрих Фромм писал: «Человек есть осознающая себя жизнь, он постигает себя, своего ближнего, свое прошлое и возможности своего будущего. Это восприятие себя как отдельного существа, понимание краткости собственной жизни, того, что не по своей воле рожден и вопреки воле своей умрет, что он может умереть раньше, чем те, кого он любит, или они раньше него, ощущение собственного одиночества, беспомощности перед силами природы и общества – все это делает его отчужденное, разобщенное с другими существование невыносимой тюрьмой. Он стал бы безумным, если бы не мог освободиться из этой тюрьмы, покинуть ее, объединившись в той или иной форме с окружающим миром и людьми»[10].
В раннем детстве индивид осознает себя как отдельное существо, и сразу же возникает потребность в преодолении этого комплекса ощущений – своего страха, своей слабости и всей своей отдельности в целом.
Из этой потребности, как мы уже говорили, может выйти много хорошего. Или много плохого. Смотря какое решение проблемы предложит человеку подсознание. А оно коварно, наше подсознание. И легко выдает ограниченность действий за первоклассную защиту. В результате чего личность уходит в оборону: строит глухую стену между собой и миром, развивает невротическую потребность, превращает свободное сознание в ряд автоматических реакций, подтверждает свой отказ от полноценной жизни. Так в Древнем Риме вольноотпущенные гладиаторы по своей воле возвращались на арену, снова и снова становясь игрушкой в руках судьбы – лишь бы не пользоваться полученным правом на собственный выбор и личную ответственность. Это решение парадоксальным образом избавляло их от страха и от скуки.
А что касается обретенной, но тут же утраченной свободы, то ее с легкостью замещали добрый старый способ «расслабления», получивший название оргиастического поведения. Во время оргий человек традиционно обретал иллюзию единения с мирозданием, с другими людьми, с высшими силами, руководящими природой и судьбой. Опьяняющие вещества и ритуалы, сформированные за тысячелетия человеческой цивилизации, предназначались именно для того, чтобы отдельное существо хоть ненадолго утратило свою отдельность и слилось с мировым бытием. Или, проще говоря, словило кайф и отъехало в измерение глюков.
Проблема таких «отъездов» заключается в том, что рано или поздно приходится возвращаться. И с каждым возвращением обнаруживается, что дела у отдельного существа идут все хуже и хуже.
В ходе путешествий по другим измерениям индивид безвозвратно теряет полезные навыки ориентации и приспособления к действительности.
А действительность жестока к неумехам. Особенно к психологически зависимым неумехам, пренебрегающим реальностью, дарованной нам не только в эмоциях и ощущениях, но и в решениях и отношениях. И некому пожаловаться на беспощадность окружающего мира, и бесполезно бегать кругами с криком: покажите, где тут выход! Да есть ли он вообще, этот выход?
Выхода нет, но есть переходы
Личность, как и жизнь вообще, больше похожа на дерево, чем на скульптуру. Ее рост, развитие и самореализация зависят не только от условий, в которых она существует, но и от ее собственный усилий, направленных на то, чтобы вырасти, развиться и реализоваться. Об этом мы писали в книге «Психологическая зависимость: как не разориться, покупая счастье», поэтому сейчас лишь повторим основной постулат: если человек не изменится сам, то и мир вокруг него не изменится ни на йоту. А поскольку меняться самому – процесс тяжкий и долгий, многие пытаются отыскать другую реальность, более волнующую, динамичную и управляемую. Средств для перемещения из одного мира в другой более чем достаточно. И все, как одно, психотропные, то есть буквально «меняющие направление психики». Их действие механически превращает повседневную рутину в захватывающую игру. Правда, это ненадолго: по мере привыкания формируется зависимость, снижается чувствительность, возрастает доза, разрушается система ценностей – словом, игра превращается в болезнь. А все так невинно начиналось: ну скучал человек, ну не знал, чем себя занять… С кем не бывает?
Да, скука плюс желание развеяться посещают всех и каждого, оттого эти состояния и не вызывают никакого беспокойства. Максимальной реакцией со стороны взрослых на привычную живую картину «Скучающий подросток» будет реплика «Делом займись!», подразумевающая несколько вариантов дела: уборку комнаты, приготовление уроков, чтение какого-нибудь Чернышевского, добросовестно протоколировавшего сны латентной[11] нимфоманки Веры Павловны… У старшего поколения всегда найдется ряд заданий, не столько развеивающих, сколько усугубляющих скуку. Ведь занятые родители хотят одного: чтобы ребенок не лез в их «взрослые» игры, а посему необходимо нагрузить его особыми «детскими» делами. Нет, здесь нет ошибки.
То, что для взрослого – всего лишь игра, деловая или психологическая, то для ребенка – дело, самое важное в его жизни. Усвоение информации, накопление знаний о мире, о себе и о других.
И все-таки старшие нередко (или почти всегда) категорически пресекают попытки «сунуть нос» и отводят детское любопытство от взрослых тайн, как реку – из природного русла в новое, искусственное. Но точно так же, как смена речного русла может вызвать экологическую катастрофу, любопытство, неверно перенаправленное, становится разрушительной силой.
Большинство подростков и молодых людей в качестве главного фактора, вовлекающего детей и молодежь в наркотическую зависимость, называют любопытство. На втором месте – желание уйти от неприятной реальности, снять тревогу. На третьем месте – одиночество подростка. Причем о детском любопытстве взрослые осведомлены, зато о тревоге и одиночестве подрастающего поколения, как ни странно, имеют лишь смутное понятие. Это видно из социологических опросов: только 4,2 % опрошенных родителей и преподавателей школ и вузов вспомнили об одиночестве ребенка, 10,8 % – о дискомфортном восприятии реальности. Зато и родители, и преподаватели охотно переложили основную тяжесть вины на СМИ, которые якобы вовсю пропагандируют насилие, секс и наркоманию – 61,2 %; на молодежных кумиров, которые (тоже якобы) и сами употребляют наркотики, и склоняют к этому подрастающее поколение – 33,4 %; на самих детей, не представляющих всей опасности заболевания – 48,2 %.
Итак, с точки зрения старшего поколения, в эпидемии наркомании виноваты интернет, попса, фильмы, сериалы и журналы, а также сама непредусмотрительная молодая поросль, слишком любопытная, внушаемая и легкомысленная. Словом, все как сказал писатель Майкл Муркок: «Детство – счастливейшие годы жизни, но только не для детей».
Родители и учителя вносят свою посильную лепту и в чувство одиночества, и в чувство дискомфорта, и в чувство тревоги, тисками сжимающее сознание ребенка, но не желают признавать своего «соучастия».
Отругать «эти бессовестные масс-медиа и этого безалаберного отморозка» куда легче, чем задаться вопросом: а так ли прекрасно детство «отморозка», если он страшно одинок и разочарован в свои неполные четырнадцать (именно в этом возрасте большинство наркоманов втягивается в зависимость)?
Ведь мы, старшие, по старинке привыкли мерить благополучие не только телесное, но и душевное незыблемой триадой «сыт-обут-одет». Читателям, которые сейчас искренне недоумевают: «А чего им (детям) еще надо?» – советуем прочесть нашу первую книгу о зависимости. Там немало сказано о теории развития личности, созданной Абрахамом Маслоу. Здесь мы ограничимся кратким напоминанием об иерархии потребностей, сформулированной Маслоу:
1) физиологические потребности – еда, вода, сон и т. п.;
2) потребность в безопасности – стабильность существования, порядок;
3) потребность в любви и принадлежности – семья, дружба;
4) потребность в уважении – самоуважение, признание;
5) потребность в самореализации (которую специалисты называют самоактуализацией) – развитие способностей.
Первая категория – материальные блага (еда, вода, сон, кров, одежда и пр.) – действительно, доминирует и должна удовлетворяться раньше остальных. До того, как человек насытится и спрячется от непогоды, его мало что волнует. «Перебить» эту потребность может лишь сильный страх, поскольку безопасность – столь же сильная потребность, как и потребность в жилье и пище. Но ведь тревожное состояние и негативное отношение к окружающему миру – это же и есть утрата чувства безопасности! Причины для такой «потери» могут быть самыми разными – все зависит от конкретной личности и от конкретных условий ее существования. Но, тем не менее, получается следующее: у современных детей потребность в безопасности удовлетворена весьма слабо. Впрочем, это не удивительно.