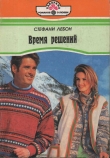Текст книги "Для подростков или Вся правда о наркотиках"
Автор книги: Инесса Ципоркина
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Выздоравливающий алкоголик, отказавшийся от компульсивного пьянства, может переживать сильнейшую вину и тревогу. Велика опасность того, что, не вынеся прессинга тревоги, он пристрастится к другим аддиктивным агентам: к калорийной пище, к курению и т. п. Оптимальным вариантом можно считать «положительную аддикцию»: увлечение бегом трусцой или посещением программы Анонимных Алкоголиков. Лучше уж относительное выздоровление, чем никакого.
Другое «защитное» искажение – параноидное мышление, проецирующее агрессию алкоголика на окружающих. Этот психологический паттерн позволяет не чувствовать себя виноватым за неприемлемые импульсы. Личность, убедившись в том, что «мир жесток и груб», а грубее всех – жестокий близкий родственник (друг, родитель, партнер по браку, коллега по работе), может позволить себе контратаку в направлении агрессора. Уверившись в том, что его преследует собственная семья, что ему изменяет жена, что лучший друг пытается «сдать его в поликлинику для опытов» (читай: на лечение от зависимости), аддикт заводит жестокие семейные разборки, попутно впадая в усиленное пьянство. Ситуацию может дополнить так называемая «ревность алкоголика», нередко связанная с нанесением телесных повреждений «жене-изменщице».
Третьей «удобной формой» (повторяем: это «удобство» носит весьма относительную форму, как и все прочие удобства, предлагаемые системой психологической защиты) является поиск чрезмерного наказания. Это похоже на самозабвение, хотя по сути своей желание быть наказанным серьезно отличается от растворения личности в угождении другим. Ищущие чрезмерного наказания тоже стараются умиротворить тех людей, которые их терроризируют, но не для удовольствия своего тирана, а для своего собственного. Чувство тревоги в сознании такого человека огромно, вот он и ищет возмездия, соответствующего страшным, апокалиптическим предчувствиям. Мелкие наказания и вообще наказания, пропорциональные реальным поступкам, его не устраивают. Он не видит другого средства избавиться от неотступной тревоги, преследующей его на сознательном и подсознательном уровне.
Иногда, чтобы вырвать наказание желательных «размеров» у слишком снисходительного окружения, такие личности демонстрируют асоциальное поведение и даже совершают преступления. Это влечение к нарушениям не ради обогащения, а ради наказания. Другие вырабатывают компульсию в виде исповеди: они регулярно посещают терапевта, священника, родственников с подробными рассказами о новых дурных поступках. Исповедуются и ждут наказания. И если наказания не последует, «грешник» приходит в замешательство.
Многие алкоголики включаются в систему поиска чрезмерного наказания через психологическую игру, которую Э. Берн называет «Алкоголик», а Р. Поттер-Эфрон – «Пьяница и Сука». Собственно, две главные роли в этих играх идентичны: аддикт и соаддикт, соответственно Алкоголик/наркоман (Пьяница) и его Преследователь (Сука), он же Спаситель. В роли Преследователя, как правило, выступает жена аддикта: постоянно ругая его за пьянство, она с тем же постоянством уговаривает его лечиться, исполняя партию Спасителя. Бывает, что в качестве Спасителя выступает врач-нарколог: он лечит Пьяницу и даже успешно, добивается определенных результатов (например, полгода воздержания от выпивки), врач и пациент радостно поздравляют друг друга, а на другой день Пьяница опять под забором. Позднее, в связи с развитием игры и с ухудшением здоровья, Алкоголику/наркоману уже не требуется ни Спаситель, ни Преследователь, но он готов терпеть их, если эти двое обеспечивают Пьянице необходимые условия для жизни. Алкоголик/наркоман пойдет в любую благотворительную организацию и вытерпит любой скандал, если надеется на подачку. Это испытание позволит ему сыграть очередной кон психологической игры.
Когда алкоголики в лечебных целях обсуждают свое поведение, их обычно интересует не сама проблема выпивки, а связанные с нею потери и мучения – похмелье, унижения, обнищание. Они воссоздают ситуацию, когда внутреннего Ребенка личности[27], подыгрывая Алкоголику, ругает не только его внутренний Родитель, но и любая «родительская фигура» из близкого окружения. Излечившиеся или практически излечившиеся Алкоголики, переведясь на роль Спасителей, прекрасно помнят правила игры: ужасаться и критиковать, критиковать и ужасаться поведению того, кто в данный момент исполняет партию Пьяницы. Лейтмотив ее: «Ну и мерзок же я был! Посмотрим, сможете ли вы меня остановить». При этом игра имитирует диалог двух Взрослых сущностей: «Скажите мне откровенно, кто я, и помогите мне бросить пить!» – «Буду с вами честен: вы вели себя отвратительно». А на самом деле общаются Ребенок и Родитель: «Ну-ка, ну-ка, останови меня, если сможешь!» – «Ты обязан бросить пить, потому что это плохо». Ребенок провоцирует Родителя на новые (и совершенно бесполезные) нотации, потакает своим слабостям, ищет одновременно и осуждения, и подтверждения своей обиды: «Весь мир стремится меня унизить». Как только поток негативных оценок иссякает и начинается «неигровой» анализ поведения аддикта, Пьяница начинает искать другого партнера для продолжения игры.
3. Третья категория форм защиты построена на том, чтобы минимизировать опасность, приведя личность в оцепенение. Благодаря этому восприимчивость к боли исчезает, возникает своего рода «психологическая заморозка». Оцепенение уже могло когда-то в детстве давать человеку передышку от сильной боли. Ее действие запомнилось. И вот личность снова пытается блокировать ощущения, стараясь избежать болезненных переживаний. Но потеряв способность испытывать боль, лишаешься и способности испытывать радость.
Самой эффективной «заморозкой» становится интеллектуализация: личность старается воспринимать информацию только рационально, без участия эмоциональной сферы. При такой блокировке даже самый подробный анализ вины не вызовет ничего, кроме логических заключений и пространных теоретических рассуждений. Это может показаться хорошим средством для того, чтобы справиться с виной: обдумать ее, обсудить, обговорить с компетентным специалистом. Но такое средство нельзя не упрекнуть в ущербности: запрещая одной или нескольким сферам сознания выражать свое мнение, личность дает одностороннюю оценку происходящему. А постоянное применение интеллектуализации, вероятнее всего, приведет к атрофии «аппарата эмоционального реагирования».
К тому же бегство от собственных чувств – все то же бегство. Для того, чтобы встретиться со своей виной лицом к лицу и победить ее, понадобится отказ от интеллектуализации и подключение всего сознания, в том числе и эмоций. Прием «выключения» любой психологической составляющей деформирует восприятие.
Возможно, тем из наших читателей, кто прочел нашу первую книгу об эмоциональной зависимости, могло показаться, что авторы переоценивают роль Взрослого в психологической триаде Ребенок-Родитель-Взрослый. Да, мы неоднократно призывали подключать Взрослого к исследованию истинных мотивов и целей, скрытых под наслоениями стереотипов. Но именно потому, что большинство людей предпочитает оценивать ситуацию эмоционально, а не рационально. Давать ситуациям четкую оценку и решать проблемы осмысленно приходится учиться. Но многие предпочитают действовать по наитию, дабы не усложнять себе жизнь. И все-таки перед тем, как ответить зову сердца, не мешает притормозить и выслушать доводы рассудка: вдруг чего умное скажет? А там уже спросить и сердце, и печенку, и прочие чувствительные места организма: ну как, прислушаемся к рекомендациям?
По словам психологов Сюзан Фиске и Шелли Тейлор, мы, люди, когнитивные[28] скряги – вечно экономим умственную энергию. Учитывая наши ограниченные способности к переработке информации, мы стремимся упростить сложные проблемы[29]. А для этого используем массу приемов – причем используем бессознательно. И конечно же, бессознательные стремления зачастую перекрывают наши осознанные намерения, уводя личность в такие пределы, куда она по доброй воле ни за что бы не пошла.
Умирай, дядя!
«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог» —
Кому из нас эти строки не въелись в мозг? Въелись-то они въелись, но следа не оставили. И мало кто увидел, сколь ценная информация содержится в нехитром пожелании «Когда же черт возьмет тебя!», адресованная тщеславному полутрупу онегинского дяди.
Нет, мы не объявляем вендетту какому-то честолюбцу двухвековой давности. Мы говорим о тех, кто не выдумал ничего лучше, чем принуждение к уважению. Прочитав раздел о стыде, вы, вероятно, увидите определенную связь между неприязненно-презрительным отношением к себе и зависимостью от внешнего одобрения. Да, сильнее всего в похвалах нуждается тот, кто сам себя похвалить не в силах. Так было задолго до рождения Фрейда и задолго до рождения Пушкина: измученный иррациональным стыдом и виной человек мечтал доказать себе и всему свету, что жизнь прожита не зря, ударяясь в ту или иную разновидность психологической защиты.
И куда он делся, весь этот стыд? Неужто пропал следа и помина, если, конечно, не считать культурного наследия? Увы, но это не так. Умеренный стыд и умеренная вина по мере решения индивидом социальных и психологических проблем уходят из его сознания и подсознания. Если нет проблемы, значит, и дискомфорт исчез, и реакция на дискомфорт – тоже. Но стыд и вина, о которых мы писали выше, так просто не сдаются. И даже со смертью своего хозяина, словно неприкаянные призраки, вселяются… в души его наследников.
Стыд и вина похожи и на болезнь, и на деньги. Их можно одолжить, ими можно заразиться, их можно унаследовать и передать потомкам.
Вот куда девается иррациональный стыд и иррациональная вина – в сознание тех, кто, «летя в пыли на почтовых», не испытывал ни малейшего желания «полуживого забавлять». Каким же образом происходит передача (или это все-таки стоит назвать заражением?) непереносимой вины и стыда от одного поколения другому?
Двумя путями: с помощью непосредственного контакта и контакта опосредованного. В качестве непосредственного контакта можно назвать воспитание себе подобных из всего, что бог послал. Опосредованный контакт, в свою очередь, есть освоение того самого культурного наследия и усвоение истин разной степени непреложности. Как известно, полезная информация неизменно усваивается вместе со всяким хламом, который тоже удостаивается звания истины. Превентивного отбора произвести нельзя, поскольку что шизоиду здорово, то эпилептоиду – смерть[30]. Вот мы и роемся в этих информационных пластах, словно археологи: на центнер мусора пять глиняных осколков, один с орнаментом – удача! И каждый ищет что-то свое.
Предмет поисков определяется рядом условий – индивидуальных и всеобщих. В частности, принадлежность какому-нибудь психологическому типу есть индивидуальное условие; мода на какую-нибудь тематику – условие всеобщее. Из причудливой мозаики данных рождается неповторимый рисунок личности. Но, несмотря на его неповторимость, в нем угадываются типичные «фрагменты» – следование моде, общественному мнению, социальным стереотипам.
Теперь вернемся к стыду и вине. Какое это условие – индивидуальное или всеобщее? На первый взгляд, стыдиться или не стыдиться – дело сугубо личное. Или все-таки не совсем? Представьте себе поколение, для которого стыд и вина есть следование моде, стереотипу, социальному паттерну. Предположим, что иррациональные стыд и вина, передающиеся из поколения в поколение, сформируют некое «избранное общество», куда принимаются только самые издерганные, самые изъеденные, самые закомплексованные. В этом обществе их называют честью и совестью нации, предлагают им изысканные развлечения специально по вкусу стыдящихся: коллективные радения с последующим катарсисом, публичные покаяния в кругу наиболее виновных, атмосферу полного взаимопонимания из ресторана… неважно, какого ресторана. Лишь бы там не переводилось спиртное, без которого поддерживать стыд и вину весьма затруднительно. Какой была бы судьба этого поколения?
Вероятнее всего, скажете вы, оно сопьется. Проспиртуется насквозь в этой атмосфере взаимопонимания. Непомерно разовьет техники защит, не только агрессивные, но и предупреждающие критику: высокомерие, ярость, бесстыдство. И станет ужасно гордиться своей непреходящей виноватостью. В принципе, так оно и случилось. Уже случилось, потому что мы – потомки стыдящихся предков, почивших на своей вине, как почивают на лаврах. И это – один из истоков алкогольной реки, текущей по просторам отечества.
Долгие десятилетия неофициальная (но оттого еще более могущественная) мораль внушала населению, что быть прагматиком с высоким уровнем самоконтроля (как раз тот тип, который наименее подвержен аддиктивным расстройствам) – глупо и самонадеянно. Только уязвленное и уязвимое самосознание способно производить качественный продукт. А уж культурный-то продукт есть исключительно дело глубоко пристыженных творческих натур. Нормальное, адекватное восприятие плюс профессионализм плюс коммерческий заказ равняется халтура! Образно говоря, без стыда не вытащишь и рыбку из пруда. Для полноценной самоактуализации путем создания нетленки необходимо: сформировать у публики комплекс вины, прочесть наставление, намекнуть, что «удивительное рядом», хотя и недосягаемо для непосвященных, после чего пострадать за идею (причем весьма банальную). Как сказал Джордж Бернард Шоу, «мученичество – единственный способ прославиться, не имея для этого никаких данных». У потенциального мученика есть отличная возможность превратиться в культовую фигуру, не предложив публике ничего, кроме травм физических и душевных.
Художественная литература и кинематограф 1960-1980-х годов огромное внимание уделяли «стигматам ищущего гения»: муки творчества, лишенный элементарного комфорта быт, сложности в личной жизни, непонимание окружающих, проблемы со здоровьем, падение социального статуса и пьянство, беспробудное самозабвенное пьянство… Герои этого культурного продукта на соблазны не поддавались, удобства презирали, а от жизни требовали того же, что и нетрезвый фельдкурат Отто Кац: «Он выражал самые разнообразные желания. Хотел, чтобы Швейк вывихнул ему ногу, чтобы немного придушил, чтобы остриг ему ногти, вырвал передние зубы. Проявил страстное стремление к мученичеству, требуя, чтобы ему оторвали голову и в мешке бросили во Влтаву: «Мне бы очень пошли звездочки вокруг головы. Хорошо бы штук десять»[31]. Многие из произведений, будучи созданы уже в постперестроечную эпоху, не только не освободились от мифов застойных лет, но еще более развили и распространили эти образы глубоко эмоциональных деятелей науки и культуры, непрерывно рвущих оковы академизма и традиционализма, плохо воспринимающих в споре контраргументы и просто критику, а вместо понимания взыскующих мученического венца и звездочек вокруг головы.
Стыдящееся поколение выстроило целую Китайскую стену штампов, описывающих неустроенный быт, семейные неурядицы, неширокий, прямо скажем, круг интересов и далеко не новую систему ценностей «истинного творца». История его жизни начинается с того, что космическая тяга высокого искусства заставляет «простого парня» бросить привычные занятия – учебу, работу, семью – и заняться творчеством; богемная среда встречает его проблемами с алкоголем, а также проблемами бытовыми и финансовыми; творчеству сопутствуют нездоровый образ жизни, борьба амбиций, бредовые идеи и (обязательно!) презрение к более ли менее здравомыслящим коллегам. Этот стандартный коктейль – смешать, но не взбалтывать – под названием «My life in art»[32] подавался аудитории в качестве животворящего напитка, составленного по эксклюзивному рецепту.
Эстафету подхватили масс-медиа. С их подачи нам регулярно читают мораль на тему «Ай-яй-яй, как не стыдно быть массовым, кассовым и профессиональным». Те представители поколения стыдящихся и виноватых предков, кто освоил техники высокомерия, ярости и бесстыдства, но еще не окончательно выпал из жизни по причине аддиктивных расстройств, ругательски ругают современную коммерциализацию и вообще попытки хорошо устроиться в этой жизни. Все потом, говорят они нам, не в этой жизни! А пока попробуйте ощутить свою вину за то, что мир не идеален! Возложите бремя ошибок мироздания на свои плечи! Только так вы сможете раздвинуть рамки обыденного и стать полноценными художественными натурами, философами, учеными, деятелями!
Если бы это было так, жизнь была бы беспробудно… легкой. Достаточно следовать своему инфантилизму, подкармливать и лелеять свои страхи, удовлетворять свою лень, взращивать свою аддикцию – и считай, самоактуализация, о которой так долго говорили психологи под предводительством Абрахама Маслоу, свершилась. Позволить спирали стыда и вины увлечь тебя в темные леса подсознания и остаться в этих лесах на положении одинокого волка – самое простое, что можно сотворить со своей личностью и судьбой. Соглашайтесь! – убеждают нас предки и протягивают нам вину, стыд и инфантилизм на блюдечке с голубой каемочкой. Ведь большое страдание можно сделать фундаментом большого успеха! Главное, чтобы страдалец подходил на роль пророка новой веры, а не казался тугодумом, исповедующим старую. И второе обязательное условие: маргинальность, в глазах публики имеющее вид не психической болезни, а душевной непреклонности.
Так незаметно, постепенно создаются психологически ущербные идеалы и происходит их внедрение в массовое сознание. Хотя зрелая личность на подобные мормышки не ловится. У нее свои установки, она их за иллюзию душевной тонкости не продаст. Но как быть незрелым личностям, молодым людям, вступающим в мир взрослых на птичьих правах? Они повышенно восприимчивы, внушаемы и доверчивы, а их собственная система психологической защиты нередко совпадает с постулатами иррационального стыда и вины. У них завышенные требования и небольшие возможности, а рутина профессиональной деятельности представляет тухлым болотом, по которому можно бродить всю жизнь, да так никуда и не выйти.
Л.С. Выготский выделил несколько основных групп наиболее ярких интересов подростков, которые он называл доминантами:
1) эгоцентрическая доминанта – интерес подростка к собственной личности;
2) доминанта дали – установка подростка на большие масштабы, которые для него более субъективно приемлемы, чем текущие, сегодняшние;
3) доминанта усилия – тяга к сопротивлению, преодолению, волевым напряжениям, которые иногда проявляются в упрямстве, хулиганстве, борьбе против воспитательного авторитета, протесте и др.;
4) доминанта романтики – стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям и героизму.
Надо признать, что все эти доминанты легко находят свое воплощение… в глюках, порожденных наркотиком или алкоголем, а также в среднестатистическом аддиктивном поведении: у зависимой личности имеются все условия для проявления себя как эгоцентриста, романтика, упрямца и великого человека – всегда только будущего великого человека. Ну, предположим, последнее сомнительно. Зато неверие со стороны старших в подростковое «планов громадье» позволяет усилить действие прочих доминант. То есть стать еще эгоцентричнее, упрямее и романтичнее.
И если подсознание ребенка примет подобный образ жизни как нормальный, можете считать, что свою дорогу юное созданье уже нашло. Торную, широкую дорогу. Ориентиром на ней служат три «зэ»: злопыхательство, зависть, зависимость. По этому маршруту уже прошли миллионы индивидов, так и не ставших индивидуальностями. А вот чтобы сойти с хоженой-перехоженой тропки и поискать что-нибудь свое, одной только доминанты романтики мало. Нужен опыт, хладнокровие и ум. Согласитесь, молодым людям эти черты не очень-то свойственны. А вот любопытства и неуверенности в себе у них хоть отбавляй. Причем именно эти качества – самые распространенные причины «первого причастия» наркотиком и алкоголем в подростковой среде.
Вот почему так опасно влияние на незрелую молодежь тоже весьма незрелого старшего поколения, потратившего жизнь на усугубление чувства вины и стыда. Если оставить «юную поросль» бороться с губительными стереотипами один на один, неизвестно, кто победит. Зато в случае победы стереотипа в алкогольно-наркотическом марафоне поучаствует вся семья, уж будьте уверены. Никому мало не покажется.
Поэтому родителям, у которых растет любопытное, неопытное, чересчур требовательное к себе и к миру чадо, нелишне напомнить: будьте бдительны! Аддикты не бездействуют, они постоянно вербуют сторонников! И вербуют не где-нибудь, а прямо здесь, в рядах ваших детей. Не дайте им шанса. Не присоединяйтесь к общественному мнению только потому, что оно общественное, хотя вас от него почему-то коробит. Разберитесь в своих чувствах, а заодно и в подоплеке высказываний прекраснодушных и бескорыстных (якобы) проповедников. Идеология – опасный товар. Она легко может оказаться подпорченной и токсичной.
Аддикция – не спорт для зрителей
А сейчас перейдем к вопросу, которого старательно избегают клиницисты и так же старательно муссируют родственники зависимых лиц: нужно ли вообще лечить аддикта? И разумеется, на этот вопрос никакого «однозначного перпендикулярного ответа» дать нельзя. Это, выражаясь языком точных наук, не постоянная величина, а переменная. На нее влияет множество составляющих: и то, в каком состоянии находится больной; и каков будет уровень затрат на лечение; и осталась у близких хоть капля терпения; и есть ли у психозависимой личности дети, впитывающие, словно губка, модели аддиктивного поведения. Последнее «слагаемое» – решающий фактор. Мы берем на себя смелость дать совет: если у вас есть дети, спасайте их, пока они не включились в процесс, который психологи называют генерационным циклом аддикции.
Члены семьи алкоголика/наркомана рано или поздно оказываются перед страшным выбором: спасать мужа/жену или детей? «Выбирай, но осторожно, осторожно, но выбирай», сказал живой классик отечественной юмористики М. Жванецкий.
В предшествующей главе этой книги изложена схема формирования спирали стыда и вины, которая заставляет ребенка с детства включаться в родительский сценарий. И если сценарий построен на деструктивных психологических играх типа «Пьяница и Сука», то кем станет ребенок, перед глазами которого – только такие образцы восприятия и поведения?
Нет, не обязательно искать для созданий семьи или для общения «сугубо правильных» людей, из которых при дефиците металлов можно делать гвозди, вилы, топоры и столовые приборы. Не надо искать таких, кто не курит и не пьет (не ест калорийной пищи, не играет в азартные игры, не ухаживает за дамами, не коллекционирует марок и монет, не заходит в интернет и вообще не имеет слабостей – ни больших, ни маленьких). Нельзя доводить идею до абсурда, не то как раз начнешь измерять внутричерепную и загрудинную температуру, выясняя, у кого голова холоднее, а сердце – горячее, и руки проверять: чистые ли? Но проявить элементарную предусмотрительность не помешает.
Обычно люди плохо представляют, какое влияние оказывает на них аддиктивная среда. Мамины стенания «Не водись с ними – они тебя плохому научат!» воспринимаются как нормальная материнская паранойя (а иногда паранойей и являются). Между тем мамы не всегда ошибаются, когда говорят про научение плохому. Мы и сами не замечаем, как это «плохое» входит в наш ум и в нашу жизнь.
Как ни странно, в этом вопросе огромную самонадеянность проявляют именно женщины. Особенно при выборе брачного или сексуального партнера: им часто кажется, что уже сложившегося человека можно переделать «домашними средствами», что перестройка сознания и подсознания, изменение глубоко укоренившихся паттернов и мировоззрения целиком зависит от грамотного чередования заботы, поддержки, доброты и присмотра, чтобы не шалил. Главное, чтобы человек был хороший. Вот почему наши соотечественницы очень часто оказываются в роли соаддикта, которая вполне сопоставима с ролью аддикта и столь же разрушительна.
Соаддикт так же, как адддикт, приобретает сверхозабоченность по отношению к одному-единственному объекту. Аддикт концентрируется на своем агенте, соаддикт – на аддикте. В ответ на развитие зависимости у аддикта меняется и существование созависимых лиц.
Соаддикт старается ужесточить контроль над выпивкой, над социальными контактами своего «подопечного» (особенно над его контактами с теми, кто тоже имеет аддиктивные проблемы). Созависимая личность всеми силами сохраняет мир в семье, стремится изолировать себя от активных действий, направленных «вовне семьи». Вот черты, характерные для соаддикции:
1) комплекс отсутствия честности – когда применяются уже упоминавшиеся приемы психологической защиты: отрицание, уход, перфекционизм, высокомерие, бесстыдство и ярость;
2) изменение мышления настолько выражено, что оно носит характер сверхценных образований: аддикт становится, как говорится, зеницей ока соаддикта, затмевая все остальные объекты внимания;
3) неспособность распорядиться своими эмоциями здоровым образом: человек не в силах выразить свои чувства, постоянно их подавляет, замораживает, фиксируется на какой-то одной эмоции (на мести или на обиде) и не умеет от нее отвлечься;
4) навязчивое мышление: сознание человека создает формулу и все события подставляет в эту формулу;
5) дуалистическое мышление: всегда только «да» или «нет», без нюансов;
6) внешняя референция: постоянное ожидание характеристик и отзывов от других людей;
7) низкая самооценка из-за этой зависимости от чужого мнения;
8) односторонняя манипуляция не только родственником-аддиктом, но и другими близкими людьми: стремление произвести впечатление, создать впечатление, управлять впечатлениями, основанными на чувстве стыда;
9) постоянная тревожность и страх;
10) ригидность: негибкость мышления и поведения, отсутствие мобильности, неспособность адаптироваться к новым условиям;
11) частые депрессии.
Чтобы доказать свою значимость, соаддикты вынуждены зависеть от других людей. Их главная жизненная цель состоит в том, чтобы узнать желания других лиц и дать им то, что они хотят. Созависимые стараются манипулировать людьми и контролировать ситуацию, дабы все осознали их незаменимость. Нередко для этой цели они используют имидж мучеников, страдальцев. Чтобы придать достоверности избранной роли, они страдают не только от аддикта, но и ради аддикта: покрывают его проступки и даже преступления, спасают от осуждения и наказания, тем самым лишая аддикта всякой ответственности за свое поведение.
Хотя созависимые всеми силами пытаются изгнать аддикцию из жизни своей семьи, их психологическая тактика только усугубляет проблему.
На первый взгляд эти действия должны не развивать процесс формирования зависимости, а приостанавливать, но на практике ситуация развивается иначе. Процесс обусловлен чувствами соаддикта:
1) чувство чрезмерной лояльности к аддикту;
2) желание справиться с трудностями его поведения;
3) своеобразное чувство ответственности за то, что у родного человека развивается аддикция (интуитивно соаддикт понимает, что он тоже этому способствовал);
4) стремление сохранить положение в обществе, произвести благоприятное впечатление, сберечь респектабельность, предотвратить опасные ситуации (когда из-за аддикции члена семьи возникает угроза социальному положению);
5) желание не разрушать семью;
6) попытки смягчить агрессию аддикта;
7) избегание помощи извне (психологической, медицинской и т. п.);
8) отсутствие осознания болезни, непонимание ситуации;
9) подсознательное стремление быть необходимым для аддикта, которое может превращаться в стремление осуществлять контроль, власть.
А в результате зависимая личность нередко приходит к выводу, что родные и близкие, несмотря на регулярные семейные разборки, должны обеспечить ее ближайшее будущее. И спокойно предается своим порокам, благо у аддикта не бывает далеко идущих планов. Они живут сегодняшним днем и не загадывают на завтра. В конечном итоге аддикт понимает: здесь ему всегда обеспечат привычный образ жизни. Значит, можно не стеснять себя ни в чем.
Если хотите помочь мужу/жене, не замалчивайте проблему, а ищите психотерапевта, нарколога, лечебное заведение, принимайте срочные меры, а в безнадежных случаях – признайте свой проигрыш и спасайте все, что еще можно спасти. Себя и своих детей. И не покупайтесь на нытье о том, как прекрасна будет ваша совместная жизнь – буквально сейчас же после дождичка в четверг. А не то в аддикции, как в семейном ток-шоу, непосредственно поучаствуют все – и стар, и млад.
Мать/отец, воспитывая детей рядом с аддиктом, закладывает в них незащищенность и предрасположенность к аддикции. Такие семьи растят индивидов двух категорий – аддиктов и тех, кто заботится об аддиктах.
А как же иначе? Ведь ребенок с детских лет обучается психологическому языку зависимости, эта среда окружает и формирует его. Поэтому с возрастом отпрыск психологически зависимого родителя бессознательно выбирает тех, кто ему понятен и, соответственно, понимает его, – то есть людей, так или иначе связанных с аддиктивной средой. Одновременно он и сам выбирает «свою» разновидность зависимости – и нередко с превышением уровня, достигнутого родителем: например, дети алкоголиков часто становятся наркоманами. К счастью, бывает и наоборот: подрастая, ребенок аддикта решает нейтрализовать семейный сценарий, навязанный ему в детстве, и выбирает антисценарий. Например, становится наркологом.
Даже если не случится самое худшее и ребенок сохранит свою свободу (в том смысле, что не пристрастится ни к выпивке, ни к наркоте), нельзя сказать, что он вырастет свободной личностью. Он будет обречен всю жизнь бороться со своим «психологическим наследством», нивелировать привычки и примеры, усвоенные в детстве. А пока он будет исполнять пожелания родителей, тайные и явные, или противостоять им, то рискует упустить время, отведенное для самоактуализации. И никто не задастся вопросом: кем бы стал этот человек, если бы не алкоголизм/наркомания его близких? Может быть, в этом наркологе погиб талантливый историк или гонщик? Но ведь он и сам никогда в себя не заглядывал: у него попросту не было сил для рефлексии, все внутренние ресурсы уходили на сопротивление среде. Индивид посвятил себя отрицанию родительского сценария, всю жизнь работал над этой задачей и решил ее: алкоголиком/наркоманом он не стал. И это главное.
Тем не менее это – далеко не все. Пусть внешне «повстанец» благополучен и уверен в себе, его нельзя назвать полностью реализованной личностью. Если индивидуальность планомерно подавляется и игнорируется, не стоит надеяться, что она как-нибудь сама справится со своим бесправным положением и разовьется в гармоничную и плодотворную структуру. Это будет рахитичная, нежизнеспособная поросль, подверженная многим недугам и вызывающая сильный дискомфорт у своего обладателя. Помните, как личность защищается от стыда и вины с помощью перфекционизма и интеллектуализации? Внешний успех, безупречность поведения и рациональность мышления не всегда бывают проявлениями внутренней гармонии. Довольно часто это – свидетельство чудовищной внутренней борьбы.