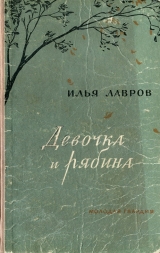
Текст книги "Девочка и рябина"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Стук сердца
Когда шли домой, улицы были уже пустыми. Вьюга утихла, вызвездило, подмораживало. Снег хрустел звонко. Над крышами, озаренные прожекторами, шевелились флаги. Они шевелились тихонько и поэтому казались тяжелыми, бархатными. Над горсоветом вспыхивал и гас лозунг: «Да здравствует Октябрьская революция!» Буквы из лампочек загорались одна за другой, точно они неустанно бежали и бежали. Вся улица была в таких вспышках. Алые лозунги и звезды, освещенные изнутри, делали снег розовым.
Юлинька, Северов, Караванов, Касаткин, Сенечка шли посреди улицы, взявшись под руки. Было весело, но почему-то запели печальную песню:
Дывлюсь я на небо тай думку гадаю:
Чому я не сокил, чому не литаю…
Алеша закрыл глаза, и голос его звенел тихо, задушевно:
Чому мени, боже, ти крила не дав?
Очень верно, низким голосом вторил Караванов:
Я б землю покинув и в небо злитав.
Все задумались о чем-то. У Юлиньки лицо разрумянилось, стало детским и грустным.
Караванов помолодел, и Юлинька удивилась: какие у него большие и милые глаза.
Даже у Касаткина жирное лицо посветлело.
Очень красивы люди, когда они поют.
«Всем дается от рождения краса души, – подумал Алеша, сжимая руку Юлиньки. – Обязательно дается! Только беречь ее нужно, А то разрастется сорняк пошлости, эгоизма. А спасенье одно: поменьше люби себя, побольше других».
Ему было очень грустно. И одиноко. Вот все сегодня играли, а он сидел в уголке на балконе и смотрел на них. И Юлинька! Как тревожно сжимается сердце. Чем все это кончится? Нет уже прежних встреч. Не бродят они вместе по городу, по лесу, как в Нальчике. Она изменилась. «Здравствуй и прощай» – и улыбка, словно простому знакомому. Конечно, ей не до него, она завалена работой, у нее дети. Нужно бы откровенно поговорить, но он боялся разговора. Без надежды нельзя жить. А Юлинька уже однажды сказала: «Я для тебя конченая». Нет, нет, дети не могут помешать! Он согласен воспитывать их целый десяток. И тут же поймал себя на том, что ему страшно: двое детей в семье! Возиться с ними… Он торопливо отогнал эти мысли. Погладил руку Юлиньки. Лайковая перчатка настолько тонка, что она теплая, прогрета рукой. Виднелись все изгибы, выпуклости на пальцах, на ладони, как будто просто Юлинька обмакнула руку в коричневую краску.
Алеше все показалось безнадежно запутанным. Он бессилен перед этой путаницей. И опять почему-то вспомнились дети. Он потер висок.
Саня встретил шепотом:
– Тетя Юля, наш Боцман заболел!
– Как заболел? – Юлинька бросилась к Фомушке. Он раскинулся на постели и бредил во сне.
– Что ты, Фомушка? Что с тобой? – Она испуганно прижала к его лбу ладонь. Лоб – горячий и влажный.
Фомушка громко заплакал.
У нее так заколотилось сердце, что и она чуть не расплакалась. Взяла Фомушку на руки, пристроила ему под мышкой градусник, прижала к себе и носила напевая:
Баю-баюшки, баю…
Фомушка уткнул нос в ее грудь, затих, тяжело дышал, порой сильно вздрагивал. А Юлинька крепче прижимала его к себе, желая защитить от всех бед.
…Не ложися на краю.
Градусник показал 39,5. Юлинька испугалась.
Разметался и сладко спал Саня. Одна нога голая. Юлинька, боясь потревожить Фомушку, присела, закрыла ее.
Придет серенький волчок…
Он ухватит за бочок…
Саня спал, поджав ноги, точно бежал куда-то. На спинке кресла – его коричневая вельветовая курточка и пионерский галстук. Лежал на столе портфель с учебниками, раскрытая тетрадь по арифметике. На толстом красном карандаше вырезано: «Саня». Стояла чернильница-непроливашка. На полу валялся циркуль. И милое детство хлынуло на Юлиньку.
Завтра в Ленинграде школа № 11 двадцатый раз отметит свой праздник «За честь школы». Юлинька окончила ее семь лет назад. И каждый год посылала поздравительную телеграмму. Завтра утром тоже нужно послать. Еще осталось пятьдесят рублей. «Ничего, как-нибудь дотяну до зарплаты! Вывернусь!»
Унесет тебя в лесок…
Ах, какое это светлое, беззаботное время! Юлинька тогда была председателем совета дружины. И праздник «За честь школы» всегда открывала она Перед малиновым занавесом появлялись три горниста. Один – самый маленький, и самый умный, и самый красивый – Коля Зырянов, или, как все его звали, «Зыря».
Выходила и она, Юлинька, и звонко командовала: «К выносу знамени приготовиться!» И все вставали. Оглушительно и радостно кричали медные горны, рокотал барабан. «Знамя внести!» Ребята идут через весь зал с пионерским знаменем…
А потом – школьный вальс! К ней всегда подходил Зыря. Он сейчас геолог и скитается где-то в Якутской тайге, ищет алмазы. Его портрет был в газете. Совсем недавно он прислал письмо: «Но ты – самый большой алмаз, и я, конечно, не смогу его найти».
Баю-баюшки, баю,
Не ложися на краю…
Он сейчас, наверное, телеграфирует из тайги в школу. Смешной Зыря! Это было только раз. Они учились уже в девятом. Однажды катались на катке. Уже потеплело, и лед стал шершавым, рыхловатым. Коньки врезались в него. Юлинька упала. И Зыря, поднимая, вдруг поцеловал ее. Первый поцелуй в жизни. Пришла домой, увидела на столе мамины перчатки и покраснела.
Эх вы, ребята! Ведь и с Алешей у нее было почти как с Зырей. Мило, светло, юно., и только! Ведь она может улыбнуться вам дружески и уйти куда влечет сердце. Хоть и жаль Алешу, но не страшно за него: все впереди, и он встретит настоящую любовь. «Не верю, что у него сейчас чувство на всю жизнь! Как быстро мчится время! Школа, каток…»
Вот через два дня беспечные, веселые школьницы в белых фартуках вспомнят добрым словом и ее, Юлиньку, выпускницу школы. Все-таки актриса!
Придет серенький волчок…
Если б они знали, как иногда бывает трудно! И все дело в деньгах, чтоб им ни дна, ни покрышки. Собственно, жить можно, и не хватает лишь ей. Туфли нужны, платья. И никак ведь не выгадаешь.
И ухватит за бочок…
Вот бы войти в зал с двумя ребятишками и крикнуть всем. «А вот и я! Здравствуйте!» Старый географ, Александр Александрович, а по-школьному Саша, всем объявил бы: «Это наш бывший председатель совета дружины!» И все бы смотрели на нее и ждали: «А ну, хвастайся, что ты хорошего сделала?» А что она сделала? Гордиться-то и нечем! Это Зыре легко: «Алмазы нашел!»
Унесет тебя в лесок…
Фомушка проснулся и захныкал. Хоть бы стрептоцид ему дать! – «Дуреха, дуреха… А еще решила мать заменить! Даже лекарства в доме не имеешь. Разве сходить к Снеговой?»
Рука онемела: Фомушка был тяжелый. Положила его на постель. Боцман лежал с широко раскрытыми глазами. И вдруг Юлиньке показалось, что они упрекают ее. И действительно, что она может дать ребятишкам? Да какое право она имела брать их? Она не умеет обращаться с детьми, не умеет воспитывать. Только искалечит жизнь и себе и им. Ведь она так много занята в театре, что они живут почти беспризорными.
Юлиньке стиснуло горло. Она убежала за пеструю занавеску, уткнулась в Санино пальто, висевшее на стене, и зарыдала. Сказалось все напряжение-прошедшего дня. Сжав зубы, тихонько голосила по-бабьи.
В дверь осторожно постучали, вошел смущенный Караванов.
– Простите, ради бога, Юлинька! – испуганно шептал он, бросаясь к ней. – Я слышу: поете, а потом вот… Три часа ночи, а вы… Что случилось?
Юлинька, в шлепанцах, в шароварах, в свитере, всхлипывала, прижимаясь к пальтишку с вытертым воротником.
Караванов взял ее за плечи, повернул к себе. По лицу ее размазаны слезы, около уха осталось розовое пятно грима, губы некрасиво растянулись, волосы растрепались. Вся она судорожно вздрагивала.
– Кто вас обидел? – нахмурился Караванов.
– Ничего… никто… Уйдите, Роман Сергеевич, – попросила Юлинька и снова уткнулась в пальто.
– Успокойтесь, родная моя. – Он повернул ее к себе, прижал к груди, гладил спину, целовал душистые волосы. А Юлинька говорила, уткнувшись ему в грудь, как маленькая:
– Фомушка заболел… Мне страшно… Лежит не шевелясь, а глаза взрослые, печальные… точно о чем-то думает…
Рукавом свитера провела по мокрому носу с висящей слезинкой.
– И вообще я ничего не умею!
– Так нужно же доктора!
– Ах, где вы сейчас детского доктора добудете? Утром уж.
– Не волнуйтесь. Теперь много есть прекрасных лекарств.
– Если только с мальчиком что-нибудь случится, я не прощу себе этого! – Юлинька сжала кулачки, отвернулась. – Это он простудился на демонстрации!
Караванов подошел к Фомушке. Тот положил под щеку ладошки, серьезно смотрел на него большими глазами.
– Что же это ты, Боцман, раскис, а? – Караванов сел на табуретку.
Фомушка долго разглядывал его. И вдруг протянул руки.
– Что? Ко мне?
Неумело вытащил его из-под одеяла. Боцман был в бумазейной рубашке до пят. Юлинька набросила мальчику на плечи старенькую шаль. Караванов прошелся с ним по комнате, остановился у окна.
Он еще не был отцом. И к детям относился не то чтобы равнодушно, а был с ними лишь мимоходом ласков. Они его не боялись, но и не гнались за ним во дворе, не лезли на колени.
Мальчик был горячий, пухлый, от него пахло парным молоком. Караванов провел рукой по голой, толстенькой ноге и ощутил шелковистую, очень гладкую кожу, маленькую пятку, маленькие пальцы. Неожиданно Фомушка схватил его за шею, крепко прижался к щеке своей упругой, теплой и тоже очень гладкой щекой.
Впервые Караванова обнял ребенок, впервые он услыхал стук его маленького сердца. И что-то горячее, бесконечно-нежное, любящее могуче и мягко ворохнулось в душе. И впервые он понял отцовское чувство. Он бережно, с замирающим сердцем потерся губами о пухлую щеку, увидел нежнейшую детскую шею и, едва касаясь, поцеловал ее. Ухо его щекотали прядки паутинисто-мягких волос. Они пахли, как воробышек. И Караванова наполнило желание оберегать это хрупкое существо. И именно эта беспомощность так была мила. Стоять на защите ее это и есть, наверное, частица отцовского счастья.
– Вот так-то, друг мой Боцман, – глухо проговорил Караванов. – Видишь: ночь уже, скоро утро, а ты все не спишь… решил болеть… Как же это, братец?
Караванов принес стрептоцид, и Боцман удивительно послушно проглотил таблетку.
Юлинька всю ночь дремала не раздеваясь и поминутно вскакивала, когда мальчик начинал бредить.
Утром Караванов вызвал врача. Седая старуха с пронзительными, острыми глазами, с крепким голосом, осматривала Фомушку, а он хныкал, отбивался.
Несколько вопросов Юлиньке, сверкнувший, колючий взгляд – и слова, от которых пересохло во рту.
– Воспаление легких. Немедленно в больницу.
Врач сделала укол пенициллина. Юлинька собрала Боцмана, повернулась к напуганному Сане:
– Хозяиничай. Завтракай. А я из больницы прямо на спектакль.
У нее в этот день было два спектакля.
– Не волнуйтесь! – успокаивал Караванов. Он растерянно топтался около Юлиньки, держа Боцмана на руках. Когда они уехали, дом показался ему тоскливо опустевшим…
Воевода
После премьеры «Оптимистической трагедии» решили начать работу над «Лесной песней» Леси Украинки. Пьеса всем понравилась, и только Дальский выступил против:
– Вы, друзья мои, закусили удила и несетесь галопом! А цветы, которые расцветают на глазах у зрителей? А превращение лета в осень, осени в зиму? А горящая хата? А русалка, которая становится вербой? Это оформление влетит в копеечку!
Тогда слово взял Полибин. На художнике был костюм шоколадного цвета. Правая рука в брючном, кармане перебирала звякающие монетки. Один конец пестрого шарфа переброшен на спину, другой кистями на грудь.
– П-прошу г-господина Д-дальского не в-волно-ваться! – заговорил он, улыбаясь. – В-ведь я же буду оформлять! Я! – кокетливо взбил волосы на висках. – П-поняли? Я оформляю, значит нечего в-вам б-беспокоиться!
Актеры засмеялись.
– Дирекция будет д-довольна – художник м-мало истратит д-денег, артисты б-будут д-довольны – художник сделает хорошее оформление. М-можете п-поверить Полибину!
Любуясь собой, он пошел на место. Актеры зааплодировали. Художника уважали за талант, хоть он и любил произвести эффект, похвастаться.
Ждали распределения ролей, волновались.
Ждал, волновался и Северов. Образ парубка Лукаша тронул в душе самое сокровенное. Ложась спать, развернул пьесу и увидел этого парубка до мельчайших черточек. Долго ворочался ночью, уныло думал: «Не дадут!»
Утром, придя на занятия политкружка, Алеша увидел, что артисты толпились у доски объявлений. Сразу стало жарко, но он шел к доске медленно, спокойно.
– Что новенького? – спросил он небрежно.
– Поздравляю, Алешка! – схватил его руку Никита. – С тебя пол-литра!
Слыша, как бьется сердце, Алеша посмотрел через головы стоящих. Висело распределение ролей. «Лукаш – арт. Северов», – прочитал он.
Лампочка, которая была когда-то окрашена синей краской, а потом эту краску пытались соскоблить, даже эта лампочка в синих полосках и пятнышках сияла радостно, подмигивала: «Не осрамись! Не провали!»
Только немного расстроился и то на минутку: главную роль молоденькой лесной русалки Мавки играла Чайка.
Одни отходили счастливые, другие – возмущенные, но те и другие – внешне спокойные.
Собирались в репетиционной комнате.
В большом окне мелькал мелкий снег. Он сыпался стремительно и косо, похожий на белый дождь. Но никто не видел его. Сидя за длинным столом, все смотрели на Воеводу.
Вот он грациозно пробежал на цыпочках, легко и ловко подпрыгнул, и перед актерами возник кокетливый щеголь черт: хихикал, увивался около русалки.
Вот изогнулся, лицо стало угрюмым, захохотал, заухал, и все увидели Лешего, хозяина леса.
А вот сгорбился, голова затряслась, глаза блеснули тускло и злобно. По комнате проволочил ноги дряхлый Водяной.
Замер, потянулся к Воеводе Сенечка.
Смягчилось, стало добрым лицо Чайки.
Касаткин, который и минуты не мог посидеть спокойно, задумчиво улыбался.
С интересом слушал Караванов.
И даже Дальский увлеченно смеялся.
Алеша видел дружную семью. Он тихонько вздохнул и благодарно посмотрел на режиссера.
Воевода не любил долго разбирать пьесу за столом. Уже через неделю вышли на сцену. Вместо скал рабочие нагромоздили какие-то ящики, лестницы. Вместо леса поставили несколько ободранных бутафорских деревьев с ветвями из толстой проволоки, обмотанной тряпками.
– Разбудите же в себе художника! – заклинал Воевода актеров, стоя перед ними на сцене. – Древние астрономы говорили на звучной латыни: per aspera ad astra! По терниям – к звездам! Запишите в своем сердце эти гордые слова! О великом актере сказано: «Игра Кина производит такое впечатление, как будто вы читаете Шекспира при блеске молнии». Стремитесь к яркости замысла и яркости выражения! Сочней, интересней! Серенькое, будничное, заурядное враждебно духу театра! Романтической театральности требует наше время! Время великих революций, время атомной энергии, время подготовки к полетам на Луну и Марс!
Маленький, стремительный Воевода как бы вырастал, глаза его горели.
– Саади сказал мудро: «Вы говорите: время идет; безумцы, это вы проходите». Так не пройдите мимо своего мига! Скажите слово! Прочитайте Шекспира при блеске молнии! Репетировать, друзья, репетировать!
Оттопыренные карманы пиджака его тарахтели. Он каждый раз по рассеянности забирал спички у всех актеров.
– Самые большие краснобаи на свете – это режиссеры, – буркнул Дальский Караванову.
– Пускай! Нашему брату это нужно для затравки. Воевода молодец! На его репетициях нет скуки, всегда огонек. Шум, споры!
А Воевода действительно, если нужно было, мог рассказывать актерам о политике Нерона и о древних поэтах Китая, об античных ваятелях и о косторезах Якутии, о сельском хозяйстве и о нравах египтян, о меченых атомах и о выделке кожи. Он сыпал цитаты из Фирдоуси, из индийских йогов, из корана, из писем Флобера и из сотен других редких источников.
Исключительная память, необыкновенная любознательность и необходимость рыться в книгах помогли Воеводе накопить обширные знания. Он был набит ими, как мешок зерном.
И Северову нравился этот фантазер.
Воевода на репетициях бегал как одержимый, показывал, хвалил, ругал. Он до страсти любил острую, яркую форму, ненавидел все нудное, серое.
Он был настоящим диктатором и требовал полного подчинения своим замыслам. Из-за этого часто вспыхивали ссоры и даже скандалы, кто-нибудь начинал бунтовать.
Поэтому Воевода любил работать с молодежью, – она была горяча, полна фантазии, свежести и верила ему.
Репетировали сцену лесной русалки Мавки, злыдней и черта Куца, которого играл Касаткин.
– А ну, повторите! – захлопал Воевода. – Касаткин! Начали! Долгополов, не спи, подавай текст!
У Касаткина лицо было уже красное, потное. Он вскарабкался на скалу:.
А Водяной им сено подмочил…
– Не жми на текст! Проще, легче! – Воевода выхватил платок, махал, остужая разгоряченное лицо, и вдруг закричал: – Что ты делаешь? Что ты делаешь?! Это тебе не Островский! Это романтическая сказка! Да еще в стихах!
Касаткин повторил, но опять не получилось.
Воевода бросил пиджак, взлетел на скалу.
А Водяной им сено подмочил! —
крикнул он, хихикая и пританцовывая. Птицей перелетел на соседнюю скалу.
А семена сгноили потерчата!
Ловко прыгнул на сук дуба, свесился вниз.
И Лихорадка треплет их нещадно!
Актеры не спускали глаз с Воеводы.
– Понял? А ты, как медведь! Повтори! Потом один еще потренируйся!
Но труднее всего давались сцены с Чайкой.
Вместо грациозной девушки грузно ходила женщина с сиплым голосом. От нее пахло табаком, и Северова мутило.
Прослушав первую сцену между Лукашом и Мавкой, Воевода долго и мрачно вышагивал перед ними, Чайка и Северов сидели на холмике в цветах. Его пока заменял ящик из-под макарон. Чайка стегала себя по ноге прутом, Северов ломал палочку.
– Вы понимаете, Галина Александровна, что здесь происходит? – резко остановился Воевода. – Весенняя ночь в глухом лесу. Таинственно белеют стволы берез. Вешний ветер вздыхает в ветвях… Свет месяца переливается в чаще, где затаились Мавка и Лукаш… Заливаются соловьи…
Воевода уже увлекся и говорил шепотом. От его слов перед Северовым на пустой сцене ярко оживала ночь. Он даже почуял запах молодой травы, услыхал шелест.
– И вот Мавка, лесная русалочка, впервые охвачена любовью. Эта любовь вспыхнула сейчас, на глазах у зрителей. Трепетная, чистая!.. – Он протянул руку. Сенечка уже знал: подал ему спички. Воевода закурил, сунул коробок в карман. – Начали!
Чайка схватила Северова за шею и поцеловала по-театральному, не касаясь губ. Алеша закрыл глаза, чувствуя весну, лес, ночь, шепнул:
Мавка!
Ты мне всю душу вынешь!
– Хорошо, – еле слышно прошептал Воевода.
Выну, выну! —
громко задекламировала Чайка, —
Певучую себе возьму я душу…
– Не то, не то! – Воевода заметался. – Все наигрыш, правды нет! Одни слова! А что за словами трепещет? Ты живи, а не играй. Говори просто. Слушай партнера.
Чайка сверкнула на мужа глазами и запрокинула голову Северова.
Губы твои зацелую родные.
Чтобы краснели,
Чтобы горели…
– Галина Александровна! – плачущим голосом взмолился Воевода. – Ведь я же говорил: это чистая девочка. Она по-детски восхищается Лукашом. Изумленно разглядывает его лицо.
– А у меня как же? – проворчала Чайка.
– А вы хватаете его, как прожженная в любви матрона! Вместо живого разговора – декламация! Не любите, а показываете, что любите! Перед вами простая, задача: рассмотрите лицо человека, который так восхитил вас!
В середине репетиции Воевода опять застонал, будто ему переламывали кости.
Чайка рванула со своей шеи шарфик.
– С вами немыслимо репетировать! – прошипела она и ушла со сцены.
Воевода пьяными глазами смотрел вслед. Наконец, придя в себя, сказал:
– Покурите!
Забрал у Касаткина спички и ушел.
– Не вытянет она. Слишком тонкая роль, – шепнул Северов Сенечке.
– А зачем бралась? Зачем? – рассердился тот. – С пеной у рта вырывала себе эту роль у Скавронского!
Подошла возбужденная Чайка, прикурила от папиросы Северова и хрипловато пожаловалась:
– Невозможно работать с мужем. Чуть плохое настроение – отыгрывается на мне!
– Не нужно вам играть эту роль, – сказал Сенечка, – не ваша это работа. Откажитесь.
– Ну, знаете ли, не вам судить об этом, – вспыхнула Чайка. – Вы еще зеленый! И говорить с собой в таком тоне я не позволю! – Она стремительно отошла.
– Вот тут и будь правдив, – развел руками Сенечка. – А если бы соврал, похвалил – был бы лучшим другом. Боится правды, как черт ладана!
– Ох, Сенька, наживешь ты себе здесь врагов! – засмеялся Северов.
– А врагов не имеют только безобидные старички!
…Но никакие огорчения с женой не могли охладить Воеводу.
В эту же ночь в комнату Северова постучали. Было три часа.
– Алеша, дорогой, – раздался голос Воеводы за дверью. – Вставай! На том свете выспишься!
Северов оделся и вышел.
Воевода ходил по коридору, ерошил волосы, из кармана пиджака торчала истрепанная пьеса.
– Идем! Понимаешь, родилась мысль… Насчёт финала твоей роли. Но прежде заглянем к Караванову!
Они поднялись этажом выше. Караванов открыл. Он стоял в трусах, босой.
– Родилась мысль! – Воевода отстранил его, ворвался в комнату и начал с грохотом отталкивать стол к стене. Радостно подскочил к Караванову, потрясая руками: – Мы же не так трактовали Лешего! Мы делали его как настоящего лешего из русских сказок! А в сказках он всегда отрицательный тип! Пугало! Страшилище! Одно слово – леший! А в пьесе он благородный! И каким поэтическим языком говорит:
Ты, знать, забыла, что тоска не может,
Не смеет быть сильнее красоты!
– А? Чуете? – кого-то уличал Воевода. – А мы… – и он сильно, как по доске, застучал по лбу пальцем. И вдруг забегал. – Это же философ! Поэт леса! Он царственно величав. А мы делали его каким-то изогнутым, почти на четвереньках! Безумие! К черту! Весь рисунок другой – и внутренний, и внешний. Роман Сергеевич, голубчик, давай-ка пройдем пару монологов – проверим! А то я не засну!
Караванов засмеялся, надел пальто и ночные туфли.
– Алеша, посуфлируй, – Воевода сунул Северову пьесу. Забрал у Караванова спички, закурил, спрятал их в свой карман.
Караванов задумался, гордо откинул голову. Воевода, не замечая, так же откинул голову. Караванов прищурился, широко повел рукой:
Взгляни вокруг – какой повсюду праздник!
Воевода шевелил губами, повторяя слова и жесты за Каравановым:
Лесная роза убралась в кораллы.
…Монолог кончился.
– Ну, что? – торжествующе закричал Воевода, сел верхом на стул, спинкой вперед. – Теперь единство между содержанием и формой! Поэт! Философ! Как, Алеша? Правильно?
Северов кивнул.
Воевода только сейчас разглядел Караванова как следует и рассмеялся:
– Царь! Поэт!
Тот стоял в трусах, в туфлях и в зимнем огромном пальто.
– Черти! Спать не даете!
– Идем, Алеша, к тебе! – Воевода выскочил из комнаты и заговорил на весь коридор: – Ты понимаешь, какая ошибка у тебя? Ты в конце разводишь мне мелодраму…








