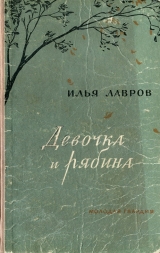
Текст книги "Девочка и рябина"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Чайка
Чайка тревожно посмотрела вслед мужу. Прокусила мундштук папиросы, красный от губной помады.
Комната была увешана коврами, тюлем, салфетками. Белизна скатертей и штор напоминала о первом снеге. Сильно пахло духами. Но сегодня ничто не радовало. При имени Сиротиной у Чайки в душе поднималась мутная волна раздражения, желчи и неуверенности в своих силах. Но в этой неуверенности, похожей на боязнь, она не сознавалась даже себе.
Темнела чугунная пепельница – голая русалка с рассыпанными косами. Чайка положила на них дымящуюся папиросу. В зеркале увидела свое лицо, и тоска охватила сердце.
Когда, два года назад, заметила, что щеки стали немного одутловатыми и обвисшими, а под глазами уже подушечки, а на виске седой волос, она проплакала всю ночь.
Это были самые горькие слезы в ее жизни.
Грозные следы времени Чайка отметила первая. Потом дело пошло быстрее, и уже через два года о ней говорили: «пожилая». Фигура ее становилась грузной. Теперь она даже перед мужем одевалась тщательно. Платья покупала пестрые, косынки светлые. Постепенно Чайка смирилась и только иногда, при виде хорошенькой девушки, сердито смотрела в небо.
Но сегодня впервые до боли ясно почувствовала бессилие перед напором молодости и свежести, которой, конечно, хоть отбавляй у этой счастливицы Сиротиной.
Чайка вздохнула и начала искусно покрывать лицо румянами. Волосы, – щеки, губы, ногти – все теперь накрашено. Это и самой ей противно. Но еще противнее старость, которая брела к ней. Кто же это сказал: «Страшно не то, что мы стареем, а то, что, старея, остаемся молодыми»? И Чайка действительно чувствовала себя в душе такой же, как десять-пятнадцать лет назад. Она была уверена, что на ярко освещенной сцене, загримированная, в хорошем парике, в изящном платье, она выглядела совсем молодой. А когда по роли ей говорили о любви, гибли из-за нее – на миг мерещилось, что все по-прежнему. Нет, она без боя не уступит своего места в театре!
Зажав отверстие в стеклянной виноградной грозди, наполненной духами, Чайка опрокинула ее, несколько раз приложила мокрый палец к губам. Дыхание, смешиваясь с запахом духов, будет свежее.
Прибежала Полыхалова в ярко-желтом платье, усеянном черными цветами.
Почти каждая актриса считает себя «молодой героиней». Полыхалова тоже была уверена, что она создана для ролей «молодых героинь». Но она не только «героинь», но вообще почти ничего не играла. Ее держали только из-за отца – Дальского. Она чувствовала это и злилась, говорила, что ее затирают.
Сначала она недолюбливала Воеводу и восхищалась Скавронским: «Изумительный режиссер!» – а потом, когда он снизил ей зарплату, принялась твердить за кулисами: «Какой это режиссер? Ремесленник!» – и мгновенно сдружилась с Чайкой, увидев в ней союзницу против Скавронского. Теперь она уже везде восклицала: «Воевода – вот это режиссер! Блеск! Кое-кому сто очков даст!»
Но Галина Александровна не любила ее: «Беспринципная! Моментально продаст!»
– Приехала новая героинька-то, – зашептала Полыхалова.
– Уже? – резко повернулась Чайка.
– Вчера. Сейчас удостоилась знакомства с ней. – Полыхалова села на кушетку, закурила, пуская дым через ноздри. Ее желтоватые глаза горели.
Чайка приняла равнодушный вид и, подкрашивая ресницы, спросила небрежно:
– Ну и что же, как она?
– Да нельзя сказать, чтобы «ах». Видно, зеленая. Берут непроверенных, а потом придется снимать с ролей! Ужас! Говорят, Скавронский пригласил ее на роль комиссара в «Оптимистической». И на «Таню». Это безумие! Это просто безумие! Ну, Таня куда еще ни шло! Но комиссар! Женщина-коммунистка приезжает комиссаром – и куда? – к анархистам! – и когда? – во время гражданской войны! Эта банда не признает ни бога, ни черта! А она зажимает их в кулак! Ты представляешь, что это за властная женщина должна быть? А тут выйдет на сцену какая-то девчонка! Да ее сразу же сотрут в порошок! Что только думает Скавронский? Ей не комиссара, а гимназистку играть!
– Да-a, Скавронский может обжечься! – задумчиво согласилась Чайка.
– Я голову даю на отсечение, провал обеспечен! Уж кому как не тебе играть эту комиссаршу!
А сама думала: «И Чайка не сыграет. Я должна играть!»
– Между прочим, любопытная деталь: у этой Сиротиной внезапно умерла сестра, вдова. И Сиротина взяла ее мальчиков. Один одного меньше. А самой-то Сиротиной всего двадцать четыре. И вдруг себе на шею – двоих! Связала руки! Попробуй-ка выйди замуж с таким колхозом. И чего, спрашивается, жизнь свою калечит? В детдомах очень хорошо. Есть прекрасные интернаты. Старшего могла отдать в Суворовское. А тут еще ей такие роли! Не представляю, как она сумеет сразу и работать и возиться с ребятишками! Ведь их нужно накормить, напоить, обмыть, обшить!
Чайка перестала пудриться, слушала с интересом.
Все в театре после ремонта сияло: фойе, зал, лестницы, мебель, люстры. Стены – нежно-салатного цвета, огромные окна – от потолка до пола. Гардины, шторы – из белого бархата. Вдоль стен – пальмы с волосатыми стволами. До блеска натертый паркет слегка пружинил и поскрипывал, как будто обувь у всех была скрипучей.
Среди фойе – ряды тяжелых буковых стульев, перед ними – стол, накрытый голубой бархатной скатертью.
Всюду группками – нарядные актеры.
Первый сбор всегда торжественный, волнующий. И Чайка тоже заволновалась, как молоденькая. Какие же роли ждут ее? Будет ли удачным новый сезон? А вдруг, получив хорошую роль, провалишь? И что за новички приехали? Способные, плохие? Она понимала, что те волновались еще больше: как-то примут в коллективе? Какие роли дадут? Какая здесь режиссура?
Новички скромно держались в стороне.
Чайка рада была встретить их приветливо и только о Сиротиной не могла спокойно думать. При одном ее имени сегодняшний праздник вызывал раздражение.
Беспокойно поглядывая на новичков, Чайка рассеянно здоровалась со старыми работниками.
Ей послышался смех. Наверное, это смеялась Сиротина, которую окружила молодежь. Приятный голос казался Чайке противным.
Ей понравился Касаткин – смешной толстяк в клетчатом костюме. Он и здесь отыскал знакомых, шумно разговаривал, рассказывал анекдоты о «бирже», и все вокруг смеялись, и всем почему-то стало ясно, что он хороший актер, хороший парень и хорошо, что он приехал.
– Познакомьте же меня с новичками! – попросила Чайка.
Касаткин повел ее к Юлиньке с Северовым, сунул в рот папиросу, как всегда, на ходу лихо чиркнул спичкой о подошву, закурил. – Все это он проделал с особым щегольством виртуоза-фокусника.
Чайка стремительно окинула взглядом Юлиньку с головы до ног, ее лицо, фигуру, платье. Серебристо-серое платьице с голубыми пуговицами, такое легкое, что его можно зажать в кулак и спрятать в карман. Чайка почувствовала, что ей противно это платье, эти пуговицы. Самой стало неприятно от такого чувства, и она постаралась отделаться от него.
– Ну, как доехали? Измучила дорога? – спрашивала Чайка, улыбаясь, пожимая руку. – Мы ужасно далеко от Москвы! Но, ничего! Будет интересная работа – и город понравится, и все будет хорошо. Климат здесь изумительный! Сухо, солнечно!
Когда Чайка отошла, улыбка мгновенно слиняла, а лоб наморщился. Ее почему-то наполнило отвращение к себе, ко всему на свете. Она уже не стыдилась и не скрывала от себя, что завидует, что боится этой девчонки.
Когда услыхала, что Караванов восхищается Сиротиной, ее голосом, обаянием, она с откровенной злостью подумала: «Чего здесь ахать и охать? Наверное, по сцене и ходить-то не умеет!»
Сенечка Неженцев уже вступил в свои права помощника режиссера. Он захлопал в ладоши, пригласил занять места.
Чайка села среди актрис. И ей было приятно, когда Полыхалова прошептала:
– А она, девочки, ничего, но красивая мордочка – это много для мужчин и мало для сцены.
Чайка, глядя на ее пеструю шею, спокойно возразила:
– Актрису нельзя судить по внешности, нужно судить по игре. Может, она окажется и хорошей артисткой. Дай бог! Можно только порадоваться за театр.
Полыхалова переглянулась с соседкой.
Алеша, Касаткин, Юлинька, Неженцев сели в последнем ряду. С ними устроился и Караванов.
Простучал тростью, хрипло дыша, главный режиссер Скавронский. Директор был в Москве, на курсах, и режиссеру пришлось замещать его.
У Скавронского подбородок двойной, нос мясистый, синеватый, седые брови нависшие, из-под них сверкают холодные, умные глаза. Толстый, в непомерно широком, длинном пиджаке, он сидел, зажав коленями черную сучковатую трость. Большие руки лежали на львиной голове набалдашника.
Чайка покосилась на него и отвернулась.
Мрачно прошагал Воевода. Он был маленький, а шаги делал большие.
Надев очки, уверенно подсел к ним Белокофтин.
Скавронский тяжело встал, поздравил коллектив с началом сезона, заговорил о плане работы.
Чайке противен был его урчащий голос. Она смотрела в окно на облака. Голова разболелась. Проглотила таблетку и вышла из фойе.
Зеленый кабинет
После собрания Скавронский и Воевода закрылись в кабинете.
Стены его зеленые; ковер, шторы, гардины, сукно на столе, абажур – все зеленое.
Утверждали распределение ролей.
Скавронский на роль комиссара назначил Сиротину.
Темное лицо Воеводы, с синеватым подбородком, потемнело еще сильнее. Он настаивал, чтобы Чайка играла в очередь с ней:
– У Галины Александровны эта роль играна. И удачно играна! – И так чиркнул спичкой, что выбил из пальцев коробок. Поднял, снова чиркнул и снова выбил. Наконец закурил, выпустил струю дыма.
Скавронский, едва уместившийся в кресле, шумно дышал, положив руки на львиную башку трости. Его мясистое зеленоватое от абажура лицо стало сонным. В театре знали: интересен ему человек – он весь искрится, голос урчит. Не интересен – лицо сонное, голос тягучий.
Когда-то Скавронский был доктором, но страсть к театру привела на сцену.
– Вы меня удивляете, уважаемый Василий Николаевич, – говорил он сухо и тягуче, – ведь вы же опытный режиссер и сами должны видеть, что Чайке роль эта не по силам. Ну, как вы, ей-богу, можете настаивать? Вместо того чтобы убедить перейти на характерные роли, вы потакаете ее заблуждениям.
– Это ваше мнение! Это ваш вкус! – Воеводу бесило сонное лицо и безразличный голос. – А почему ваш вкус должен быть безупречным? Вы слишком смело беретесь выносить приговор актрисе. Я бы, знаете, не решился! Правда, это пустяк: искусство, судьба человека! Но все-таки я бы не стал рубить сплеча, как в кавалерийской атаке. Другое дело сапоги – повертел, погнул подошву: плохо! Нет, пожалуй, и здесь бы еще подумал. Сапожник ведь тоже человек, если это, извините, что-нибудь значит!
Лицо у Скавронского стало совсем сонным.
– Может быть, мы задорные мальчики и собрались на поединок остроумия? Мы говорим о деле. Не может Галина Александровна занимать место молодой героини. Давайте прямо говорить: она уже вышла из этого возраста. Просто по внутренним, да и по внешним данным ей не поднять эти роли. Я вас огорчу: это мнение большинства в коллективе. Неужели вы не согласитесь, что у нас умные люди?
– Один товарищ сказал мне: «Ты умный человек!» – «Почему?» – «Ты думаешь так же, как я!.. А Петров дурак!» – «Почему?» – «Да он всегда не согласен со мной!..»
У Скавронского в глазах заискрился интерес, и он заурчал:
– Недурно.. гА почему вы ушли из Калуги?
– Не понравилось! – огрызнулся Воевода, отводя взгляд.
– А из Курска? Из Самарканда? Из Тюмени? Из Грозного? И даже из Тобольска? – Глаза под нависшими бровями веселились.
– Ну, ну, продолжайте, продолжайте! – прищурился Воевода.
– Из-за жены вам приходилось уходить, – голос снова стал тягучим, а лицо сонным. Даже глаза закрылись. – Дорогой мой, не нравится она публике. Не может она решать серьезные творческие задачи. И потом, все-таки спектакль ставлю я. И у меня есть свое видение образа комиссара, уж не обессудьте!
…Неженцев вывесил распределение ролей. Комиссара играла Сиротина. Северова «вводили» в старый спектакль «Поздняя любовь» на роль Дормидонта.
Корабль с алыми парусами
Юлинька и не знала, что история с детьми всех тронула.
Утром в фойе собралось несколько актеров. Заслуженная артистка Снеговая, громоздкая, величавая старуха с большущими глазами, рассказывала:
– Сегодня глянула: идут всем семейством! Ребятишки чистенькие, веселые, одно загляденье. И сама она красивая да нарядная. И совсем еще девчушкой выглядит. Идут и все трое заливаются, хохочут. Видно, какие-то побасенки рассказывает… Помочь бы ей нужно. Хорошие парнишки! Ничего, вода выпоит, хлеб выкормит – люди будут!
Юлинька, поддавая ногами шуршащую листву, бежала из детсада. На висках ее прилипли мокрые колечки волос. За эти три дня совсем вымоталась: водила Фомушку от доктора к доктору. Наконец все справки были получены, и сегодня он в садике.
Старший Саня уже учился. И здесь все утряслось. Купила учебники, тетради, ручки, пенал. Нужно еще подумать о зимнем пальто для Сани. У малыша, слава богу, есть.
Никогда Юлинька не занималась хозяйством, и вдруг на нее обрушилось столько дел! А в общем-то не так страшен черт, как его малюют.
Придя домой, Юлинька остановилась среди комнаты и стала прикидывать: как бы получше разместить кровати? Две помещались, а еще одну, хоть плачь, невозможно втиснуть. Разве убрать стол? Не поможет.
В дверь постучали. Вошли Дьячок с Каравановым.
– Ну, как устроилась? – Людям, которые нравились ей, Дьячок сразу же говорила «ты».
– Еще только ломаю голову, как устроиться! Раскладушка торчит посередине! Пройти негде!
– Да, задача! – пробасил Караванов, оглядывая комнату. – Один выход: сделать полати!
– Хорошо бы! – засмеялась Юлинька.
Жил на свете капитан,
Он объездил много стран, —
замурлыкал Караванов.
– Та-ак, – он переглянулся с Дьячок, – что ж, придется заняться выселением буржуев! Хватит, попили народной кровушки! Я тут знаю типа – вредный элемент, – один занимает комнату в четыре раза больше вашей!
– Под корень его! Вытряхнуть! – оглушила Дьячок. – Идемте смотреть!
– Что вы, что вы, неудобно! – воскликнула Юлинька.
– Все удобно, когда восстанавливается справедливость! – И Караванов взял ее под локоть.
Комната его была рядом.
– Вот, маленькая мама, и перебирайтесь в эти хоромы! Они свидетели моих горьких сиротских стенаний! – Караванов посасывал трубочку. – Пусто, как на футбольном поле, когда стадион закрыт. Один стол-бедняга испуганно жмется в углу.
Среди комнаты на козьей шкуре лежал рыжий сеттер Гарун.
– Единственное украшение! – потрепал его Караванов.
– Честное слово, мне неудобно вас беспокоить! – нахмурилась Юлинька. Она не выносила благодеяний.
– Переезжай, не глупи! – дергала ее за платьице Дьячок.
– Вы, должно быть, воображаете, что я приношу великую жертву? – дружески улыбнулся Караванов. – Э, нет! Я не дурак: я выгадываю. Маленькую комнату легче мести!
Он говорил так просто, искренне, что Юлинька согласилась:
– Что же, придется вас выручить!
Караванов смотрел на нее веселыми глазами.
А минут через десять в комнату к ней вошли, толкаясь, Алеша, Никита Касаткин, Сенечка и Вася Долгополов.
– Юлия Михайловна! – Сенечка сдвинул кепку на затылок. – Во-первых, я – новый комсорг, а вы – новая комсомолка!
– Очень приятно. Садитесь, товарищи!
– Во-вторых, комсомольская организация берет над вами шефство! Я не шучу! Всего у нас семь комсомольцев. Не густо. В данном случае мной мобилизовано четверо. Объявляю воскресник по вашему переселению!
– Вы меньше говорите, больше делайте! – появился в дверях Караванов. – Прозаседавшиеся!
– Ну, если так – действуйте! – вскочила Юлинька. – Алеша, Никита, берите мою кровать – и долой ее! Прямо застеленную!
– Раз, два! Взяли! – запел Касаткин. Кровать накренилась в дверях, подушки поползли, но Караванов подхватил их и унес, прижимая к груди.
Юлинька посмотрела ему вслед.
– Сенечка, Вася! А вы раскладушку!
Уплыла и раскладушка…
Через час Караванов, дымя трубкой, ходил по своей новой комнате. Здесь еще пахло духами Юлиньки, но он не открывал окно.
Над кроватью повесил акварель: Волга в оранжевых бликах заката, на ней белый пароход, а на пароходе капитан с трубкой, очень похожий на самого Караванова.
За стеной слышался стук молотка. Сенечка с Долгополовым натягивали пеструю занавеску, отгораживали небольшую кухню.
– Что еще делать – говори! – шепнул Алеша.
Юлинька, взъерошенная, с головой, повязанной платочком, с засученными рукавами, стояла посреди комнаты.
– Сходи, ради бога, на базар. Приволоки мне картошки и луку. Не трудно?
– Что за вопрос, сеньора! – воскликнул Никита. – Повелевайте!
Приятели схватили авоськи…
Дьячок привезла из театра стулья, старенький шифоньер и кокетливый столик. Он был сделан для спектакля «Стакан воды» и стоял в покоях королевы. Его гнутые ножки обвиты серебряным шнуром. По бокам висели золотистые кружева, выпиленные из фанеры.
– Это, мать, будет твой туалетный столик!
Прихватила она и ширму из какого-то японского спектакля. Створки ее сделаны из «бамбука» – ловко выточенных и окрашенных сосновых реек. На этот «бамбук» натянут голубой шелк, а по нему масляной краской нарисованы розовые драконы и розовые лотосы.
Юлинька поставила к своей кровати королевский столик и отгородила ширмой. В комнате сделалось совсем уютно.
Зашел Скавронский, проурчал:
– Как самочувствие?
– Ничего!
Юлинька штопала чулки Фомушке.
– Понравился город?
– Еще не разглядела!
– Не нужно ли что-нибудь?
– Пока нет. Спасибо.
Скавронский смотрел с любопытством. Он принес ей пьесу и перепечатанную роль комиссара.
На щеках Юлиньки проступил румянец. Нитка запуталась узлами.
Режиссер потрепал ее мягкие волосы и ушел.
Появилась Снеговая.
– Цветов тебе надо, хозяюшка, цветов! – Ее низкий голос звучал добродушно и грубовато. – Где дети, там и цветы! Готовить-то умеешь? Или показать?
– А у нас меню простое: щи да каша! – засмеялась Юлинька.
– Ну, ну, смотри, голубушка! Если чего нужно – посуду там, или ванну, или таз, – сейчас же ко мне.
И без церемоний! Ребятишек растить – не семечки щелкать. Наплачешься! Наревешься! То нужно, другое нужно – никаких денег не хватит. Если куда идешь, а парнишек оставить не с кем, – тащи ко мне! Я пятерых вырастила.
Вскоре Северов и Никита, красные от натуги, притащили огромный, шуршащий фикус в кадке – подарок Снеговой.
Пришла одевальщица Варя. У нее маленькое личико с тяжелыми мужскими бровями. Плутоватые глаза близко прижались к переносице, как будто один глаз хотел заглянуть в другой.
– Меня Неженцев мобилизовал, – она украдкой с любопытством шмыгнула глазами по комнате, – говорил, чтобы я помогла, если что надо… Ну, например, пол вымыть или за мальчиком в садик сходить.
– Что вы, что вы, спасибо! – замахала руками Юлинька. – Я же не больная! Сама все сделаю!
Когда Варя ушла, Юлинька уткнулась в подушку. Но это не были горькие слезы… Тут же вскочила, отерла лицо. Надо готовить ужин. Бежать за Фомушкой. На миг стало страшно: не хватит времени для работы над ролями! Сейчас бы сидеть за пьесой, над книгами…
Она потерла подбородок о плечо: руки грязные – чистила картошку. С грустью посмотрела на пальцы. Еще недавно они были такие белые, красивые, гладишь по шелку – скользят, а сейчас – нельзя: цепляются. И коричневые от картофельной кожуры. Попробуй-ка отмыть. А актрисе нужны хорошие руки, на сцене все видно.
– Ну, ничего! – уговаривала себя Юлинька. – Утрясется! Нужно только, чтобы и минута не пропадала. Попозднее ложиться, пораньше вставать!
А отчего же такой милой стала комната? Отчего сердце вдруг счастливо заныло? Юлинька, перебирая в воде очищенную картошку, огляделась и поняла: у дома стояло несколько раскидистых желтых тополей. Они пустые, тихие. И только тополь у ее окна почему-то облюбовали воробьи. Облепили все ветки, дрались, перепархивали, сыпали в окно такой щебет, что можно было подумать: листва бронзовая, ее трясут, и каждый листок звенит, звенит…
Окно загорожено ширмой. Сквозь просвеченный шелк увидела проносящиеся тени птиц. И Юлиньке показалось, что они учинили драку и звонкий гвалт на королевском столике, на ее кровати за ширмой.
В новую квартиру ребята вбежали с воплями радости.
Вечером они сидели за круглым столом без скатерти и лепили коробочки и домики. На столе и на полу сугробы из обрезков бумаги. Валялся опрокинутый стул. Посередине комнаты сгрудились сандалии. Лязгали ножницы, клей засыхал на пальцах пленкой.
Фомушка, без рубашки, босой, в красных мохнатых шароварах с черными коленками, кричал:
– Я не соглашивался закрывать глаза!
Саня, в зеленых шароварах, в колпаке из газеты, не уступал:
– Ага! Ишь ты! Так и я могу! Хитрый какой! А ты зажмурься!
– А ну, что это у вас там за схватка? – крикнула Юлинька из-за занавески.
Босая, в фартуке, набрав из кружки воды в рот, Юлинька опрыскивала фикус, и он, освеженный, сиял яркой зеленью. В тазу плавала тряпка для мытья пола.
Целый день Юлинька прибирала, мыла, даже спина разболелась. Кладя руки на поясницу, Юлинька перегибалась назад.
Ребятишкам уже пора спать, но их не так-то легко уложить.
Подошел Саня.
– Давай что-нибудь и я буду делать, – предложил он.
Тихий, по-взрослому серьезный, Саня был ее верным помощником. Он бегал в магазины, следил за братом, умел варить кашу, мыть пол. Когда внезапно, от разрыва сердца, умерла мать, его охватил страх: в огромном, чужом мире он остался один с маленьким братом.
Юлинька приехала на похороны сестры. Увидев бледных, напуганных, страдающих детей, она заплакала и сказала, что никому и никуда не отдаст их. Саня, словно к матери, прижался к ней. Он следил за каждым ее движением. Однажды здоровый парень кинул в воробья коркой хлеба и случайно попал в Юлиньку. Саня, как маленький тигренок, бросился на него. Юлинька едва оттащила.
Теперь он уже стал израстать, был тонкий и долговязый.
– Давай я буду мыть цветы! – предложил он.
Юлинька улыбнулась, брызнула в него.
– Обганивай меня! – закричал Фомушка и с грохотом уронил стул.
Саня выскочил из-за занавески.
– Чего ты тут, как маленький! У тети Юли голова уже трещит!
– Ребята! А вы слыхали о корабле с алыми парусами? – крикнула Юлинька и с шумом пустила воду на фикус. С ветвей, как после дождя, сверкая, сыпались капли.
Юлинька вышла на середину комнаты, держа пустую эмалированную кружку. Ребята окружили ее. Фомушка смотрел, приоткрыв пухлые губы. Его шаровары сползли, обнажив выперший живот.
Юлинька, присев, подтянула их, поправила чубчик.
Саня пристально следил за ней, она всегда придумывала что-нибудь забавное.
– Был на свете такой корабль с алыми парусами, – начала Юлинька таинственно.
– А зачем они алые? – Фомушка вечно задавал вопросы.
– Для красоты! Скользит по морю, а паруса горят, как пламя. От них на корабле все белое становится розовым. На воде рядом с кораблем красная тень плывет. Об этом даже книга есть. Кругом вода, блеск солнца! – Юлинька повела рукой с кружкой, превращая комнату в океан. – А корабль, гордый и стройный, мчится в Африку. На ее берега к океану лунными ночами выходят львы. Из джунглей. Тихо. И матросы на корабле слышат их рев, видят зеленые огоньки глаз!
Радостный Фомушка сел у ног Юлиньки, снизу смотрел ей в лицо. Он почему-то всегда радовался.
– А потом корабль несется в Индию за слоновой костью… и за корицей! Там есть большая роща… из одного дерева!
– А как это? – спросил Фомушка.
– Молчи ты! – тихонько прикрикнул Саня.
– Стоит дерево. Ветки его свесились до земли, коснулись ее и тоже пустили корни, стали стволами и развесили свои ветви. Те опять коснулись земли, пустили корни, стали стволами. И так без конца!
– А почему?
Саня только глазами сверкнул на брата.
– Так уж природа сделала… А на корабле все матросы отважные, веселые, дружные. У них… капитан с трубкой… Он мог схватить льва, поднять в воздух!
– А почему?
– «Почему, почему!» – передразнил Саня.
– Потому, что он сильный и смелый. Давайте так жить: как будто мы на корабле с алыми парусами! Мы все отважные, веселые, дружные!
Юлинька говорила горячо, ее большие темные глаза сияли. Она опустилась на корточки перед ребятами.
– Ага, давайте! – всё радовался Фомушка. – А зачем?
– Чтобы интересно было! Будто мы все плывем и плывем! – объяснил Саня.
– Только все должно быть, как на корабле! Порядок, дисциплина! Фомушка, где твоя дудка?
Фомушка на четвереньках пробежал до кровати, нырнул под нее и принес жестяную дудку, окрашенную желтым лаком.
Юлинька вытерла ее фартуком и задудела.
– На корабле все делается по свистку боцмана! Капитаном у нас будет Саня. Он старший, – Юлинька поправила воротничок на рубашке Сани. – На корабле капитану все подчиняются с первого слова. Так заведено у храбрых моряков!
– Тетя Юля, а я кем буду? – радовался Фомушка.
– А ты будешь боцманом. Капитан дает приказ: свистать всех наверх! Ты дудишь, и все выстраиваются. Как будто много-много моряков!
С часок поиграли в корабль и матросов. Наконец Юлинька мигнула «капитану». Он скомандовал:
– Свистать команду наверх!
«Боцман» затрубил.
– Матросы! По койкам! – и оба моряка начали торопливо раздеваться.
Юлинька тихонько засмеялась. Когда подтерла пол, почувствовала, что совсем устала. Но нужно было еще выстирать рубашки ребятам.
Пока на плитке грелась вода, полистала пьесу. Октябрьская революция, гражданская война! Это – даже не прочитанное в книгах, это – часть жизни ее семьи. Отец Юлиньки был счастливцем. В дни революции, семнадцатилетним пареньком, он полгода работал в приемной у Ленина.
Бывало, отец интересно рассказывал о солдатах, бравших Зимний, о старых большевиках, о матросах, опоясанных пулеметными лентами, о ходоках из деревень, в лаптях, с жестяными кружками в пустых котомках. Рассказывал, как с ними разговаривал Ленин и как они выходили из его кабинета, потрясенные и счастливые.
Перед Юлинькой возникал бурлящий Смольный, пулеметчики у подъезда, броневики в темноте, выстрелы в Зимнем, Ленин, провозглашающий конец старого мира.
Вода согрелась. Юлинька, стирая, вспоминала отца, прочитанные книги и старалась понять не умом, а почувствовать душой то грозное и прекрасное время.
Полоскала рубашки, выжимала их, развешивала на веревке, выносила воду, но все это делала механически. Ее заполняло другое: как она сыграет комиссара.
Шел дождь. Шум его доносился в приоткрытое окно.
Тихонько постучали.
– Алеша?
– Устала? – спросил он ласково и сел на стол против Юлиньки.
– С ног валюсь, – созналась она.
Он посмотрел на ее почти детские, все еще красные после стирки руки, лежащие на книге. И ему стало жаль ее. Он облокотился на стол, разглядывал утомленное лицо и грел о свою щеку ее влажную холодную руку.
– Посмотрим на дождик? – предложила Юлинька.
…Здесь была когда-то парадная дверь. Потом ее заколотили и даже сделали скамейку. Над ней сохранилась крыша в виде козырька. Недалеко горел фонарь на телеграфном столбе. Дождик стучал о каждую крышу по-разному.
С одного бока у козырька свесилось множество тоненьких струек. Эту сторону как будто задернули занавесом из стеклярусных нитей. Занавес двигался, колыхался.
С другой стороны козырька свесилась толстая веревка воды. Она все время трепетала, вертелась, как будто ее сучили. Конец ее звучно шлепал по асфальту.
Юлинька и Северов сидели под этим козырьком. Здесь было уютно и сухо.
Юлинька, вспоминая рассказы отца, смеялась взволнованно и ласково. Роль комиссара начиналась с любви к людям, к Ильичу, к революции.
– А вот о себе он не умел заботиться! И терпеть не мог, когда его пытались выделить среди товарищей!
Она закрыла глаза, боясь, чтобы не вспугнуть то, что оживало в душе.
Дождик уже стих. Стеклярусный занавес стал редеть, из него выдергивали нить за нитью. Наконец посыпались просто капли. А толстую веревку кто-то начал дергать из стороны в сторону, она извивалась, и, наконец, ее растеребили, расплели на несколько тоненьких веревочек. Они уже не щелкали по асфальту, а мягко шуршали. Но вот дождевая вода на крыше иссякла, веревочки разорвались, рассыпались на капли, капли становились все реже, реже…
– Как-то принесли ему ведомость получать жалованье. – Юлинька сквозь говор капель ясно слышала добрый бас отца, видела его морщинистое лицо с пышными усами. – Владимир Ильич получал пятьсот рублей. Смотрит, а стоит восемьсот. Ну, конечно, рассердился. «Это кто вам сказал, что я нуждаюсь в деньгах? Прибавить надо вот этому товарищу! – и он показал на фамилию простого работника. – Это ему надо помочь!»
Алеша понимал, что сейчас у Юлиньки началась работа над ролью. Он осторожно, чтобы не помешать, обнял ее за плечи. Они тихонько качались из стороны в сторону. Широко и мягко дохнул ветер, и под каждым деревом посыпалось. Возникло множество маленьких дождичков. Удивителен был молоденький тополь под фонарем – каждый чистый лист, трепеща, сиял, точно золотой…
Вспомнился тополь среди кукурузного поля. Мелькнула бурка черной птицей…
Алеша почти шепотом стал рассказывать, как он ехал сюда и как он счастлив сейчас и ему ничего не нужно, – только бы вот так всегда сидеть около нее…
Нежность, как теплая ладонь, прошлась по сердцу Юлиньки. В Нальчике она была уверена, что Алеша просто нравится ей, не больше. И что у него тоже нет глубокой любви. Но теперь, когда он ради нее промчался через всю страну, ей показалось, что он для нее дорог. Да, да, любовь нужно ценить. А она, Юлинька, была часто невнимательна, небрежна с ним. И захотелось ей искупить свою вину, отблагодарить за то, что он здесь.
Она гладила его лохматые, обрызганные волосы, целовала родинки на щеке, ласково смеялась, глядя в его глаза в пушистых ресницах.
И снова зашумел дождичек, зашуршал, завозился в листве, как мышонок в газете. И опять спустилась стеклярусная занавеска, и опять кто-то сбросил водяную веревку с крыши до асфальта, принялся вить.
И этот дождик, и эти поцелуи, и этот приезд Алеши… На Юлиньку дохнуло такой прелестью молодой жизни, что ей очень захотелось быть счастливой.
И вдруг поразила мысль:
– А ведь я для тебя, Алеша, теперь уже конченый человек! – Голос ее прозвучал удивленно. – У меня теперь семеро по лавкам! И все с ложками!
– Да нет! От этого ты мне стала только дороже! – клялся Северов.
А Юлинька задумалась. И никак не могла представить себе, чем же все-таки кончится вся их история.
Она почувствовала себя старше Алеши. Он же еще совсем молодой. И совсем мало знает жизнь. И совсем мало знает, как трудно ей, Юлиньке. Да она и сама-то, беря детей, не представляла всех этих трудностей. И только уже теперь все поняла. И перепугалась. Но ведь иначе же она поступить не могла. Она мысленно увидела Саню и Фомушку, и сердце ее заныло от любви и жалости. Она решительно сдвинула брови. И уже убежденнее повторила:
– А все-таки я, пожалуй, конченая для тебя!








