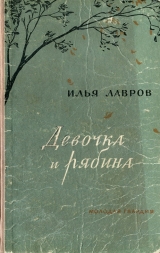
Текст книги "Девочка и рябина"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Для других и для себя
Две недели играли на прииске и две недели лил дождь. Весь июль был полон гроз, молний и оглушительных громов, В это утро дождь внезапно кончился и засияло солнце.
Актерам нужно было немедленно уезжать. Но робкая речушка, на середине которой еще недавно мокли бочки, превратилась в могучий поток. Среди него стояли затопленные рощи берез, осин и лиственниц. Новая, бушующая река смыла мост, километровый кусок шоссе.
Машины не шли. Пешком тоже не пройти. Впереди – поток, позади – сопки и тайга. Прииск был отрезан. Актеры застряли по крайней мере на неделю.
– Это невозможно! Это чудовищно! – хваталась за голову Дьячок. – К черту летит весь план, срываются спектакли, задерживается отпуск!
Дьячок, Воевода и Караванов в «Победе» Осокина помчались к мосту. Мутный поток, шириной с полкилометра, бушевал, кипел. Плыли бревна, кусты, охапки сена, вывороченные деревья.
Дьячок тоскливо взирала на воду.
– Что делать?! Что делать?!
– А вот, что они, – показал Караванов.
Солдаты в большой понтонной лодке, толкаясь шестами, переправляли во флягах молоко и сметану с подсобного хозяйства.
– Гениально! На лодке! Плывем на лодке! – вдохновенно возопила Дьячок, носясь по берегу. – Вон два грузовика на том берегу, они перебросят на станцию.
Привезли актеров.
Полыхалова, увидев поток, даже побелела:
– Вам что, артисты – бидоны с молоком?! Плевала я на ваши спектакли! Мне жизнь дороже! Вот поезжайте и сами играйте. Дураков нашли. Никуда не поедем!
– Да подожди, чего ты раньше времени горячишься? – огрызнулся Дальский. – Здесь тоже сидеть не больно-то сладко!
Алеша страдал: слова, голос Полыхаловой – все мучило, приводило в ярость, ранило сердце. Стоило побыть около нее, и он чувствовал себя разбитым, больным.
– Товарищ Полыхалова, – строго заметила Дьячок, – на это есть коллектив! Как он решит, так и будет.
Полыхалова по-мужски широко расставила ноги, уткнула в бедра кулаки, закричала:
– Коллектив! Тонуть буду я, а не коллектив! Пока здорова – всем нужна, а заболеешь – все спиной повернутся!
– Валентина Петровна, вы не забывайтесь! – резко оборвал ее Караванов.
– Думайте, что говорите! – вспыхнул Воевода.
– Если тебе, матушка, коллектив не по нраву, лучше черкни-ка заявление – плакать не будем. Сыщи себе театр по душе! – рассердилась Снеговая.
– И действительно, слушать противно! – отвернулась Юлинька.
Полыхалова смутилась и сразу же сбавила тон:
– Да ведь, товарищи, поймите…
– Мал клоп, да вонюч, – философски изрек Никита.
Все расхохотались. Полыхалова, красная, уничтоженная, отошла за куст. Ее пестрая шея раздулась.
«А солдаты все видели, все слышали. Усмехаются, – подумал расстроенный Алеша, поглядывая на лодку. – Как же они после этого будут смотреть на нас в спектаклях?»
На душе стало противно и печально.
Годы живет этакая Полыхалова только для себя, а раз для себя, то, значит, живет мелочами, глупостью, отравляет жизнь и себе и другим. Начисто забыла она, что такое жизнь души. Вот сейчас полна бессмысленной злостью, а рядом такое чудо: яркая, промытая трава и огненные саранки торчат из луж. Что ей до этого! Она слепа.
Воевода, Караванов, Алеша Северов, Никита, Долгополов, Сенечка разделись до трусов. Из карманов пиджака у Воеводы посыпались спичечные коробки, поплыли в желтоватых струях.
– Что за черт, – удивился он, – откуда столько их?
Актеры захохотали, схватили его на руки и с гиканьем бросились к лодке; Воевода, поднятый над головами, вырывался, кричал:
– Ненормальные! Я боюсь щекотки!
Звонко смеясь, подняв голубое платьице выше колен, пробежала по воде Юлинька, забралась в лодку.
За ней сели Снеговая и другие женщины.
Северов, злясь, наблюдал, как среди них устроился и Белокофтин. Он испуганно поглядывал на бушующую воду.
Подошел огромный, смеющийся Дальский в одних трусах.
– Да что вы, Павел Николаевич, – обнял его за плечи Алеша, – есть помоложе вас! – Он глянул на Белокофтина.
Тот сделал вид, что ничего не видит и не слышит.
– Раз пошла такая пьянка – режь последний огурец! – лихо протрубил Дальский и, ухнув, окунулся в мутную воду. Струи принесли охапку сена, обкрутили вокруг ног…
– Тебе больше всех надо! – ехидничала с берега Полыхалова. – На дураках всегда ездят!
– Помалкивай в тряпочку! – гаркнул Дальский. – Я ведь волжанин! Тряхну стариной!
Полыхалова и Чайка остались на второй рейс, хотели проверить, чем дело кончится.
На носу и на корме стояли два солдата с шестами. У обоих шоколадные лица и меловые зубы.
Мужчины взялись за борта, и брезентовая лодка тронулась.
И опять перед Алешей открылась чаша, залитая сиянием солнца. И опять по краям ее синели величавые цепи сопок.
Радуга изогнулась ручкой через всю чашу. Один конец был очень близко. Через полосатый, розово-зеленый туман просвечивала опушка и виднелось то место, где радуга упиралась в мокрую траву, пятнистую от ромашек.
И как только Алеша очутился среди всего этого, он почувствовал себя легко, свежо. И так звонко откликалась на все душа, и так ярко видели все прозревшие глаза, и так любило все вздрагивающее сердце. И все чего-то ждало, и все чему-то верило. И такое, оказывается, наслаждение просто идти по земле. Ведь удивительное будущее затаилось где-то там, за сопками, где вечерами струится река золотого света. Туда рвется легкое сильное тело и беспокойное сердце. Но почему-то рядом с этой светлой радостью журчит еле слышимая светлая грусть. Так он чувствовал только в те дни, когда жил по правде, по совести, для людей, а не для себя. Снова душа откликалась на красивое. Он думал, что все на земле, вокруг человека исполнено удивительной красоты. Что это нужно только понять, уловить. А чтобы уловить, нужно иметь чистую душу. С замутненной душой красоту не разглядишь, не услышишь.
На дне чаши неслась, сбивала с ног бурная вода. Ноги путались в высокой траве, поток несся по нескошенному лугу.
Вода доходила по грудь.
Юлинька перегнулась через борт к Караванову, спросила:
– Тебе не холодно?
Он, толкая лодку, улыбнулся и покачал головой.
– Утром я наконец-то дозвонился до пионерлагеря. Ребятишки здоровы. Будь спокойна.
– У меня все сердце изболелось. Скорей бы уж увидеть их, – вздохнула Юлинька.
– Я сам соскучился.
Северов шел сзади и, глядя, как бурлит рассекаемая им вода, все слышал. Алеше стало больно: не с ним говорит она. Тяжело было видеть Юлиньку рядом с Каравановым. Нужно скорей уходить из этого театра, не мучать себя. И в то же время казалось страшным уйти и никогда уже не слышать голос Юлиньки.
В затопленной роще ивняка было особенно опасно. Каждую минуту лодку могло ударить о дерево, опрокинуть. Поток ревел среди стволов, взбивая комки пены. Стихли крики, смех. Даже Юлинька замолкла. Белокофтин побледнел, вцепился в руку Снеговой.
Алеша упирался плечом в борт, не давая лодке мчаться по течению. Ветки, лохматые, с мокрой слипшейся листвой, шлепали по лицу. Ива цвела, пускала пух над водой. Ноги спотыкались о невидимые пни, о кустарник, о корни. Вода крутилась под мышками, как зажатая рыба, бросала в лицо пену, листья, цепляла за шею оторванные ветки и траву. Швырнула захлебнувшегося зайца.
И вдруг дно пропало, все поплыли, лодку понесло. Солдаты уперлись длинными шестами, лица их стали багровыми.
Никиту Касаткина и Воеводу утащило под лодку, выбросило далеко от нее, в том месте, где был затоплен ольховник. Они барахтались в каше из ветвей и листвы.
Внезапно роща кончилась, стало мелко, течение ослабело. Подошли к берегу. Вернее, это был затопленный луг. Из тихой воды, с отраженными облаками, торчали кочки, трава, кустики. До сухого лесистого берега, где стояли грузовики, было с полкилометра.
Женщины подобрали юбки, босые, с чемоданами, зашлепали к лесу. Засучив штаны, поплелся и Белокофтин.
– Знаешь, как это называется? – мрачно обратился к нему Сенечка. – Свинством это называется!
Белокофтин промолчал. Алеша засмеялся.
– Ну и тип! – почти зарычал взбешенный Караванов. – Я его сейчас заставлю весь день работать! – и двинулся следом.
– Подождите! – остановил Алеша. – Ну его к дьяволу! У нас подобралась хорошая компания, а он все настроение испортит одним своим видом!
– И верно! Пусть с глаз исчезнет! – согласился Караванов.
«Перевозчики» уселись в лодку отдохнуть, смывали кровь с разбитых, оцарапанных ног.
– Братцы! Женщины ушли? – раздался жалобный голос Никиты из-за кустов.
– Ушли! – крикнул Сенечка. – А ты чего там?
– У меня трусы сдернуло и унесло!
Касаткин сидел по горло в воде, губы его посинели.
Над рекой прокатился хохот.
– Ну, Микита, вечно ты с фокусами! – закричал Караванов и принялся гоняться за Касаткиным, который визжал по-женски. Воевода схватил его, окунул.
Мускулистый, загорелый до черноты, Воевода казался выточенным из дуба и походил на ловкого подростка. Он все время плавал, с наслаждением бултыхался.
Дальский тяжело и хрипло дышал.
– Сдаю, сдаю. А бывало, на спор пианино мог поднять. И хоть бы что!
Весь день перевозили декорации, ящики с реквизитом, с костюмами. Сложили их среди топи на сухом холме.
На оранжевой полосе зари черная лохматая лиственница выглядела нарисованной. Закат светился между ее ветвями. Это было очень красиво, дико и почему-то тревожно, печально.
Медленно плыли темно-свинцовые облака с алыми гребешками. Ниже их быстро неслось пушистое розовое облачко, а еще ниже, над черными лиственницами, недвижно висела подпаленная закатом клочковатая пряжа.
Северову все мерещился за темными сопками удивительный край с красивыми городами, и сердце рвалось туда. Горло сдавило, глаза стали влажными.
Вот солдаты уплыли. На красноватой полосе резко чернела лодка и две стоящие фигуры. Неслась раздольная песня о Разине.
«Перевозчики» замерзли, комары облепили голые тела. Ушли на сухой берег в лес, оделись.
Алеша, дрожа и улыбаясь, обдирал кору, ломал в темноте сухие ветки с берез. Они стреляли на весь тихий лес. Наконец костер вырвал из мрака сосну и березу с обвисшими до земли ветвями.
Сидели у костра, вытирая носовыми платками и травой мокрые ноги.
В темноте по залитому лугу шлепали, раздавался громкий голос Фаины Дьячок:
– А они обязаны были? Жилы рвались, а переправляли!
Шумя, к костру подошла толпа. Выяснилось, что электрик Пешеходов и его помощник Брызгин не захотели перенести к дороге ящики и декорации. Скавронский попросил их помочь – рабочие сцены уехали с декорациями. Но Пешеходов, здоровый, белобрысый парень с вывернутыми толстыми губами, твердил:
– Это не мое дело. Я электрик, а не ишак! А не нравлюсь – увольте. Меня сейчас же с руками и ногами схватят и мылзавод и кожзавод! Там, если работаешь, так хоть копейку чувствуешь!
– Мы не ишаки! – выкрикивал и Брызгин, сверкая нахальными глазами. Он давно не стригся, жесткие волосы торчали надо лбом и ушами, словно козырек, лезли на воротник.
– Эх, вы! Пошурши я рублем – вы побежите за ним, как собаки за куском. Две души продадите за один пятак! – катился по темным рощам крик Фаины Дьячок. – Вы что, смеетесь? Там одних костюмов на десятки тысяч!
– А мне хоть на миллион! Чихал я с сотого этажа! – Пешеходов, сидя у костра, обувался. – Мне мое здоровье дороже!
– Не мой воз, не мне везти, – бормотал Брызгин.
– А зачем согласились ехать с нами?
– Мы не собирались сидеть раками в болоте.
При виде этих парней у Алеши сразу же исчезло то взволнованное, счастливое настроение, которое весь день заставляло все видеть вокруг необыкновенным.
– Чего это вы ломаетесь? – вскочил он, с ненавистью глядя на Пешеходова.
– Вас это не касается! – огрызнулся тот.
– Как это не касается? Там не дядино имущество!
– Вы понимаете, что говорите? – вмешался Караванов. – А ну-ка, вставайте! И мы поможем!
Из леса вышел Дальский, затрубил:
– Вы это, ребята, бросьте! В коллективе живете, а не в берлоге! Люди, а не волки!
– Не пойдем!
– Не ишаки!
Пешеходов и Брызгин легли у костра, закурили.
– Где ваша совесть? – изумился Воевода.
– Пусть на все четыре стороны катятся! – Северов подвернул до колен штанины, ушел в темноту. За ним двинулись все «перевозчики».
Дьячок побежала в лес – рядом находилось подсобное хозяйство. Нужно было взять лошадь и перевезти имущество к грузовикам.
Алеша с Никитой несли ящик. Грязь чавкала, мокрая трава мела по голым икрам. Оступались в невидимые промоины, ямы.
В темноте вокруг тащили декорации. Северов слышал звучное: шлеп! шлеп! Неожиданно ящик в руках его сильно дернулся, плюхнулся одним концом в воду. Касаткин стоял на четвереньках, изрыгая хулу на весь белый свет. Алеша трясся от хохота.
– Эй вы, черти! Чего там вытворяете? – крикнул из темноты Воевода.
– Касатка искупалась! Жарко деточке стало, хоть и без трусов, в одних брюках!
– Эх, молодежь! – назидательно проговорил из-за кустов Дальский и охнул. Что-то затрещало, плюхнулось.
– Кажется, и мне стало жарко! – закричал он.
Грянул общий хохот.
Алеша с удивлением почувствовал – нет усталости. Весело оттого, что весь день работал. Не за деньги, не для себя. И дороги сейчас эти замерзшие, намокшие «перевозчики».
Испуганно кричала в лесу какая-то птица. Тыркал в траве коростель. Молодо пахло сосенкой, землей, грибами, мохом, гниющими старыми листьями. Могуче и ровно гудела вода.
Алеша почему-то начал торопливо, почти шепотом рассказывать Касаткину о драге, о Кудряше, который смерти не боится, о лесосеке, о работе вальщиков и о том, как не нравилось Осокину, когда мухи садились на розу.
Они отдыхали под огромной сосной. Вершина ее тонула во мраке. Касаткин закурил, поднес горящую спичку к лицу Алеши, серьезно спросил:
– Кто ты: чудак или умница?
– Слушай, Никита! Искусство начинается там, среди людей! – волновался Алеша. По лицу его ползали тени и блики света.
– Никто с этим не спорит! – Касаткин бросил спичку, замахал обожженными пальцами, лег на пружинистый толстый ковер из опавшей хвои и шишек.
Алеша привалился к сосне. Ствол ее был теплый, как тело человека.
– Но все это опять как-то по-твоему… Это же наивно! Какое-то хождение в народ! Выходит, всем актерам нужно бросать сцену и на год подаваться штукатурами на стройку?
Теперь уже закурил Алеша и поднес горящую спичку к лицу Никиты. Язычок пламени качался, трепетал на спичке, освещая лица.
– Пускай! Пускай это мальчишеский поступок! Наивный! Но… он для тебя наивный! – горячился Алеша. Волосы всеми завитками валились ему на лоб. – Ты родился в колхозе! Ты работал в колхозе! Ты жил с теми людьми, образы которых сейчас создаешь на сцене. И другие актеры так же понюхали жизнь. – Огонек повалился набок, затрепетал, как флажок, оторвался от спички, сгинул, и сделалось еще темнее. – А ведь я-то родился за кулисами! И вырос там! И жил все время там под крылышком папы! Какие у меня впечатления? – он звонко шлепал по голым ногам, убивая невидимых комаров. – Театр, спектакли, актеры! Актеры, спектакли, театр! Теперь ты понимаешь, что мне, именно мне, а не тебе необходимо потолкаться среди людей? Ты сам посуди, как мне изображать на сцене тех, кого я не знаю? – С сосны упала маленькая шишка, запуталась в Алешиных волосах.
– И ты думаешь, тебе принесет пользу эта жизнь на прииске? – все сомневался Никита. Спасаясь от комаров, он пускал клубы папиросного дыма.
– Обязательно! Уверен! – Алеша хлопнул ладонью по колючей хвое. – Там для художника россыпи… А потом есть еще одна причина… – тихо добавил он и затянулся папиросой. Из тьмы, слабо озаренное, проступило хмурое лицо. – Я не могу больше работать в нашем театре… Видеть… Ну, сам понимаешь, душа переворачивается… А я вижу ее каждый день. Сколько же можно сходить с ума?
– Махнем в другой театр?
– Эх! Где есть сцена, занавес – там будет для меня и Юлия, все будет напоминать ее… Нет, нет, бросить все, переменить, уйти, уехать, исчезнуть! И ладно! И не будем больше об этом!.. Если бы не ты, я, может быть-.. Мне, может быть, совсем было бы плохо…
Касаткин, очень растроганный, не заговорил, а как-то ласково забубнил:
– Ладно, дьявол с тобой, поезжай. Идеалист. Мечтатель. Вреда, конечно, не будет. Но только заруби на носу: я поджидаю тебя в Чите. Я не уеду, пока ты не очнешься.
– Руку! – радостно прошептал Алеша.
Огни папиросок чертили во тьме круги, зигзаги, сыпали искры: друзья, разговаривая, махали руками.
– А потом вместе укатим в твой Нальчик! И будем жить в одной комнате! – Кругом шлепались невидимые шишки, ударяли по спинам. И для обоих эта минута была дорогой…
…Только перенесли вещи к костру, из леса взвился дикий крик:
– Караул! Спасите! Караул!
Северов вздрогнул:
– Дьячок кричит!
Прыгал через кусты. По лицу хлестали ветки. Запнулся за корень. Упал. Продирался сквозь заросли. Ветви трещали. Вывалился на поляну. Во тьме налетел на изгородь. Кто-то переваливался через нее.
Послышались чьи-то голоса.
– Что случилось? Эй, кто там? – закричал Алеша.
– Отбой! Ложная тревога! – сообщил Никита. Хрюкая от смеха, он лез через изгородь.
В темноте Дьячок не могла добиться на подсобном хозяйстве, где директор, где конюх. Все спали. И тогда она завопила «караул». Сразу же объявились и конюх, и директор.
– Сейчас будет и телега и лошадь, – платком вытирал глаза Касаткин. – Хитрая же баба, я тебе скажу! Авантюристка!
– Не забывай эту ночь! – прошептал Алеша Касаткину в самое ухо, сияя в темноте глазами.
Девочка и рябина
В чаще леса – два санатория: один для военных, другой для гражданских. Каждый имел свой клуб. Северов играл в военном клубе, а Юлинька в гражданском. И устроили их жить в разных местах, и обедали они в разных столовых.
Курорт был переполнен, разместили актеров с трудом: кого в клубе, кого на дачах, кого на застекленной веранде. А Северова, Касаткина и Сенечку Неженцева устроили в поликлинике. В восемь вечера она закрывалась, и приятели хозяйничали там.
В клубе было жарко, душно. В комнате, где гримировались, открыты все окна, дверь. Шлепал, плескался, журчал в темноте дождь. Он то лил обильно, громко, то сеял тихо, нежно.
Полосы света из окон легли на пузырящиеся лужи, на сосновые лапы. Листья ольхи дергались, вздрагивали – в них щелкали капли.
Пахло мокрым лесом и гримом.
Среди комнаты стоял большой бильярд, обтянутый ярко-зеленым сукном. За ним и гримировались. На сукне запестрели газеты, афиши, зеркала, коробки грима и пудры.
У Касаткина была наклеена борода, а усы еще завивали. Белокофтин прилепил только усы, а бороду держал в руке. У Чайки – одна щека розовая, другая белая. Караванов привязывал ватный живот.
Работа началась.
Алеша, улыбаясь, смотрел на всех. Он еще не гримировался, его картина была в конце спектакля.
Шумел переполненный зал. Соскучившиеся курортники встречали спектакль хорошо, много смеялись, хлопали, и актеры играли лучше, чем всегда.
Было празднично-весело.
Двери зала тоже распахнули, и актеры на сцене слышали плеск дождя, далекий шум разлившихся речушек.
Это был последний спектакль Северова. Ночью он уезжал в город брать расчет.
Задумчиво улыбаясь, Алеша быстро ходил из угла в угол. Всех он сейчас любил, все ему были приятны.
– Ах ты, батюшки, – весело вздохнул он и сел и тут же вскочил, подошел к окну, но и здесь не смог задержаться, принялся снова ходить.
– Чего ты маешься? – спросил Касаткин.
Алеша посмотрел на него счастливыми глазами, но они явно не видели Никиту, а видели что-то другое. Взял у Вари огурец, кривой, в черных колючих бугорках, разрезал лезвием безопасной бритвы на две половинки, густо посолил, потер, пока не появилась пена, но тут же махнул рукой, сунул огурец Касаткину, схватил плащ и выскочил. Чувствуя, что больше не в силах пережить разлуку с Юлинькой, шлепал по мокрым тропинкам в гражданский санаторий.
В лесу было темно. Между стволами кое-где сверкали окна дач. По тропинкам хлюпало, в соснах шуршало, между корнями, выпершими, как жилы, плескались потоки.
Он шел, расстегнув плащ, сдвинув кепку на затылок, махал сосновой веточкой. По лицу, по шее, по рукам текло, в туфлях было сыро, а брюки, напитавшись водой до колен, стояли коробом и гремели при каждом шаге, как брезентовые. Было так темно, что порой он натыкался на стволы, попадал в лужи.
У клуба через песчаную аллею бушевали потоки, и нельзя было разглядеть в темноте, куда ступить. Алеша весело побежал по воде, подошел к крыльцу, ведущему за кулисы. Под выступом крыши, в открытых дверях стояли актеры. В темноте виднелись белые пятна платьев и огненные точки папирос. Со сцены доносились громкие, веселые голоса, а из зала – хохот зрителей. Шел водевиль «В сиреневом саду».
Проскользнул на сцену и сразу же увидел Юлиньку. Она всплеснула руками, зашептала:
– Господи! С ног до головы мокрый! Что это погнало тебя сюда?
Алеша показал на сердце.
– Чудак! – Юлинька душистым платочком вытерла его лицо. А лицо было в каплях, как будто он только что умылся.
Алеше вдруг захотелось плакать.
Юлинька насторожилась, послушала, что говорили на сцене и, улыбнувшись ему, убежала.
Он прижал глаз к дырочке в сукне, смотрел, как играла Юлинька. Вдыхая пыль сукна, слушал ее мягкий нежный голос. Он видел, как она брала деревянную ватрушку, а вместо сахара кусочек мела и, делая вид, что кусает их, жевала пустым ртом. Алеша беззвучно смеялся.
Потом Юлинька ушла в крошечную гримуборную, похожую на кладовку.
Алеша стоял, улыбаясь в темноте, а мысли мелькали, как дождик: «Ночь неповторимая. Ветерок из неведомой дали. Юлинька рядом. Музыки хочется. Светлой, печальной. Счастливым быть хочется. Не умею. Не умею… Дождик стучит по крыше. Грустно мне. Последний спектакль. Последний…»
Вошел в гримуборную, снял мокрую кепку, положил Юлиньке на колени мокрую веточку сосны.
– Я уезжаю этой ночью, – сказал он.
– Разве? – удивилась она.
– Ты еще неделю будешь в гастролях с «Трактирщицей», а я свободен и уезжаю раньше.
– Да, да, верно, – согласилась она.
– Я пришел проститься. Мы больше не увидимся. Получу расчет и – на прииск. – Он не спускал глаз с ее загримированного лица.
Она что-то говорила ему, кажется, очень одобряла, а он почти не слышал, он все смотрел и смотрел на ее губы, на ее глаза, на ее брови, стараясь все это запомнить на всю жизнь и думая, что он видит ее последний раз.
Вот Юлинька взяла с колен сосновую веточку и бережно завернула в платочек, и платочек сразу промок от нее. Вот Юлинька встала и подала ему руку.
– Я рада за тебя, – сказала она.
– Мы больше не увидимся! – сказал он.
– Счастливый путь, – сказала она.
– Мы больше не увидимся! – сказал он.
Ему стало страшно от собственных слов. И все его родинки на щеке задрожали. И когда она увидела эти родинки, она сама поцеловала его…
Лежа на диване под пальмой в вестибюле поликлиники, Алеша слушал: тревожно гудела за лесом речка. Неслись в нее с сопок мутные, бурные ручьи, тащили хвою, сучья, грибы. В открытое окно тянуло запахом сырости, сосновой смолы. Все это смешивалось с запахом лекарств.
Сенечка и Касаткин уже спали и только над диваном Алеши разгоралась, тускнела огненная точка.
Три раза пробили бархатно и басовито старинные часы, стоявшие на полу, как шкаф.
Алеша понял, что ему все стало дорогим: и суета поездок, и пустые перроны таежных станций, и эта глухая ночь среди тайги, и это прощание с Юлинькой, и путь сюда с Кавказа, и этот год в театре. Все озарил светлый огонь любви… И уже не мучила мысль, что ему никогда не будет ответа от Юлиньки. Она стала для него тем дорогим, тайным, заветным, что будет освещать всю его жизнь. Любовь – это ведь самое человеческое из всех человеческих чувств.
На рассвете он вышел на крыльцо с чемоданом и увидел дождь среди сосен. Мелкий, моросящий дождик тоненько звенел о лужи. А когда усиливался, лужи начинали шипеть, как нарзанные. И дождь, и синеватый рассвет, и Алеша… они долго были наедине друг с другом. Вспомнился тополь среди кукурузного поля. Мелькнула бурка черной птицей. А кругом над чашей о чем-то милом шептался дождик Родины.
За соснами призывно загудел автобус. Алеша закрыл глаза и ярко увидел девочку в красном платье, похожую почему-то на Юлиньку. Она держалась за тонкую рябину…
Март 1956 – март 1957,
Чита








