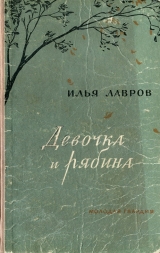
Текст книги "Девочка и рябина"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Капитан и лев
Звенели звонки. Сенечка примчался в гримуборную, закричал: «Сиротина, на выход!» А Юлинька еще не загримирована. Она мечется в ужасе, мажет лицо и вдруг слышит свою реплику. Хочет бежать – и не может. Еле идет к сцене, слышит – там уже замолчали. Долго-долго молчат. Страшная пауза, замешательство, когда не выходит актер. Юлинька в отчаянии рвется, но ни с места… В зале смешки, говор. Наконец выбирается на сцену и чувствует, что забыла все слова роли. Хочет вспомнить их – и не может, хочет бежать со сцены – и просыпается. «Сон! Ох, как хорошо, что это сон!» – вздыхает она. Приоткрыла глаза – перед ней висит зеркало, и в нем отражается окно, заросшее голубыми листьями. Повернула голову – на королевском столике в зеркальце то же окно.
Рано утром она отвела Фомушку в детсад, а потом вздремнула немножко. Потянулась, с удовольствием ощущая свое здоровое тело, горячий прилив сил. Засмеялась, отбросила одеяло, прыгнула с кровати.
На щеке отпечатались кружева. На подушке они белые, а на щеке розовые.
На репетиции Юлинька одевалась в черные шаровары и пушистый белый свитер, на голове – белый шерстяной шлем с ушами. Она становилась похожей на мальчика-конькобежца. Не только мужчины, но и женщины говорили:
– Вы, Юлинька, очаровательны!
Она засмеялась в зеркало, скорчила гримаску, покружилась, глянула в окно.
Радость на душе все прибывала. И эта первозданная белизна первого снега на крышах, и эти занесенные сады, и эти белые лохматые провода – все нравилось и волновало.
Завтра праздник, демонстрация, а вечером премьера.
Роль Юлиньке явно удалась. Она видела это по лицам актеров, да и сама, репетируя, чувствовала себя легко, свободно.
Услыхав за окном крики соседских детей, Юлинька натянула на голову белый шлем и выбегала на улицу.
Морозец легонький, бодрящий. Юлиньку наполнило такое радостное ощущение чистоты и свежести, что она вдруг закричала: «О-го-го-го!» Руки и ноги быстры и неутомимы, тело гибко и красиво, а на душе легко и светло. Юлинька подбежала к сынишке Дальского, повалила в пушистый снег, упала сама. Началась возня.
Потом влетела в комнату, закрылась на крючок.
Мальчик пинал валенком дверь, а Юлинька смеялась, стряхивала с шаровар и свитера снег и кричала:
– Не мешай! Я работать сейчас буду!
Шлем сполз набок, щеки пылали.
Душу охватила беспричинная, легкая печаль.
Юлиньке словно что-то стало жалко или чего-то не хватало, а может быть, сделалось обидно, что никто сейчас не видит ее свежести, что золотые дни могут пройти бестолково, она может прозевать их. Молодость, свобода – вольные птицы на ветке. Посидят недолго и унесутся. И это утро, и этот снег, и это счастье пройдут, погаснут…
Юлинька налила из термоса дымящийся чай. Чашка была фиолетовая, в золотых выпуклых цветах по бокам и красная изнутри. Если стукнуть по ней – она запоет. Подбросила серебряную круглую ложечку с витой ручкой, поймала, села на стол, ноги поставила на стул и принялась пить.
Словно бы тихие воспоминания о чем-то милом, но утраченном заполнили ее, все перепутали в душе. Она что-то хотела, но чего – и сама не знала. Юлинька подумала о Караванове и поняла, что ей все утро хочется увидеть его. Она отставила чашку, нахмурилась. Решительно спрыгнула со стола, села на диван и принялась читать роль.
Работала Юлинька удивительно много. Репетировала дома, в театре, просила повторять свои сцены несколько раз, оставалась с партнерами после репетиций. И все это вместе с бесконечной домашней работой.
В театре только удивлялись. Она даже не худела.
Юлинька взглянула на крошечные, как гривенник, часы – было десять. Сунула прозрачный кружевной платочек под браслет часов и пошла к Караванову.
Комната Караванова, обставленная по-холостяцки бедновато, была тщательно прибрана. Сам хозяин, одетый в костюм песочного цвета, с сиреневой полоской, походил на именинника. У Юлиньки запрыгали в глазах смешливые искорки.
– Вы, Юлинька, сегодня красавица, – пробасил он смущенно.
– А вы же мне это каждое утро говорите! – Юлинька вспыхнула и сделалась еще лучше, свежее.
Села на диван.
– И долго еще буду говорить. Ловите! – Караванов бросил китайский мандарин.
– О! – вскричала Юлинька. – Хоть сотню съем!
Караванов вытащил из тумбочки сетку с мандаринами и стал бросать их через всю комнату.
– Куда вы! Хватит!
– Ста еще нет!
Караванов бросал, а Юлинька ловила золотые мячики и складывала на колени.
– Довольно! Роман Сергеевич! С ума сошли?
– Шестьдесят! Шестьдесят один!
На коленях выросла золотая, раскатывающаяся груда.
– Похвастались – ешьте!
Гарун, повиливая хвостом, подошел к Юлиньке, понюхал мандарины.
– Видишь, что делает твой хозяин? Как маленький! – Юлинька бросила мандарин в Караванова. – А теперь ловите вы! – Мандарины посыпались золотым дождем. Караванов прыгал, метался, ловил – сзади было окно, эта отчаянная девчонка, не задумываясь, разобьет.
Гарун удивленно посматривал на людей, на раскатывающиеся по полу мандарины.
– Теперь садитесь и ешьте, – приказала Юлинька.
Караванов сидел рядом, обдирал шкурку. Мандарины были вкусными, как никогда, и сам Караванов был молодым, как никогда. «Хэ, тридцать пять лет! – подумал он, швыряя корочку в сеттера. – Да разве это возраст? Ерунда на постном масле!»
Он засмеялся.
– Что такое? – спросила Юлинька.
– Ерунда на постном масле.
– Что ерунда?
– Сосчитать до тридцати пяти. Раз, два, три – и все!
– Не понимаю.
– И я не понимаю. Понятно все только дуракам!
Они рассмеялись.
– Я покажу вам фокус! – воскликнула Юлинька. – Дайте спички.
Она сложила вдвое корочку мандарина, сжала – из пористой корки ударили струйки сока – тоненькие, как паутинки. Юлинька пустила струйки-паутинки в луч солнца, и они рассыпались клубочками золотой пыльцы.
– Моя путет покасыфать фокуса! Гоп-ля! – крикнула Юлинька, изображая китайского фокусника. Она подставила горящую спичку, и сок с легким треском начал вспыхивать.
– Здорово! – восхищался Караванов.
…Потом репетировали очень трудную сцену. Алексей – Балтийского флота матрос первой статьи – требовал ответа.
И вот ей, комиссару, нужно было победить его логикой, силой мысли, ленинской правдой, открыть ему глаза, указать дорогу.
Они столкнулись в палатке для решительного разговора. Матрос пришел притворно-разухабистый, с гармошкой.
Юлинька была в этой сцене твердой, мужественной и разила четкой, отточенной мыслью.
И вдруг сегодня ночью, размышляя над этой сценой, она открыла новую грань в поведении комиссара.
– Это как будто незначительный штрих! – увлеченно доказывала Юлинька. – Комиссар неожиданно почувствовала, что она нравится как женщина. Но, уверяю, это многое меняет. И у вас и у меня!
Караванов прищурился, стараясь представить, какой оттенок внесет это в их диалог.
– Давайте-ка попробуем! – предложила Юлинька.
Она всегда репетировала так увлеченно, что захватывала и Караванова. Он давно уже не работал с таким интересом, с такой жадностью. Каждая репетиция будоражила, доставляла удовольствие.
Они расставили стулья и начали.
Караванов видел хрупкую, но уверенную женщину, внешне спокойную, с умными ясными глазами. И вдруг что-то изменилось в ней: походка стала мягче, и как-то глянула через плечо, и поправила волосы. На матроса повеяло женственностью. Дрогнуло сердце. Юлинька влекла не только мыслями, но и напоминала о чем-то нежном, чистом, человеческом. Может быть, о такой любви, какую матрос еще и не испытывал? И у него по-другому зазвучал голос, по-другому заиграла гармонь, по-другому он взглянул. И комиссар сразу сделался сильнее, матрос же слабей, и легче им стало найти общий язык.
– Да, в искусстве нет пустяков! – проговорил Караванов. – Один штрих – и все меняется! Умница вы!
Работали долго, уточнили все неясные места и мизансцены.
– Как-то завтра пройдет премьера! – волновалась Юлинька.
Она села у стены на ковер рядом с Гаруном. Караванова восхищали такие мальчишеские выходки. Возбужденный работой, помолодевший, предчувствуя успех в спектакле, он размашисто шагал по комнате, и все ему нравилось. «Этакую тяжелую баржу стащить с мели!» Он покачал головой и засмеялся.
– Что? – спросила Юлинька.
– Задачка вот! – Караванов трясся от счастливого смеха, – Баржа села на мель. Сколько лошадиных сил нужно для того, чтобы сдернуть ее?
– Ну, это может высчитать только Гарун, – засмеялась и Юлинька. Она обняла сеттера, прижала к себе, потрепала за ухо.
При Караванове Юлинька чувствовала себя удивительно уверенно. Смешно спрашивать девушку: «За что ты любишь этого человека, а он любит тебя?» Юлинька не занималась исследованием своих чувств. Только сейчас, сидя на полу с Гаруном, она спросила: «А почему он нравится тебе?» И ответила: «Не знаю! Он хороший актер, и это нравится мне. Он много знает, и это нравится мне. Он полон ума и грусти, и это нравится мне. В его глазах, улыбке, голосе есть что-то такое, отчего мое сердце сжимается. За что он мил мне? Я сама не знаю, за что! А вот нравится – и все. И верю в него!»
Юлинька упрямо тряхнула головой, и все белокурые кольчики затряслись.
– Что? – спросил Караванов, увидев движение ее головы.
– Ничего. Пустяки.
А мимо окон медленно, как в воде, тонули редкие, крупные хлопья снега.
– Роман Сергеевич, помните, мы шли со спектакля? Улетали птицы. Неужели вы тогда говорили искренне? Или это была поза? – серьезно спросила она.
– Юлинька… Разрешите мне вас так звать? Это была минутная слабость!» Устраивался поудобнее. Хотя эта минута и длилась года два. Последствие выстрела в упор, который жизнь ахнула мне в грудь. Я же рассказывал вам. А птицы тогда… прилетали! Так мне показалось!
Юлинька задумчиво усмехнулась.
– Все это была… короста… Вы появились… и все отпало.
– Оказывается, я доктор?
– Да вы знаете!.. Видите?! – Он радостно протянул руки. – Они горы перевернут! Они… Им пустяки пронести через жизнь двадцать таких ребятишек, как у вас!
– А льва они могут поднять и задушить в воздухе? – серьезно спросила Юлинька.
– Могут! Велите! – убежденно ответил Караванов.
– Э, да с вами опасно! Я не лев!
Она легко вскочила с ковра и внезапно ушла…
Комиссар
Фомушка разбудил всех чуть свет.
– Уж идти нужно! – кричал он, махая красным флажком.
Юлинька взглянула в окно – и ахнула: бушевала вьюга. Через город перекатывались океанские волны летящего снега. По улицам крутились белые вихри, над крышами развевались снежные гривы, на углу, открытый ветру, дымился киоск, утонувший в сугробах. Снег залепил красные лозунги, флаги и портрет Ленина, что украшали дом напротив.
Юлиньке сразу стало необыкновенно весело. Она вспомнила, как мама пекла пироги и на всю квартиру пахло ванилью. Вспомнила, как папа, выпив стаканчик водки, крякал, вытирал мягкие толстые усы, сажал ее, маленькую, на плечи. Он шел в колонне кировцев, и флаг хлопал Юлиньку по лицу.
Все это было давно.
Она выскочила из-под одеяла и, закричав: «С праздником!» – стала бросать через японскую ширму кулечки с подарками.
Поднялась беготня, запахло тортом, который Юлинька пекла в «чудо-кастрюле». В стенку стукнул Караванов. В ответ ему грохнуло шесть кулаков. Хором крикнули:
– С празд-ни-ком!
Касаткин, Алеша, Сенечка притащили подарки ребятишкам от комсомольцев и от месткома.
Снеговая принесла на полотенце большущий пирог с брусникой.
Вошел Караванов с двумя бутылками шампанского и с сеткой мандаринов.
Хлопали пробки, звенели стаканы…
А потом шли в колонне. Юлинька, Северов, Саня, Караванов с Фомушкой на плече – в одном ряду. «Боцмана» укутали, подпоясали, завязали шалью, и он походил на толстую девочку. За пояс ему воткнули флажок.
Снег повалил еще гуще, Юлинька фантазировала: весь город загорелся! Среди клубов снежного дыма языками огня вспыхивали флаги, лозунги.
О стены домов трещали, пузырясь, лозунги, металась цифра «39». Полотнища, натянутые над улицами, шумели в ветре, как туго надутые паруса. С одной стороны они были красные, с другой – белые. Деревья, дома, люди, колонны тоже с одного бока белые, с другого – темные. От этой бурной теплой вьюги было еще веселее. Люди, подняв воротники, завязав уши шапок, хохотали, толкались, пели.
Юлиньке занесло все лицо, снег забился в брови, в пряди волос, в уши. Она вытиралась платком и шла спиной вперед. Запнулась, повалилась в снег. Сенечка и Долгополов, смеясь, поднимали ее. Алеша дал «под ножку» Касаткину, и тот плюхнулся в сугроб. Вихри обрушивались на колонну.
Юлинька взяла Северова под руку и шепнула:
– А вдруг провалюсь вечером?
– Что ты, что ты! Типун тебе на язык! У тебя все так хорошо. И брось волноваться! – уговаривал Алеша.
Фомушку взял Касаткин, потом Дальский, потом Скавронский, потом Варя. И он уплыл на руках в гущу колонны. Саня волновался, бегал, искал его.
Караванов и Снеговая говорили о боях египтян с англичанами, о премьере вечером.
На площади все подравнялись, браво прошли мимо трибуны и дружно грянули «ура».
Казалось, еще не было такого милого, веселого утра. И Юлиньке то хотелось петь, то пойти на каток, то позвать всех и всей компанией уйти на лыжах в тайгу.
…Юлинька пришла за два часа до начала спектакля. Застелила столик салфеткой с вышитым красно-синим попугаем, разложила грим, вату, пудру, поставила зеркало.
Сняв платье и набросив на плечи мохнатый лиловый халатик, гримировалась.
Алеша бродил за кулисами, наблюдая, как шла с детства знакомая жизнь. Первых десять спектаклей он не играл. Да и вообще будет ли он играть?
Варя разносила костюмы на проволочных плечиках.
Парикмахер раскладывал по столикам пахнущие бензином парики.
Рабочие втаскивали на сцену в огромные двери декорации, пуская холод со двора.
Толстощекая, распаренная от беготни, Шура разносила реквизит: винтовки, наганы, кортики, с грохотом притащила два настоящих пулемета.
Прибежал запыхавшийся Сенечка, стряхнул с шапки и пальто снег.
В клубах мороза входили в театр актеры.
В гримуборных столики покрылись коробками грима, книгами, париками, реквизитом.
На вешалках вдоль стен висели матросские рубахи с огромными воротниками, полосатые тельняшки, бушлаты, бескозырки с ленточками.
Один актер переодевался матросом. Белокофтин – немецкий офицер – повторял роль, Касаткин-боцман лепил из гуммоза нос-картошку. Смазав его вазелином, полировал пальцами. Рыжий анархист, макая в пудру заячью лапу, выбелил загримированное лицо, словно мукой.
Парикмахер надевал актерам парики, наклеивал усики. Стоял шум, смех. Пахло пудрой, гримом, эфиром от лака.
Скавронский подходил то к одному, то к другому, делал последние замечания.
Сенечка раскладывал по столикам «программы» с надписью и поздравлениями режиссера.
Все это Алеша любил, все это навеки родное.
Юлинька, уже загримированная, в кожаной куртке, в сапожках, волнуясь, осматривала себя в трюмо. Когда вышла на сцену, сердце ее дрогнуло – невидимый зал, переполненный зрителями, гудел. Хлопали стулья, раздавался смех, слышалось шарканье ног. Глаза у Юлиньки возбужденно блестели, она от волнения передернула плечами.
Зазвенел второй звонок.
Юлинька прошлась по сцене, постояла на мостике у орудия, ко всему примерилась, проверила реквизит, пошептала некоторые фразы из роли. Руки ее стали влажными, дыхание шумным. Притаилась в уголке, чтобы не отвлекаться.
Подошел Караванов, в бескозырке, в тельняшке, шепнул:
– Дайте руку на счастье.
Маленькая рука Юлиньки была ледяной.
– Ни пуха вам, ни пера. – Караванов на цыпочках пошел в другой угол.
– Куда же вы? Я волнуюсь, как дурочка! – Юлинька схватилась за его руку.
– Не надо. А то я забуду текст, – улыбнулся Караванов.
– Все на выходах? Юлия Михайловна, Роман Сергеевич, вы здесь? – шептал Сенечка, как всегда, в панике.
В зале выключили свет.
– Приготовились! Начинаю!
Вот загремела музыка. В ней мощь и скорбь, тревога и порывы битвы.
Юлинька положила руку на сердце, глубоко вздохнула. А за занавесом уже звучали голоса ведущих. От имени моряков революции они обращались к потомкам:
– «Здравствуй, пришедшее поколение! – Дальский стоял перед занавесом, выхваченный из тьмы прожектором, и протягивал руки в зал. – Бойцы не требовали, чтобы вы были печальны после их гибели. Ни у кого из вас не остановилась кровь оттого, что во время великой гражданской войны в землю легло несколько армий бойцов. Жизнь не умирает!»
И незабвенное время, время отца, дохнуло на Юлиньку. Она стала думать о том, что это Ленин послал ее к балтийским морякам. Она комиссар, должна выковать из отряда анархистов доблестный революционный полк. Как ее встретят? Утром она будто шла в рабочих колоннах по улицам родного Питера. И рядом шел отец. А вот сейчас вечер, и ей предстоит великое испытание. И она готова умереть. Или победить.
Уже медленно поплыл синий бархатный занавес. Прошелестел шумок, и наступила мертвая тишина. А вот уже звучит страстный отчаянный голос Караванова: «Никуда человек не доедет, а только ехать будет… Никто еще никогда никуда не доезжал к конечному. И сделал это открытие я, военный моряк Алексей!»
Юлинька снова положила руку на грудь, задохнулась…
Зал во тьме. Перед ним синеватая пустыня – даль наливается мраком. Эта пустыня дышит тревогой. Тяжелое серое орудие простерло над бронированной угрюмой палубой корабля грозный хобот-ствол. Палуба гудит, бушует. Это уже Не матросы, это орда анархистов. Они орут: «Опасность! Полундра! Назначен нам комиссар!» В толпу бьют два мощных прожектора. Свет мечется зеленоватыми пятнами.
И вдруг – совершается что-то невероятное, уму непостижимое: на фоне тревожного мрака и пустоты возникает хрупкая фигурка юной женщины. Толпа моряков ошалела. И это – комиссар?! Гимназистка – комиссар?!
Эта же мысль пронеслась у зрителей. Но мгновенное недоверие их погасло от глаз Юлиньки. Через миг уже люди следили только за ними. Глаза казались огромными, светящимися.
Толпа здоровенных моряков очнулась. Уже слышались грубые выкрики, уже хохотали, кривлялись, гикали перед комиссаром. А Юлинька спокойно молчала, поставив у ног потрепанный чемоданчик. Взгляд ее, твердый, пристальный, изучал каждого. Легким, воздушным движением поправила волосы. Пошла. Походка тоже легкая, но чеканная. И вся фигура и все жесты летучие, воздушные и вместе четкие, властные.
И в зале поняли – это мечтательница. И комиссар. И умница. Поняли это и доктор Арефьев в третьем ряду, и проводница с местного поезда в двенадцатом, и библиотекарша в седьмом ряду, и Санина учительница Зоя Михайловна. Понял начальник прииска Осокин, с морской рыжей бородкой, растущей от шеи. Он привез на премьеру рабочих. Поняла это и дочка его, пятнадцатилетняя красавица Линочка.
И только толпа матросов еще не поняла. И новый взрыв. Со всех сторон палубы несется орава.
В зале замерли. На миг зажмурилась проводница, перестала дышать учительница. Линочка уцепилась за руку отца, рабочие прииска, занявшие три ряда, подались вперед.
Как она обуздает эту банду анархистов?! Для них – ничего святого! Разорвут же в клочья!
– «Давайте, товарищ, женимся!» – гогочет Алексей.
Под душистою веткой сирэни
Целовать тебя буду сильней,—
завыл кто-то багровый и волосатый.
Кто-то расстелил простыню, загнусавил: «Чего ты смотришь? Ложись!»
Неожиданно из люка медленно вылез огромный, полуголый, в татуировке.
– «У нас не шутят», – зарычал он и бросился к Юлиньке.
В зале ахнули.
– «У нас тоже, – просто и твердо проговорила Юлинька. Взлетает ее легкая, но беспощадная рука, и раздаются два сухих, деловитых выстрела, как две яростно-спокойные, злые пощечины. Гигант валится. – Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела? – уже совсем просто звучит голос Юлиньки. Но глаза ее стали еще огромней. – Ты? Ты? Ты?» – поводит она револьвером. И толпа, затихшая, смятая, смущенная, отступает, рассеивается.
А в зале гремят аплодисменты. Там уже приняли этого комиссара.
Но здесь, на корабле, еще вся борьба впереди. Здесь она только испугала, но не завоевала.
В зале – свои страсти. На сцене – свои. А за кулисами – свои.
Стоя у сукна и прижимая к груди пьесу, Вася Долгополов не спускал глаз с Юлиньки. Он в дешевом бумажном костюме, некрасивый, застенчивый. У него нежные, голубые глаза, которыми все восхищаются. Долгополов навсегда влюбился в театр. Он окончил ветеринарный техникум, а работал суфлером и выходил в «массовках». Иногда ему давали роль из двух-трех фраз. Счастливый, он волновался, все время репетировал в уголках, но, выйдя на сцену, едва выговаривал эти фразы. Он был бесталанный и робкий.
Сейчас он смотрел на Юлиньку обожающими глазами – и больше для него никого не существовало.
А рядом с ним стояла Полыхалова, загримированная старухой, повязанная платком, в дырявом салопе. Она тоже не спускала глаз с Юлиньки. Крылышки носа напряглись и мелко дрожали. Она вся клокотала. Ведь она создана для роли комиссарши! А ей сунули какую-то старуху! Противно! Бежать из этого театра! Чем она хуже Сиротиной? Ее била лихорадка зависти.
Скоро выходить на сцену. У старухи украли кошелек. Анархисты устроили самосуд: утопили матроса, обвинив в воровстве. Тут же старуха обнаружила кошелек в кармане: тогда должны утопить и ее.
Актриса спохватилась – кошелька не было. Она бросилась в реквизиторскую. И уж тут отвела душу.
Словно угорелая, Шура металась по цеху. Рылась то в одной куче театрального хлама, то в другой, то бросалась к полкам. На пол летели букеты бумажных цветов, жестяные вазы, розовый поросенок из папье-маше, прикрепленный к такому же блюду, ватные кисти винограда, круги колбасы, набитые опилками, покатился череп, загремел деревянный торт.
– Холера его знает, куда он завалился! – бормотала Шура.
Щеки ее пылали, «волосы рассыпались.
А перед ней металась Полыхалова с искаженным лицом:
– Давай же, давай скорее! Мне выходить сейчас на сцену. Растяпа! Без кошелька невозможно! Долго я буду ждать?
Она бросилась послушать – какое место играют. И тут же прилетела обратно. Юбка, салоп развевались. Она закричала, топнув:
– Давай! Давай! Или я не выйду на сцену!
Раздались отрывистые, тревожные звонки.
– Будь он проклят! Куда он провалился?! Целый вечер горишь как в аду! – задыхалась Шура.
Тишину снова полоснули гневные звонки. Полыхалова даже застонала.
Из-под рук Шуры с треском летели охапки удивительных предметов.
– Вот он! Господи!
– Неряха! – прошипела Полыхалова и вырвала кошелек.
Шура тяжело дышала, как будто вся дымилась.
– Господи, да разве упомнишь все?! – пожаловалась Варе. – Тут голова идет кругом! А она будто с цепи сорвалась. Ровно помещица какая. По щекам отхлестать готова! – И вдруг расплакалась.
…Юлинька, возбужденная, побежала к себе в гримуборную. Ее остановил Вася Долгополов.
– Как вы играли! – прижал он руку к сердцу. – Я не знаю, просто здорово!..
– Милый мой Вася! – засмеялась Юлинька. – Спасибо! Эх, разве это игра!
Но все же ей была очень приятна его похвала.
Подошел художник Полибин. Ему уже пятьдесят, лохматая голова серебрилась, красивое узкое лицо пожелтело, но фигура осталась еще стройной.
Полибин всегда одевался в модные красивые костюмы и даже работал, возился с кистями и красками, не надевая комбинезона.
Летом он ходил, сдвинув на затылок светлую нарядную шляпу и бросив на левое плечо свернутый белый пыльник.
– Оч-чаровательно, – проговорил Полибин, слегка заикаясь. Он поцеловал Юлиньке руку. – Вы им-меете успех!
Для Юлиньки все сейчас были милыми. Но она, смущенная, поспешила скрыться в гримуборной.
Громко постучав, ворвался Алеша. Он вдруг топнул, по-мальчишески сплясал коленце из гопака и, подмигнув, радостно спросил:
– Поняла? Крой и дальше так же!
– Будет тебе! – рассмеялась Юлинька. – Уходи! Я переодеваться буду!
Алеша высыпал на стол горсть конфет.
Скавронский в своем обычном широченном пиджаке, стукая тростью, прохаживался по фойе, прислушивался, присматривался.
В углу собрались рабочие с прииска, обсуждали спектакль. Охранник с драги, Костя Анохин, водил воображаемым револьвером:
– «А ну, кто еще? Ты, ты, ты?» Это, ребята, настоящий комиссар, без подделки! Вот времечко было! Вся Россия бурлила, словно котел над костром!
– А вот вы забываете, как она бурлила! – грозил кривым пальцем старик с удивительно яркими глазами.
– Да брось ты, Петр Вавилыч! Вечно ты, огонь тебя спали, на нас…
– А что, а что, неправда? А? То-то! Работаете с боку на бок, сонными глазами хлопаете. Ты видел сейчас, как нам эта держава давалась? Сколько кровушки пролито?! Я-то хлебнул того времени полным ртом. Потаскал винтовочку. И Колчака бил и Семенова, бил!
– А тебя били? – засмеялся Анохин.
– И меня били! Вот тебе и «огонь спали»!
Приискатели дружно расхохотались.
– Правильно, Вавилыч, крой их, молокососов!
– Разбирай по косточкам!
– Наводи критику!
– А что, а что, не правда, что ли? – не унимался старик. – Встанут утром, потягиваются, чешутся. Тебе бы хозяин до семнадцатого года почесался! Волчком бы крутился у него за грош! Да ты, белобрысый, для своей державы должен разбиться в лепешку! А вот, когда дашь ей сто пудов золота, вот уж тогда и ходи по родной землице спокойненько!
– Ты, Петр Вавилыч, наверное, уж триста выдал, а все не угомонился, огонь тебя спали!
Скавронский отошел. Остановился рядом с проводницей. Она высокая, в черном кителе. На милом, строгом лице темнели усики. Скавронский слышал обрывки фраз.
– …комиссар… Торчишь в вагоне… Кругом большая жизнь…
– …и в вагоне должен быть, – возразила учительница Зоя. Она в черном бархатном платье до пола, с оголенными, очень красивыми руками. – Умирать не боялась. Отважная… А на себя посмотришь… Если жива, сколько ей сейчас? Старушка-Комиссар – старушка! Смешно!
Проводница нервно прикусывала уголок носового платка, теребила его.
Зрители оживленно толпились перед портретами актеров на стенах, переговаривались, называли фамилии, спектакли, роли.
Раскинулось море широко…—
замурлыкал под нос довольный Скавронский.
Подошел Осокин с Линой, подал руку. Он был завзятым театралом.
– Почему решили в холод ехать? И рабочих привезли! – проурчал Скавронский. Глаза его весело поблескивали из-под нависших бровей. – Мы сами приедем к вам со спектаклями!
– Э, нет, дорогие товарищи! – засмеялся дородный начальник прииска. – Спектакль-то вы привезете, я знаю! А декорации? Я уж решил увидеть все. Да и людям нашим полезно!
– Ну и… как?
– Отличный спектакль! И пьесу я люблю.
Там, там, под сению кулис,
Младые дни мои неслись.
Он помял пиратскую рыжую бородку-жабо:
– Где вы раздобыли такую актрису?
Линочка, с великолепными косами до колен, во все глаза смотрела на режиссера. Она мечтала стать актрисой.
– Ну, а вам как спектакль, красавица вы моя? – обнял ее за плечи Скавронский.
Она вспыхнула.
– Очень хорошо!
– Э, нашли кого спрашивать! – засмеялся Осокин. – Сама не своя! «Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом!»
Скавронский, успокоенный, ушел за кулисы.
…В конце спектакля зрители вызывали участников.
Прожектора ослепляли актеров. Зрители, стоя, дружно хлопали. Из зала кричали: «Сиротину! Сиротину!» Юлинька спряталась за актеров, но Караванов вытащил ее вперед. Зрители увидели смущение Юлиньки, захлопали еще громче. Она сердито глянула на Караванова и поклонилась публике. Но все же ей нравились аплодисменты. После того, что пережито в этот вечер, невозможно забыть театр. Она устала, ослабела, ноги дрожали. Но она была счастлива. Кто же не любит успех?
Актеры на сцене захлопали, вызывая режиссера и художника.
– Скавронского! Полибина! – крикнули Белокофтин и Никита Касаткин.
Скавронский вышел неуклюже, кивнул публике, пожал руки актерам.
Спокойный, элегантный Полибин поклонился с достоинством, снова выдвинул Юлиньку вперед и поцеловал ей руку. Аплодисменты усилились.
Как она любила эти минуты, когда чувствовала, что рассказала людям о жизни что-то хорошее, нужное… И вот пылают огни, гремят аплодисменты, занавес закрывается и вновь открывается! И те, что на сцене, и те, что в зале, слились в одну семью. Это было чудо, и это была ее ежедневная работа.
Между кулисами стоял Вася Долгополов и, приоткрыв рот, смотрел на Юлиньку.
Занавес сомкнулся, в зале стихло.
Теперь зашумели актеры:
– С премьерой вас!
– И вас также!
– С премьерой!
– Спасибо!
Все были дружные, любили друг друга, обнимались, целовались. Даже похорошели. Мелочное забылось, жило только то, что всегда должно жить в человеке, – любовь, теплота, уважение к товарищу. Кто-то целовал Юлиньку, кого-то она целовала, кто-то шептал на ухо: «Молодец!»
Юлинька уходила со сцены последней.
Появился Караванов.
– Поздравляю!
Он сжал ее голову ладонями и поцеловал. Сегодня разрешалось. Юлинька вдруг смутилась – поцелуй получился не такой, как со всеми.
Глаза Караванова захмелели.
– Милая вы моя! – говорил он, целуя руки ее. – Люблю я вас! Я счастлив, что вы живете на земле! Я счастлив, что играл с вами!
– Нет, это я счастлива! – шептала Юлинька. По всему телу, с головы до ног, прокатился жар. – Это я счастливая! Это я счастливая! – все шептала она, не слыша себя. Она испытывала наслаждение оттого, что он рядом, от запаха его табака.
Скавронский, Полибин, Воевода ходили по артистическим уборным. Незанятые в спектакле актеры пришли из зала и тоже поздравляли. Стоял веселый шум, толкотня. Актеры срывали усики, мазали вазелином лицо. Одевальщицы охапками уносили матросские костюмы.
К Юлиньке ворвались Касаткин и Алеша, хотели поднять, качнуть, но она вытянула перед собой руки, а потом закрыла пылающее лицо ладонями.
– Что с тобой? – забеспокоился Алеша.
– Пустяки. Устала, – проговорила она, не открывая лица и чувствуя, что губы ее распухли от поцелуев. Даже в щелки меж пальцев видно было, как сияли ее глаза.








