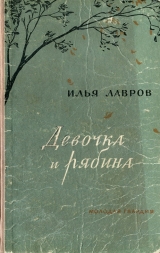
Текст книги "Девочка и рябина"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)

Илья Лавров
Девочка и рябина
Подшитые валенки и дон Диего
Алеша Северов, голый по пояс, ватой стер грим с лица и повернулся к двери. В театре было тихо – актеры разошлись. В безмолвии только слышались гулкие шаги: одевальщица Тася уносила костюмы.
На столиках валялись пустые коробки от пудры, баночки вазелина, клочки ваты, испачканные гримом. На спинки стульев брошены разноцветные бархатные камзолы, черные плащи. На большой стол свалены широкополые, с перьями шляпы, мешочки с монетами из жести, деревянные кинжалы, бутафорские кубки, шпаги, грязноватые свитки с сургучными печатями.
В открытые окна пахло конфетами от цветущих лип, доносился шум речки. Листья, шелестя, текли и текли мимо окон. И все же такая была тишина, что слышалось – бабочка трещала крылышками о стену, оставляя пятна пыльцы. Даже мерещился чей-то шепот в аллее – такая была тишина. Даже раздавался легонький всплеск: лягушки шлепались в ямки, налитые жидкой луной.
Не верилось, что недавно комната шумела – актеры поздравляли друг друга с началом отпуска.
Северов раскурил папиросу. Дым ударился о зеркало, заклубился облачком. Сквозь него виднелись в зеркале русые лохматые волосы, серые задумчивые глаза, опушенные длинными ресницами. Левая щека была обрызгана маленькими, похожими на веснушки родинками. В редких пушистых бровях розовел плохо стертый грим.
Положив папиросу на спичечный коробок, Северов надел рубашку, задумался.
Вошла пухлая, румяная Тася, стала развешивать костюмы на деревянные плечики.
– Неужели уезжаете, Алеша? – вздохнула она.
– Уезжаю, Тасенька. – Северов зажег погасшую папиросу. Голос его, интонации были мягкие, тихие.
– А куда, если не секрет?
– И сам не знаю. Актерские пути неожиданны. Все дороги лежат передо мной. Куда толкнет судьба – туда и помчит поезд…
– Ой, как интересно! Сколько вы повидали, поездили! Я тоже хочу быть артисткой. Даже во сне видела, будто играю Бориса Годунова. Приснится же!
– Ты думаешь, в театре легко и весело? – удивился Северов.
Перед ним возникли дороги, по которым рассеял все свои двадцать пять лет жизни. У него не было родного города – Якутия, Крым, Волга, Сибирь… да где только не пришлось пожить! Беспокойный отец – он был режиссером – даже умер в вагоне. И похоронили его в далеком туркменском городе Кизыл-Арвате.
– Если бы вы знали, как жаль, как жаль, что вы уезжаете, – звучал наивный голосок Таси.
– Уеду я, приедет другой – лучший! – ответил бодро Северов, складывая грим в потрепанный чемоданчик. – Не поминай лихом! – Он улыбнулся, нервной рукой пожал Тасины, в ямочках, пальцы и ушел.
В коридоре все лампочки, кроме одной, выключены. У столика, под телефоном, сердитый морщинистый старик Голобоков курил махорку. Он, словно у костра, в облаке дыма. Несмотря на лето, Голобоков в валенках.
Северов постучал в дверь женской гримировочной.
Юлинька Сиротина звонко крикнула:
– Я сейчас! Минуточку!
Северов любил театр ночью. Беззвучно, пусто. Из сумрачного зала распахнуты двери в темное фойе, где по лоснящемуся паркету косо расстелены полотнища лунного сияния. На полотнищах тушью нарисованы косые тени пальм в кадках. Сбоку в огромные окна лучился такой большущий прожектор луны, точно она припала к стеклу.
В зале тепло и душно – недавно дышала толпа. Даже кое-где попахивает духами. Занавес раздвинут. На сцене, вычерчивается испанский дворец из фанеры. При тусклом свете он грустный, игрушечный. Огни погашены. Потрескивают в тишине стулья. На балконе загустел мрак. Скорбны и задумчивы подмостки и зал без актеров и зрителей, без шума и света…
Алеша сел под грузным балконом. Прислушался. В глубине сцены что-то грызла мышь. Может быть, пухлую щеку лепного амура на спинке кресла или бутафорскую ножку царского трона?
Что-то прошуршало, как плащ испанца, звякнула шпага. По «мраморной», из досок, лестнице спустился Голобоков, звякая ключами, шурша старым пиджаком. Растоптанным, подшитым валенком отодвинул кресло, обтянутое алым шелком, и поплелся в покои дона Диего. Двустворчатая золотисто-кружевная дверь взвизгнула огородной калиткой.
Три года Северов играл на этой сцене. Сколько радости и огорчений видела она! Алеша ослабил на вороте украинской рубахи красный, с кисточкой шнурок: трудно стало дышать. Оглядел большой зал, услышал тишину. Почему-то подумалось: «Вот уеду, и все забудут. Так и в жизни. Умрешь – и как будто не жил. Никакого следа».
Он вздохнул, облокотился на спинку переднего кресла, зажал голову руками.
За декорациями опять звякнули ключи, и донесся хриплый голос Голобокова:
– А чего они видели-то?
– Как это чего? – возразила Тася.
– Они жизни-то и не нюхали, – сердился Голобоков, двигая стулья. – Со сцены – домой, а из дому – на сцену. Протрусят по улице в шляпах – вот и все их касательство к жизни!
– Ну уж вы скажете! – сердилась и Тася.
– А как мы живем, что за Иваны – это для них темный лес. Иногда представляют колхозников. Смотришь – все будто так, а присмотришься, – так, да не так! Где-то около, а не в точку. Все украшено! Не жизнь, а ровно бы ребячья елка с побрякушками… И ты не суйся на сцену. Какая из тебя артистка? Взялся Вавила за вилы, а надо бы, как Ипату, за лопату. Иди на учительницу. От учительницы польза!
Что-то упало, загремело, голоса гулко отдавались уже в коридоре.
Северов нахмурился, стайка родинок на щеке едва заметно дрожала.
Нет, вон из этого театра! Вон! Здесь даже простой сторож задирает нос перед актерами! Смотри ты: «жизни не нюхали»! И режиссура под стать этому сторожишке! Весь последний год почти ничего не играл. Мелочь какую-то совали, щелкал ее, как семечки. А две приличные роли завалил из-за горе-режиссеров. Нет, хорошо, что свернул свою палатку и снялся с бивака.
Он быстро пошел за кулисы.
Открыв прибитый к стене красный ящик, Голобоков проверял скрученный в колесо брезентовый шланг.
– Значит, ничего мы не нюхали?! – голос Северова прозвучал в тишине резко.
Голобоков смущенно поцарапал подбородок и попробовал засмеяться.
– Да так это я… Нечего делать, ну и мелешь чепуху.
– Вот именно!
Но тут появилась Юлия Сиротина, тоненькая, в белом пыльнике, с чемоданчиком. Северов вышел за ней.
Рассвет застал их среди поля. Бумагой шуршали узкие, как сабли, кукурузные листья.
Затлел восток.
Алеша и Юлинька остановились под громадным тополем. Он рос один среди безбрежного поля.
Кавказский хребет, от Казбека до Эльбруса, виден был четко и резко. Желтая луна висела над темными горами.
Алеша погладил вьющиеся белокурые волосы Юлиньки, ладонями сжал ее голову. Рассматривал золотисто-карие глаза, свежие некрашеные губы. Дрогнул плечами, словно замерз, улыбаясь, тихо сказал:
– Вот сейчас я смотрю в твое лицо, а через несколько часов уже никогда не увижу его.
– Не говори, а то я расплачусь, – улыбнулась и Юлинька.
Алеша поцеловал брови, ресницы, теплые пухлые губы. От них остался привкус грима. От волос, после парика, припахивало бензином…
– Ты понимаешь, что эта минута на всю жизнь? – он все сжимал в ладонях голову Юлиньки, все смотрел в ее глаза.
– Понимаю, – серьезно шепнула она.
Серые горы уже стали бледно-лимонными.
– И сколько бы я ни жил, я буду видеть одинокий тополь, и эти горы, и твое лицо.
– Может быть… Может быть… – Юлинька была задумчива.
– Зачем мы встретились? – Северов помолчал и нерешительно произнес: – И зачем расстаемся? – и опять помедлил, наверное ожидая ответа.
Но Юлинька молчала, строго глядя в его лицо, как бы стараясь что-то понять.
– И знаешь, что страшнее всего? – Алеша не сводил задумчивых глаз с гор, а они из лимонных уже превратились в розовые.
– Что? Что? – допытывалась Юлинька.
– Пройдет время, и мы будем спокойно вспоминать друг о друге. Мы забудем друг друга. То есть не забудем, а станем равнодушными… Нет, не так: не будем видеть друг в друге то, что видим сейчас. Любовь исчезнет. А над сегодняшним горем усмехнемся: «Молодо – зелено!»
Юлинька пожала плечами:
– Значит, король-то был гол? Так стоит ли жалеть об этом «молодо – зелено»? – Голос ее прозвучал тихо и сухо.
Алеша на миг почувствовал себя рядом с ней мальчишкой.
– Послушай! Хочешь… Хочешь поженимся? – торопливо и решительно заговорил он.
– А если это «молодо – зелено»? – невесело засмеялась она.
– Нет, нет! – он порывисто прижал ее к себе. – Страшно терять тебя! Я все люблю: и голос твой, и мысли, и душу твою, и эти глаза, и этот плащик!
Он говорил так порывисто, искренне, что Юлинька стала гладить его щеку в милых родинках и, как старшая, ласково высмеивать:
– Все это тебе чудится! Эта морока пройдет, Алеша, «как сон, как утренний туман». Ты присмотрись, ведь я же, ей-богу, обыкновенная девчонка. И – в стенгазету пишу статейки: «Куда смотрит местком» – и комсомольские взносы плачу… – Она помолчала, хмуро добавила: – А замуж я еще не собираюсь. Вот расстанемся на год… и все станет ясно. Выдумка долго не живет.
– Нет, ты не любишь меня! – убежденно сказал Северов.
– Не знаю…
Послышался цокот копыт – проскакал кабардинец в бурке, будто над полем промчалась черная птица: лошади из-за кукурузы не было видно.
Горы стали алыми, с синими пятнами теней, меркнущая луна сближалась с ними; вот быстро поползла за пламенеющий пик, исчезла…
Северов вдруг почувствовал полет Земли. Высоко трепетала яркой каплей Венера. Цветные громады хребтов мчались к ней, близились, звезда повисла над ними, укатилась за них. Алеша представил вертящуюся планету и себя на ней. Он такой маленький, что с гор его и не видно. А сердце – еще меньше. И вот в этом атоме – горе, страх, любовь. Ему кажется: они заполняют весь мир. А на самом деле его вместе с сердцем, с тоской, с любовью и не видно…
Над Юлинькой и Северовым облако листвы, смоченное росой, дрогнуло, забормотало, забурлило. Брызнули лучи солнца, и каждый лист засиял, как зеркальце.
– Идем. Пора… – вздохнула Юлинька.
Алеша обнял ее за плечи.
Шли, шли, а сверкающий лучистый тополь среди безбрежного поля все был огромен и близок, словно они и не уходили. Тополь стоял – вечный и величавый, как собор.
Ярмарка талантов
В Нальчике ставили так называемые «кассовые» пьесы: занимательные, но пустенькие. Актерам не над чем было по-серьезному работать. Юлинька переживала это болезненно. И вдруг весной ей пришло письмо из Читы от Скавронского. Она любила его спектакли, всегда глубокие и яркие. Юлинька и Скавронский понимали друг друга с полуслова, как единомышленники в искусстве. Поэтому она без сожаления меняла живописный теплый Кавказ на суровый, неведомый север.
– Актера греет не солнышко, а роль! – сказала она Алеше.
Скавронский знал ее заветную мечту: сыграть комиссара в «Оптимистической трагедии», мужественную Таню в арбузовской пьесе. И вот он предлагал ей эти роли. И разве могло теперь остановить ее расстояние в тысячи и тысячи километров?
Писал в Читу и Северов, но не получил ответа. И он решил ехать в Москву, устраиваться через театральную «биржу».
Эту «биржу» никто не разрешает. Она организуется стихийно. С Кавказа и Дальнего Востока, из Средней Азии и Сибири – со всех сторон осенью слетаются актеры в Москву. Сюда же едут режиссеры набирать актеров.
В этом году «биржа» обосновалась в клубе ВТО. Светлый зал наполнился шумной, разодетой в пух и прах толпой. В окна виднелась мокрая улица – моросил невидимый дождик. Стекла усеяли, точно прозрачная сыпь, капельки с булавочную головку.
На соседнем здании каменная девушка поднимала к облакам серп и молот. Справа, в сквере за углом, стоял задумчивый Пушкин. Почтительно кланялись ему тяжелые от влаги пестрые цветы. По бакенбардам и красивому лбу катились водяные горошины.
Северов остановился около дверей и оглядел жужжащий зал.
Даже в большой толпе можно отличить актеров по их лицам, по манере одеваться, а еще больше – по голосам, привыкшим к сцене, по наигранно-темпераментным жестам. У актеров все чрезмерно: где нужно улыбнуться – они хохочут, где нужно вздохнуть – они плачут. Голубое им кажется синим, розовое – красным.
На «бирже» встречались старые товарищи. Восклицания, поцелуи, смех раздавались вокруг.
Эта преувеличенность чувств и театральная манера проявлять их раздражали Северова. «Ярмарка талантов», – усмехнулся он.
Разбитной красавчик, с кокетливыми ужимками, с подбритыми бровями, с маникюром, в голубом пиджаке, попугаем порхал по «бирже», целовал актрисам руки, сыпал анекдоты. По-восточному приложив руку к сердцу, он послал воздушный поцелуй Северову.
Алеша узнал в нем Кадю Горского.
Кругом слышалось:
– …Махачкала? Бросьте, плохое дело! Уже месяц зарплату не платят! Выездные спектакли замучили!
– …А где сейчас Радин?
– В Барнауле.
– Блестящий режиссер!
– Все они теперь на одну колодку, запугали формализмом.
– …Играл я в Урюпинске Шмагу, Бобчинского! Прошел у зрителей на ура! Вез на себе репертуар.
– …Заваливает одну роль, заваливает другую…
– Кадя! – окликнул Северов. – Этот кто?
– Калуга!
– А этот?
– Бугульма. Горят. Не театральный город.
Шумную толпу заслонил седой, величественный старик в темно-синем костюме. К нему бросился, протягивая веснушчатые руки, юркий старикашка с россыпью серебряных кудрей:
– Дальский! Павел! Какими судьбами?
– А! Вася! Здорово, друг, здорово! – проговорил Дальский. Они обнялись, троекратно поцеловались.
– Сколько лет, сколько зим! Откуда, друг? – спрашивал Дальский покровительственно.
– Из Ростова, – ответил шестидесятилетний Вася, – едва год дослужил. Теперь вот сюда, наниматься.
– Как работалось?
– Да неважнецки. Так ничего и не сыграл. Режиссура… Ах, да чего говорить! И коллектив, я тебе скажу… – Вася поморщился. – Знаешь, как это бывает? Новых выживают, режиссеров съедают, жен на первые роли толкают.
– Ишь ты, стихами заговорил. Аносов там еще?
– Он в Алма-Ате. В гору, брат, пошел! Героев играет!
– Да что ты говоришь?! – изумился Дальский, словно узнал, что Аносов улетел на Марс. – Рванул! Молодец! Сколько с ним литров принято на нутро! Несть числа. У него же потрясающая внешность, вулканический темперамент, море обаяния – все данные для героя! А голос! Тенор – король в опере, а бас – кум королю в драме.
Прошла пожилая актриса с крашеными, черными, как тушь, волосами, в фиолетовом платье. На плечах лежало что-то вроде чернобурки. Дальский галантно поцеловал ей руку.
– Между прочим, Вася, Рязань тебя не интересует? – снова повернулся он к собеседнику. – А то режиссер здесь, могу сосватать.
Северову вспомнился голос Голобокова: «Они жизни-то и не нюхали». Пожалуй, сторож прав. И действительно, какое отношение к народу имеют эти два закулисных волка? Всю жизнь кормились в бутафорском мирке. Сменив несколько жен, гремели со сцены о чистоте. Жизнь изучали по пьесам, а экономику – по меню в ресторане.
Комики, молодые героини, герои, травести, инженю, простаки суетились, порхали, величаво шествовали, торопливо и нервно ходили, шептались между собой, разговаривали с режиссерами в углах. Глаза бесцеремонно и зорко шарили в толпе – нет ли знакомых, которые могли бы порекомендовать в «дело»? У кого иссякли деньги – у тех лица были напряженными. Кто, на языке актеров, «покончил в дело» и получил аванс, тот ходил уверенно, смеялся громко.
Спокойно сидели режиссеры с портфелями, папками.
Северов раздраженно пил ситро. В буфете пахло колбасой и сыром. И этот запах казался противным.
Прошла, надменно щурясь, красивая актриса в голубом костюмчике. Широкие, колоколом, рукава и подол оторочены серым мехом. Ее волосы напомнили Юлиньку.
«Ярмарка талантов», жужжа, отодвинулась вдаль. Алеша подошел к окну. Каменная девушка блестела в лучах. Перед глазами возник огромный, как собор, сверкающий тополь среди безбрежного поля.
Северов кинулся в толпу. Пришедшая сидела у рояля с важным режиссером в пенсне. Откинув голову и щуря глаз, он рассматривал ее фотоснимки в разных ролях. А она, развалясь в кресле, по-мужски забросила ногу на ногу и скучающе, холодно посматривала вокруг. Увидев красивые, бесстыдные ноги, Северов помрачнел, ушел в коридор курить.
В клубах дыма толпились актеры. Гудел вентилятор. В стене был колодец лифта. Из-под пола выплывала кабина, появлялись новые люди, вытирали обрызганные дождем лица.
На лестнице, на ее площадках актеры ловили режиссеров, предлагали свои услуги, рассказывали о себе, вытаскивали Из карманов документы, вырезки из газет.
Тут Алеша и столкнулся с Сенечкой Неженцевым. Его курносое лицо было усталым. Засунув руки в карманы, он то и дело поднимался на носках.
– Давно здесь? – спросил Северов.
– Месяц уже тру подметки! – Сенечка швырнул окурок в урну.
– Какие же театры набирают нашего брата?
– Лысьва, Сарапул, Ижевск, Серов, Владимир. И еще какая-то мелочь.
– Владимир? Хороший город! Где хозяйственник?
– Где-то здесь терся. – Сенечка огляделся, не увидел. – Да будь он проклят! Опротивели они мне все!
Актер, куривший рядом; показал:
– Вон у дверей. Их двое – он и Достоинство. Рядом стоят. Он – в очках, а Достоинство – с портфелем.
Говоривший засмеялся басом, протянул большую мозолистую руку, руку не актера – крестьянина:
– Караванов, Роман Сергеевич. Прибыл из Читы. Да неужели не знаете? Странно. Россия не знает меня!
Северов вздрогнул. Юлинька едет в Читу, она будет работать с этим человеком!
– В Москву-матушку прикатил в так называемую творческую командировку. Вечерами смотрю спектакли, а днями – на мытарства господ артистов.
Улыбка обнажила отборные, как зерна кукурузы, большие зубы. Караванову лет тридцать пять. От коренастой, мускулистой фигуры, одетой в поношенный темный костюм, веяло мужицкой силой. Он держался просто, двигался спокойно. На крупном лице с широким носом сверкали насмешливые глаза.
– Вот именно! – заговорил Сенечка. – Ходишь и продаешь себя. А на душе так гнусно, будто в магазине пустые бутылки сдаешь!
Последние три года Неженцев работал в Сызрани. Публика любила его. Но вот приехал новый режиссер, потащил из других театров дружков. Им отдавал лучшие роли. Сенечка выступил на собрании.
– После этого меня почти в статиста превратили. Но ничего, я всегда говорил дураку, что он дурак, а подлецу, что он подлец! И впредь буду говорить!
На «бирже» Неженцеву не везло. Знакомых не было, а без рекомендации устроиться не легко. Вел переговоры, и душу наполняли то надежда, то отчаяние. Кончились деньги. Если не устроится – куда деваться? А он приехал со старухой матерью.
– Голова трещит, – Сенечка потер виски, – тошнит от этой «биржи»!
– Дитя мое, не повергайтесь в пучину озлобления! – засмеялся Караванов, с интересом разглядывая Сенечку. – Дня через три прибудет в столицу с дружеским визитом режиссер Воевода. Я начну с ним переговоры о вас. Думаю, что они пройдут в духе дружбы и взаимопонимания. Ждите совместного коммюнике о встрече двух министров.
Караванов весь был наполнен добродушной иронией. Северову это понравилось.
Лицо Сенечки разрумянилось, глаза из серых стали голубыми, повеселели. Он скрылся в толпе.
– Актеры – большие дети. Их легко увлечь, – улыбнулся Караванов.
Северов посмотрел на него ласково.
– Он способный актер и прекрасный помреж. Устройте его, – и сжал Караванову локоть.
Подошел Дальский.
– Здорово, друг, здорово. Домой вместе едем?
Караванов представил его:
– Наш трагик. Выйдет на сцену – для зрителей трагедия.
Алеша засмеялся, пожимая Дальскому большую, мясистую руку. Потом отыскал Неженцева, отвел в угол, смущаясь, предложил:
– Сенечка, у меня есть лишние деньги. Хочешь, одолжу?
– Что за вопрос?! – обрадовался тот. – С первой же зарплаты вышлю!
…Смеркалось. Мокрый асфальт, как вода, приобрел глубину – горящие лампочки отражались в нем огненными столбами. Девушки с зонтиками проносили букеты багряных кленовых веточек.
Северов удивлялся: три дня назад бродил с Юлинькой чуть не у подножия Эльбруса, а сейчас один шея по шумным улицам Москвы.
И вот они – намокшие Кремль, храм, Мавзолей… С чугунных бород Минина и Пожарского капало. Как будто воины только что вышли из боя и еще не стерли пот.
Текло по стволам голубых елей у Кремлевской стены.
Северов шел, сняв кепку, смотрел на Спасскую башню, и ему представлялись канувшие в прошлое седые века. Вытащил папиросу, но тут же спрятал, сердито посмотрел на бумажку, прилипшую к торцам.
Опять вспомнил о «бирже». Прыгал, порхал Кадя с подбритыми бровями. Как они, эти Кади, играют рабочих, колхозников? Они же, кроме актерской братии, никого и ничего не знают!
Алеша вспомнил: это же самое говорил и Голобоков…
На второй день режиссеры заметили Северова. Ему предложили ехать в Курган, в Курск, в Тюмень. И он уже решился выбрать Курск, но неожиданно появившийся Никита Касаткин перепутал все планы.
Касаткин распахнул дверь, остановился на пороге и звонко произнес:
– От матушки Волги артистам привет! – присел на левую ногу, склонился, как придворный короля Людовика, поболтал рукой над полом.
Многие обернулись и, увидев щекастого толстяка в клетчатом костюме, рассмеялись.
Касаткина уже окликали знакомые. А он, увидев Алешу, двинулся к нему, чиркнул спичку о лоснящуюся подошву, поднес актеру с незажженной папиросой. Врезался в толпу. Какая-то актриса чихнула. Касаткин выдернул платочек, торчавший у нее из кармана, подал: «Будьте здоровы!» Он пробирался, пожимая десятки рук, рассыпая шутки, хохоча, хлопая по плечам. С ходу облапил Северова:
– Чертушко! И письма не мог написать?!
…С детства Касаткин мечтал быть фокусником или актером. Но когда почти все молодые, здоровые мужчины из колхоза ушли на фронт, пятнадцатилетний Никита сел на трактор. Если, бывало, трактор останавливался, у Касаткина не хватало сил завести. Он дергал ручку и плакал.
И только уже после войны он появился на пороге казанского театра и заявил, что хочет учиться в студии.
– А что вы можете? – спросил режиссер, седой и величественный, как могут быть величественными только режиссеры.
Касаткин внезапно подпрыгнул и два раза перевернулся в воздухе.
Режиссер от неожиданности откинулся в кресле, впился глазами в паренька.
– Могу еще иголкой проткнуть щеку, – таинственно прошептал Касаткин.
В нем было столько простодушия, искренности и врожденного юмора, что режиссер смотрел на мальчишку и, потеряв свое величие, трясся от смеха.
После окончания студии Касаткин работал в нескольких театрах. За отворотами его клетчатых брюк сохранились усики овса с Волги, в кармане – яблочное зернышко из Крыма, на борту пиджака – пятно от кишиневского вина…
– Ну, как ты живешь на белом свете? – шумел Никита.
Северов остановил:
– Потом все расскажу. Я впервые вижу этого режиссера. Кто он? – и показал в угол.
Там сидел человек небольшого роста, худой, смуглый до черноты. Тщательно выбритые щеки, подбородок отливали синевой. Волнистые волосы его были проволочно-жесткие, они даже при движении головы не шевелились. Человек яростно разрывал их, причесывая пятерней. На темном лице серые глаза казались особенно светлыми.
– Кто, кто? – Северов тряс Касаткина за плечо.
– Хэ! Режиссер из Читы, Воевода!
– Мы ехали вместе. Хочешь сведу?
Караванов подвел к Воеводе Неженцева.
Алеша поправил галстук. Рука вздрагивала.
– А кто ему нужен?
– Э, он закидывает сеть на крупную рыбу – комик, любовник, резонер. Ну и, конечно, на всякую молодую плотвичку. Да ты не спеши! Дел приличных нет, все мелочь или дальние. Съезд режиссеров в самом разгаре. Вот-вот должны подъехать южные «дела». Нас, молодых, любой театр с руками и ногами проглотит!
– Молчи! – все больше волновался Северов. – Я должен работать у него! Понял?
От Воеводы, улыбаясь, отходил Неженцев.
– Взял. А ну, крой! – подтолкнул Алеша Касаткина.
– Дай хоть осмотреться! А то с корабля на бал! – взмолился Никита.
– Ну! – Северов сверкнул глазами.
– Вот сатана!
Касаткин подлетел к Воеводе. Алеша слышал, как приятель сыпал:
– Очень способный… Яркий, сочный… Зарплата небольшая… Зритель любит… Ручаюсь за него… Не пожалеете, полезный для театра…
Караванов тоже что-то говорил, по своему обыкновению усмехаясь.
Воевода оценивающим взглядом осматривал лицо и фигуру Северова, а Северов делал вид, будто ничего не знает. На скулах проступил румянец. Шумела, двигалась толпа, а он почти не видел ее.
Касаткин подбежал:
– Идем. Неженцева взяли и актером и помрежем.
– Если выгорит, памятник воздвигну тебе… в душе! Бронзовый! Вот так же под облаками, на здании! – Алеша показал в окно на каменную девушку.
Воевода спрашивал отрывисто, резко, будто снимал допрос: где работал? Что играл? Зарплата?
И Северов тоже отвечал отрывисто, кратко. А Воевода пристально следил за его лицом, за движением губ, вслушивался в голос, в произношение, смотрел на руки. И вдруг добродушно улыбнулся:
– А теперь скажите сами – хороший вы актер? Только по правде!
Алеша засмеялся:
– И хвалили и ругали. Всякое было.
– Дайте трудовую книжку.
Не взглянув, Воевода сунул ее в карман.
– Аванс получите завтра!
Северов с разбегу налетел на актрису. Не извинился. Он только видел у буфета, в кругу приятелей, клетчатого Касаткина с лоснящимся краснощеким лицом. И еще он видел три ослепительных световых водопада – они обрушивались в гудящий зал из трех огромных окон.
Каменная девушка тянула руки к облакам, ветер развевал ее легкое платье.
– Если ты, бродяга, не поедешь со мной, я душу из тебя вытрясу! – проговорил ликующий Северов, прижав к себе Никиту Касаткина.








