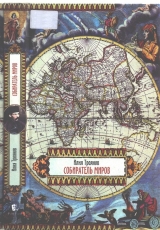
Текст книги "Собиратель миров"
Автор книги: Илия Троянов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
– Вы нашли выход?
– Я встретил человека неподалеку от места сожжения. Один из прокаженных, каких там много ошивается. У него была разъедена половина лица и даже пол-языка. Вид его был невыносим. А голос живьем сдирал с тебя кожу. Ты заблудился, малыш? Мне захотелось быстрей сбежать. Но я застыл на месте. Не спрашивай почему. Я даже поведал ему о нашей беде. Мы вам поможем, сказал он. Приносите труп сюда, ночью, когда все спят, и мы сделаем то, что требуется. У нас есть пуджари, если вам важно, и в слюне его больше святости, чем в тех лицемерах, что прогнали тебя. Они-то по ночам забиваются в щели, чтобы пожрать дневную добычу. Ни разу я не принимал помощь с таким неудовольствием. Но не было выбора. Все-таки он сделал хорошее предложение, пусть и угрожающим голосом. Однако понадобилось время, чтобы убедить Бёртон-сахиба. Пока он понял, что это единственная возможность. Все его влияние и его власть оказались бесполезны. Я думал спросить у слуг, кто из них поможет отнести труп к реке. Он остановил меня. Мы сделаем это вдвоем, сказал он. Только вдвоем. Это наш долг. Мы укутали ее в несколько платков. Дождались, пока все заснут. Я открыл дверь бубукханны и ворота на улицу, потом мы подняли ее, я – за ноги, Бёртон-сахиб – за голову, и двинулись в путь…
Лахья записывал, строчка за строчкой заполнялись повествованием Наукарама, а между строк порхали его мысли, улетая от этого бесцветного описания. Шторм, и смерть, и полночь, и место сожжения, что за роскошные декорации, а этот недалекий человек рассказывал столь неумело. Где же голые и бесстыжие существа, что охраняют переполненные драгоценностями горшки, зарытые от алчных упырей, жадность которых затмила всякий страх? Где йог, выстукивающий двумя берцовыми костями на черепе жуткую праздничную музыку. Лахья уже почти не слушал, он не мог дождаться прощания. Добравшись наконец домой, он отмел в сторону приветствие жены и немедленно удалился во вторую комнату, в страхе, что хотя бы одна из множества его идей испарится, прежде чем он успеет ее записать. Он поспешно набросал первую картину, возникшую в его голове: в вышине небосвода перекатываются бистровые облака, бесформенные, словно громоздкие чудища. А под ними, в центре картины, два мужчины, хозяин и слуга, чужие для этого места, для этой ночи, которых связывает друг с другом гораздо больше, чем они знают, чем решаются себе признаться. Они с усилием несут труп, тело умершей возлюбленной, любовницы их обоих. Лунный серп не светлее слонового бивня, копавшегося в грязевой лужи. Господин поднимает тело себе на плечо, он сильный человек, который может и среди шторма вынести тяжесть былой любви. Другой, слуга, неверными шагами нащупывает тропу, словно ожидая, что вот-вот упадет. Начинается дождь. Дорога поблескивает зловещей белизной. Сквозь темноту и сплетенье ветвей пробивается далекий луч света, как золотой штрих, как прожилка на темной глади пробного камня. Мужчины идут на свет, то ли потому что иного источника света нет, то ли слуга догадывается, что это – отсветы кремирующих огней, вопросительно пронизывающих ночь. Они доходят до смашаана, открытой площадки у реки, до места, которого и при свете дня надо избегать. Оно пустынно, как кажется им на первый взгляд, и слуга уже боится, не стал ли он жертвой отвратительной шутки. Из земли поднимается смрад смерти. Слуга в нерешительности останавливается. Сможет ли он очиститься от скверны, если ступит на нечистую землю? Но господин, защищенный неведением, идет дальше, мертвое тело утяжеляет его поступь, он наступает на оставшиеся, несожженные кости, и они скрежещут под его ногами, как зубы чудовища. Слуга закрывает рот концом тюрбана и идет следом. Перед ними вспыхивают призрачные огни угрюмо-красного цвета, словно шакалы, пожирающие жалкие остатки человеческих жизней, обгладывающие их до белых костей. Над костром парят призрачные существа, которым надо убедиться, что прошлые их тела сожжены в пепел. Они залетели мимолетно, в ожидании, пока новые тела, где им суждено обитать, будут готовы принять их. Но есть и те, кто населяет смашаан. Здесь бродят духи вероломно убитых с кровоточащими членами, за ними следуют скелеты их убийц, чьи потрескавшиеся кости едва держатся на остатках жил. Ветер стонет, а набухшая река клокочет кровью суетного мира. Господин и слуга уже потратили мужество многих жизней. Они не одни. На другом конце смашаана, под пальмой, тщетно сопротивляющейся дождю и ветру, жмется кучка несчастных. Посредине – человек с половиной лица, перед ним воткнута в землю палка. Он одет в дхоти цвета охры, а выше пояса тело покрыто лишь длинными волосами, свалявшимися в жирные завшивленные жгуты. Это грива лошади. Белые известковые полосы словно смиряют его тело, а на бедрах висит корсет из костей. Пока он не шевелится, то кажется статуей. Он встает. Вот и вы, говорит он. Это не слова приветствия. А вот то, от чего вам надо отделаться. Не смей так говорить о ней, обрывает его господин. Слуга поражен, не лишился ли тот рассудка. У нас найдется немного древесины. Мы преданы душой созданиям тени, поэтому добавим к костру той, которую не знали, но считаем одной из нас, сандалового дерева. Прощание с ней будет ароматней прощания с нагарским брахманом. Господин кладет труп на землю. От вас больше ничего не нужно. Даже наоборот, мы желаем, чтоб вы исчезли. От вас нет прока, вы годны лишь в свидетели собственного кошмара.
42. БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ
– Я был поражен, прочитав на прошлой неделе в «Бомбей таймс» о том, каких успехов достигли мы в миссионерстве.
– Да, лейтенант Одри, учитывая обстоятельства, мы выглядим весьма неплохо.
– Неплохо? Ну да. Неужели может быть хуже?
– Будьте терпеливы.
– Разумеется, терпение – высшая гражданская добродетель.
– Но вы же не будете всерьез отрицать, что дело продвигается? Согласен, медленно и осмотрительно, но продвигается.
– Ваше преподобие, на мой взгляд, достигнутые результаты находятся в грубом несоответствии с применяемыми средствами. Затратив вдвое меньше денег и времени, можно было добиться вдвое большего числа новообращенных среди индусов.
– Ну, это уже слишком, мистер Бёртон!
– Да ты в своем уме, Дик, сам же знаешь, что индусы не меняют веру!
Большой ужин в офицерской столовой. Между двух председателей по обеим сторонам длинного стола, двух почтенных стариков, у которых мозги сплавились от жары, так что они могли вспомнить лишь то, что им крепче всего внушали – муштру. Нельзя было допускать, чтобы серьезные разговоры отравляли застолье, однако на этот раз они не могли уследить, потому что один глава стола в первые же дождливые дни серьезно простыл и его тяжелое сопение полностью отняло его у общества, а второй слышал лишь тогда, когда ему орали прямо в ухо. Улыбнувшись взволнованной беседе между Ричардом Бёртоном, лейтенантом Амброзом Одри и его преподобием Вальтером Постхумусом, он отправил себе в рот кусок вареной индейки.
– Мудрый народ. Поумнее нас. Добровольное миссионерство? Это contradictio in adjecto, противоречие в определении. Почему португальцы в Гоа добились успеха? Потому что католическая церковь умеет лучше убеждать язычников, чем англиканская? Ни в коем случае. Существует лишь одно объяснение – насилие. Применение насилия безо всяких условий и оговорок. Васко да Гама привез восемь францисканских монахов и восемь капелланов. Они должны были проповедовать, но кардиналы засомневались в плодотворности проповедей, опыт учит изворотливости, потому они распорядились привлечь к обращениям меч. Еще перед высадкой в Калькутте добрый да Гама, прославляемый на родине как завоеватель земель и человеческих душ, поджег целый корабль, полный мусульманских паломников. Ступив на берег, он, не откладывая в долгий ящик, простите мой вольный глагол, расстрелял всех непокорных рыбаков. И индийцы резво стали одеваться как португальцы, напиваться еще сильнее, чем португальцы, называть себя португальскими именами и бегать на церковную службу чаще священников.
– А мы, напротив, верим в слово, в нашу благую весть.
– Вы разбираетесь в деле лучше меня, господа, и может, объясните мне такую вещь: я слышал, будто португальские миссионеры переодевались. Они якобы бродили по округе как отшельники и даже проповедовали мешанину из евангельских сюжетов и туземных легенд.
– Масала-Евангелие.
– А во время процессий они вроде бы выставляли в паланкине святых вперемежку с индусскими божествами. Очень странная история…
– Я бы скорее сказал – богохульная!
– Но не без изящества и не без успеха.
Это еще сносный разговор, приходится радоваться любым цветкам местной болтовни. Как же он натерпелся на последнем ужине, когда кого-то награждали, и бригадир говорил похвальное слово, на изнуряющей жаре, подробно описывая карьеру, которая не уступала по занимательности мухам на столе. Время от времени кхидматгар, в тюрбане, величественном, как боевой трофей, приближался к столу, чтобы прогнать их, и его тряпка порхала над головами, сраженными дремотой. Когда бригадир добрался до конца своей официально оцепенелой хвалебной халтуры и вскрикнул «Гип-гип!» в честь героя вечера, слова его не долетели до спящих ушей. Дремали уже не только самые нестойкие, теперь поникли все головы до единой. Бригадир стоял с пунцовой головой, и Бёртон поспешил ему на помощь, воздев почти пустой бокал мадеры, он со всей силы выкрикнул «Ура!», и все головы тут же выкатились из сна, лицевые мускулы задергались, как птицы, в чье гнездо брошен камень, а Бёртон ухмылкой подбодрил бригадира на повторный клич, а когда тот не последовал, он затянул «Какой он славный малый», и остальные попытались, кряхтя и кашляя, примкнуть. У бригадира во главе стола был вид главнокомандующего, чье войско безнадежно рассеялось, голоса натыкались друг на друга, воистину, «Никто не станет отрицать», что последняя строка, как и весь закупоренный вечер, брызнула во все стороны.
– Что толку в успехе, ради которого надо поступаться основами своей веры?
– Конечно, пусть лучше язычники высмеивают нас за то, что основатель нашей религии – сын бадхахи.
– Раз важна профессия Иосифа, давайте сделаем из него воина или дадим ему другое занятие, не важно какое, главное, чтобы он не относился к низшей касте.
– Благодарю вас за помощь, Бёртон. Но если мы на такое пойдем, то можем сразу переписать все Священное Писание.
– Неплохая идея. Предположим, Иисус был сыном принца из Матхуры, и злой махараджа повелел умертвить всех детей в округе, потому что пророчество предсказывало ему несчастье от Спасителя, рожденного в полночь…
– Вы заговариваетесь.
– Полегче, мой милый, полегче.
– Насыщение многих людей – это, без сомнения, внушительное достижение. Еще большего впечатления мы добьемся, если наш Иисус из Матхуры победит парочку чудовищ. К примеру, задушит злого змея. Это же вполне возможно.
На этих обедах ели слишком много баранины. Говядина была немыслима, по одной простой причине – это была бы высшая форма каннибализма. Свиное жаркое было невозможно, каждый из них видел свиней на базаре, и «валяться в грязи» – это еще слабо сказано, вдобавок все поварята были мусульманами. Иногда появлялась ветчина, всеми желанная, как прекрасная кузина, ступившая на кривую дорожку и потому рядящаяся в чрезмерно пристойные одежды, так что ее именовали Wilayati Bakri, европейский ягненок, иными словами: невинный агнец. Некоторые индусы не притрагивались вообще ни к какому мясу, на что у бригадира имелось простое объяснение, которое он с удовольствием повторял для назидания и развлечения каждого нового гостя: индусы верят в перерождение, ведь так, и думают, кто недостойно жил, станет в следующей жизни животным, так-то, и боятся, что поедая мясо, могут съесть собственную бабушку, вот как.
– Почему бы нам не использовать другие средства?
– Другие, помимо Евангелия, Амброз?
– Нет. Помимо проповеди и насилия. Мы могли бы увеличить число христиан, если бы раздавали бесплатную еду. Своей щедростью мы убили бы разом двух мух: кормили людей здоровой пищей и увеличили число христиан. Каков, по-вашему, успешный коэффициент между мешками с рисом и крещениями?
– Возможно, и сработает, но представь себе, какая сеть распространения понадобится, чтобы держать всех новообращенных на привязи. Нет! И зачем вы так жаждете превратить хороших язычников в плохих христиан? Неужели вы верите, что стоит лишь переодеть индусов в европейцев или в христиан да чуть потренировать их, и они станут мыслить и чувствовать как европейцы и христиане? Вздор. А как насчет сипаев? Им же чертовски неудобно в том толстом сукне, которое мы на них напяливаем?
– Едва мы отворачиваемся, эти ребята первым делом снимают форму и надевают легкие курты. Что мы о них знаем? Нечего будет изумляться, если они однажды обратят свое оружие против нас, нечего будет хлопать глазами, потому что мы вбили себе в голову, что якобы заслужили их верность своим хорошим обхождением с ними.
– А часто ли вы видите своих овец, ваше преподобие? Вы задавались вопросом, как проводят эти люди свой досуг? Как они общаются, что говорят о нас, что замышляют?
– Боюсь, я досыта наслушался этих пьяных речей. Я откланиваюсь.
– Послушайте, ваше преподобие. Наша власть держится лишь на том, что у туземцев высокое мнение о нас и низкое – о себе самих. Если они лучше узнают нас, а это случится, если они массово перейдут в нашу веру, то потеряют к нам всякое уважение. Они преодолеют свой комплекс неполноценности. Перестанут подчиняться. Поверят, что смогут победить, а не будут, как сейчас, полагать, будто повержены раз и навсегда. Через поколение мы можем оказаться перед лицом катастрофы. В одном-то мы по крайней мере сходимся: если жители Индии объединятся на один-единственный день и заговорят в один голос, то они выметут нас вон отсюда.
– То есть пока они боятся, повода для беспокойства нет?
– Страх рождает подозрительность, подозрительность – лживость. Слабак и трус прекрасно знают, почему они не доверяют соседу.
– Полнейшая чушь! Нет, честное слово, я крайне удивлен. Даже если допустить, будто вы правы с политической или военной точки зрения, все же мы не имеем права обрекать язычников на вечное проклятие. Неужели мы должны утаить от них блага нашей цивилизации, руководствуясь такими оппортунистскими взглядами? Нет – миссионерство будет двигаться вперед, вы еще увидите, и пусть потребуется еще сотня лет, но Британская Индия станет христианской, и тогда эта страна по-настоящему расцветет. А теперь извините меня, господа, я прощаюсь, вы навели меня на полезные мысли для моей воскресной проповеди.
43. НАУКАРАМ
II Aum Avighnaaya namaha I Sarvavighnopashantaye namaha I Aum Ganeshaya namaha II
– И он не знал, что она раньше была девадаси?
– Нет.
– Но, наверное, он что-то подозревал?
– Нет. Точно нет.
– Стало быть, ничто не омрачало его чувств?
– Я слишком поздно понял его чувства. Я недооценивал, как много она для него значила. Я осознал это лишь после ее смерти.
– Он горевал?
– Да, но в своем странноватом духе. Он ничего не делал, как остальные люди. Первое задание, которое он мне дал после той ночи сожжения, было найти для него обезьян. Не важно, каких, наоборот, хорошо, если обезьяны будут разные. И разнополые. Я решил, что он сходит с ума. Мне удалось раздобыть штук шесть, и вместе с другими слугами мы на тележке повезли животных в наше бунгало. Обезьяны лаяли, кудахтали, визжали, и изо всех ворот выглядывали садовники, потешаясь над нами. Мне было так стыдно! Следующий приказ Бёртон-сахиба однозначно доказывал его безумие. Он потребовал, чтобы мы разместили обезьян в бубукханне. Потом поведал мне, что ожидает вечером шестерых гостей и повелел накрыть на стол и позвать соответствующее количество слуг. Я был глуп, я не догадался сопоставить шесть и шесть. Но как я смог заподозрить, что произойдет? Никто из нас не был к такому готов.
– Необычное всегда объясняется позднее.
– В начале ужина мы должны были принести обезьян в дом. Он стоял во главе стола и приветливо здоровался с обезьянами как со старыми друзьями. Ни с одним офицером он не бывал столь любезен. Он распорядился усадить их на стулья за большим столом и объявил, что будет ужинать вместе с ними. Он по-английски представил их, но другие слуги ничего не поняли. Они были заняты тем, что хватали обезьян и усаживали их на места. Большой павиан – это был доктор Касамэйджор, малый павиан – секретарь Рутледж, оба в сопровождении жен, третью обезьяну он назвал адъютантом Маккарди, а самая страшная обезьяна оказалась пастором Постхумусом. Я рассмеялся, но так, словно выскребал свой смех из подгоревшей кастрюли, и вслед за мной заулыбались остальные слуги. Вообще-то я не хотел смеяться ему в лицо, но мне казалось, если признать шутку, эта бессмыслица быстро закончится. Но он прикрикнул, что не потерпит непослушания и мы должны прислуживать гостям. Пригрозил даже, что выгонит нас всех прочь, если мы будем невежливы к гостям, и по его тону я понял, что это не шутка. Я дал знак слугам накрывать. Разумеется, обезьяны по-прежнему не сидели на месте, то и дело одна из них вскакивала, и ее приходилось усаживать обратно. Бёртон-сахиб делал вид, будто ничего не замечает, он играл роль гостеприимного хозяина, разговаривал с ними, обсуждал последние интриги при дворе, невозможно было поверить своим глазам и ушам. Он предостерегал против группировки нагарских брахманов, к которым относились тогда все советники махараджи, по крайней мере все министры. Он рассматривал варианты, как ангреци могли бы помешать их влиянию при дворе. Интересовался мнением гостей, а если одна из обезьян фыркала, восторженно восклицал: «Послушайте, послушайте, дамы и господа, какая подкупающая реплика!» Обезьяны разбрасывали приборы, разливали вино, шлепали лапами по супу, бросались друг в друга горохом. Лишь когда принесли жаркое, они стали вести себя лучше. Как вкусно, крикнул Бёртон-сахиб. Аллилуйя, пусть же будет вкусно вовек! Нам пришлось отнести его в постель, так сильно он напился к концу вечера. Было очень стыдно за него, но мы радовались, что выдержали это безумие. Мы еще не знали, что оно будет повторяться каждый вечер. И каждый вечер Бёртон-сахиб напивался так, что не мог сам добраться до постели. То, что мне пришлось пережить в те дни, было отвратительно; я едва выносил вид этого всего.
– Это хуже чем отвратительно. Это противно природе.
– И стало еще отвратительней. Там была одна обезьянка. Бёртон-сахиб уверял, что отбил ее у секретаря Рутледжа и теперь она якобы его возлюбленная. Он красил ей губы, надевал серьги, наматывал цепочки на ее сморщенную шею. Она была маленькая, когда сидела за столом, ее почти не было видно. Тогда он одолжил у одного из офицеров детский стульчик, на который ее нужно было усаживать во время еды. Он называл ее «моя милая», обхаживал ее. Пытался завлечь в свою игру кхидматгара, постоянно спрашивая у него: «Не правда ли, она чудесна? Не правда ли, она обворожительна? Хочешь, я спрошу у нее, нет ли у нее сестры, для тебя?» Это было так унизительно, что бедняга сбежал. Хотя у него не было другой работы.
– А чем он занимался с обезьянами днем?
– Он притворялся, будто учит их язык. Записывал звуки. Однажды он спросил мое мнение. Какая письменность, на мой взгляд, девангари, гуджарати или вообще латиница, больше подходит для передачи языка обезьян.
– Полагаю, Упаничче-сахиба он об этом не спрашивал.
– Правда, не спрашивал. Как вы догадались?
– Настолько сумасшедшим он все-таки не был. У него был развит глазомер на непочтительность. По отношению к вам он не пытался сдерживаться. Гуруджи – другое дело. И что же вы ему ответили?
– Я промолчал. Я молчал в те дни. Мне кажется, сказал он, наиболее адекватны будут китайские значки, но что поделать, не стану же я ради этих приматов учить мандарин. Он составил словарик их звуков, говорил, что собрал шестьдесят выражений, и очень гордился этим. Уверял, что скоро сможет беседовать с обезьянами.
44. КТО ВСТРЕЧАЕТСЯ С РАСКАЯНИЕМ
– Наукарам, посмотри, какие у нас важные гости. Почему бы тебе не подсесть к нам?
– Простите меня, Бёртон-сахиб, я не могу подсесть к обезьянам.
– Что за слова? Где твое хлебосольство, Наукарам? Ох, никакой от тебя помощи. Давай же, ну, хоть сегодня.
– Оставьте меня, сахиб.
– Подойди сюда!
– Я тоже скорблю, сахиб.
– О ком же, Наукарам? Мы тут сидим в дерьме, как только что вот обнаружили, но эгей, Наукарам, но нам чертовски-больно-дико-весело.
– О ней.
– О ней? И кто же эта таинственная Она?
– О Кундалини, сахиб.
– Чего ты там шепчешь, мой милый. Мне даже послышалось – Кундалини. Быть этого не может. Ты? Почему ты? Для тебя же она была, постой-ка, как бы мне это поизящней сформулировать в присутствии наших дам, да, просто-напросто шлюхой! Вот именно – шлюхой, которую ты удачно мне навязал.
– Я привел ее в дом, потому что она произвела на меня большое впечатление.
– Ах, впечатление. Как трогательно.
– Она мне нравилась.
– Как женщина, Наукарам? Как женщина?
– Да, именно так. И моя привязанность росла. Я был счастлив, когда она появлялась, а когда уходила – я печалился и ждал ее возвращения. Вы же сами знаете, какой она была.
– Я знаю, знаю, какой она была, лучше тебя знаю. Ты только смотрел на нее, только слушал ее голос, и вот, глядите, какой результат. Глубокоуважаемые гости, позвольте представить – перед вами влюбленный человек.
– Что вы знали о Кундалини, сахиб?
– Знать все – это не цель, это не предел. Но раз ты задал такой вопрос, то знай, мне было известно о ней достаточно много.
– А было ли вам известно, куда она шла, когда покидала нас?
– Ты имеешь в виду – на праздники? Конечно, к родным, к семье.
– У нее не было семьи. Она была еще маленькой, когда мать отдала ее в храм, и больше они не виделись.
– Ты ошибаешься, ты что-то напутал. О таком она рассказала бы мне.
– Почему же? Почему она должна была вам о таком рассказать? Она боялась, что вы все поймете неправильно. Она боялась вас.
– Ты лжешь. Чего тут можно неправильно понять? Я стал бы ее жалеть.
– Возможно. А возможно – презирать. Кто знает с точностью все заранее?
– Так где же она была?
– Я лучше не буду вам говорить.
– Наукарам! Я сегодня же вечером выброшу тебя из дома. Клянусь перед этими обезьянами. Куда она ходила?
– Она посещала тот храм, где выросла.
– Она выросла в храме?
– Да, а потом пришла в Бароду.
– Она жила в самом храме?
– В задней комнатке.
– И что она там делала?
– Служила богу, сахиб. Она была прислужницей бога.
– И почему я должен ее за это презирать?
– Я не могу больше ничего сказать.
– Нет уж. Наоборот. Ты расскажешь мне все. Не волнуйся, я уже почти трезв.
– Я больше боюсь вас, когда вы трезвый.
– Что происходило в храме?
– Она прислуживала не только богу. Но и священнику.
– Как? Убирала и готовила?
– Нет, по-другому.
– Ты хочешь сказать – как женщина? Что-то типа танцовщиц науч?
– Да, примерно.
– И я должен тебе поверить?
– Это правда, сахиб.
– И сколько времени это продолжалось?
– Я не знаю.
– А когда она возвращалась туда, то она опять со священником?..
– Нет, не думаю. Точно нет. Она сбежала от него, потому что он плохо обращался с ней. Поэтому она и пришла в Бароду.
– И ты от меня все это скрывал?
– Ей необходимо было возвращаться. Это было единственное место, где она себя чувствовала защищенной, даже несмотря на священника. Она скучала по храму и его атмосфере, скучала по временам, когда сидела перед божеством и обмахивала его опахалом. Это странно. Ей было там хорошо и уютно. Хотя он плохо обращался с ней.
– И ты мне ничего не рассказывал. Чувствую страстное желание тебя высечь.
– Мне и в голову не могло прийти, что вам это неизвестно. Вы знали ее гораздо лучше меня. Я только проводил с ней вместе пару часов на кухне. Иногда мы вместе ели. Иногда сидели на веранде, когда вы уезжали. Вы и сами знаете, как редко такое случалось. Как же мог я осмелиться заговорить с вами о тайнах, к которым вы были гораздо ближе меня.
45. НАУКАРАМ
II Aum Devavrataaya namaha I Sarvavighnopashantaye namaha I Aum Ganeshaya namaha II
– Ты перешел все границы. Это непростительно, что ты наделал. Как ты посмел разбалтывать мои тайны? Это предназначалось только для твоих ушей. Или лахья имеет право рассказывать все направо и налево? И расплачиваться на базаре добром тех людей, которые ему доверяют? Я ошибся в тебе, ты недостойный человек. Одно это уже отвратительно, а ты вдобавок оболгал меня, и твоя ложь теперь уничтожит меня в этом городе.
– В чем дело, в чем дело? Я никогда не лгу!
– Я уже тебе не верю.
– Кто-то оклеветал меня.
– Ну вот, ты опять лжешь. Я слышал все собственными ушами. Там был певец, который вначале исполнял бхаджаны. А потом стал петь стихи собственного сочинения, и они были уже совсем не святыми, они были вульгарны, на потеху публике. Он насмехался над ангреци и сардарджи, над похотливым стариком, который воспылал любовью к прачке и потому каждый день приносил свою одежду в стирку. Глупейшие тексты. А потом вдруг запел про слугу, который обманывал своего хозяина. О его любви к хозяйской бубу, девадаси, которая ловко пользовалась обоими. Я застыл. Вначале я думал, это совпадение, но вскоре понял, что это объяснение невозможно. Я ждал, что все зрители сейчас обернутся и будут разглядывать меня. Мне было так неприятно. И больно. Но это еще было ничто по сравнению с тем, что последовало. Бубу, с удовольствием пропел он своим мерзким самовлюбленным голосом, она родила ребенка, когда господин был в отъезде на несколько месяцев. Она убила младенца, а слуга помог ей закопать труп в лесу.
– Такого я ему не рассказывал.
– Значит, ты признаешь, что он узнал все от тебя.
– Это мой друг, я просил его совета. Я сомневался, как мне дальше записывать вашу историю. Это не так легко, как вы думаете. Иногда у меня опускаются руки. Я не упоминал никакого мертвого ребенка. Нет, подождите, подождите, я, кажется, догадываюсь, мертвая обезьянка, помните, которую Бёртон-сахиб сам закопал в саду, это вы мне рассказывали. Может быть, я говорил о похоронах обезьяны, согласитесь, это сумасшедшее окончание большого безумия, и для сравнения, понимаете, для сравнения сказал, что он похоронил животное словно собственного сына. Всего лишь безобидное сравнение.
– А потом, какие были потом безобидные сравнения? И кто за это в ответе. Кто?
– За что в ответе?
– За стихи этого шакала, которого ты обзываешь своим другом. В конце, мне ни разу в жизни не было так стыдно, они оканчиваются тем, что слуга отравил бубу. Потому что она отвергла его любовь, и ревность разрушила его. Он забрал ее жизнь, потому что не мог смотреть, как она лежит в объятиях его господина.
– Нет, я никогда не стал бы такое говорить. Я не стал бы даже предполагать такое. Вы запутались. История, которую рассказывал мой друг, это вовсе не ваша история. Возможно, его вдохновил мой рассказ, не буду спорить, наверняка вдохновил его, но он сделал вашу историю своей собственной.
– За мой счет.
– Да что вам за беда от болтовни какого-то манбхатта?
– А кто теперь сможет разделить обе истории? Любой, кто мало знаком со мной, умножит свое знание ядом этой клеветы.
46. СЫН ДВУХ МАТЕРЕЙ
Когда Бёртон впервые о нем услышал, человек этот был похоронен под собственным именем, припечатан именем, собравшим в себе все проклятия, какие навалил на него город. Его называли бародский бастард. И только так. Было трудно представить себе, что он когда-либо носил иное имя. Это был прокаженный, с которым не хотел иметь дело ни один человек, кто хоть чуть дорожил собой. Но порой, когда уезжали все официальные переводчики, его вызывали в суд. Бастард с бравурностью исполнял задание. Он успокаивал обвиняемых, хотя они с неохотой принимали его помощь. С удивительной чуткостью реагировал на желания судьи. Местные диалекты вольно лились из него, напротив, его грамматически безупречный английский звучал так, словно он провел слишком долгое время на карантине. Что не странно, ибо помимо суда бародский бастард не имел никаких связей с британцами. Лишь на суде он пользовался английским языком, выученным у отца-ирландца, который дезертировал и зачал сына с местной женщиной по ту сторону северо-западной границы. Презрение, окружавшее когда-то отца, перешло на сына. С одной незначительной разницей. Если отец, отгородясь от проклятий, вел в общем и целом вполне счастливую жизнь, то сын оказался перед ними беззащитен. Бёртон повстречал бародского бастарда случайно на улице. Он узнал его по той дикости в одежде, о которой уже был наслышан. Никто другой не надел бы поверх длинного сари пайтхани из необработанного шелка – поношенную армейскую куртку, где дыры были заплатаны обрывками разноцветных тканей, а на голову – продырявленную дыню. Чтоб остудить мозги, как шутили. Бёртон придержал коня, чтобы двигаться с ним вровень, и заговорил на хиндустани. Тот, даже не взглянув, ответил по-английски. Бёртон упрямо продолжил на хиндустани. – Говорите со мной на английском, – грубо отрезал тот. – Почему? – Потому что я – британец. – Ты? – Бёртон поразился такой дерзости. Кто здесь только не отваживается величать себя британцем. – Ты – бастард, – сказал Бёртон, перед тем как пришпорить коня, без враждебности, но пресекая любые возражения. И подобно всем бастардам – добавил он про себя, – в тебе соединилось все самое дурное с обеих сторон. Таков закон природы, негативное пробивает себе дорогу.
Бастард решил подкрепить гипотезу Бёртона своим поведением. На день рождения королевы он объявился перед офицерским клубом и потребовал, чтобы его пустили. Все подданные Ее Величества имеют право на этот торжественный праздник. Он должен был считать себя счастливцем, что его всего лишь схватили за шиворот и выставили вон. Но бастард так просто не сдался. Вскоре в столовой раздался удивленный возглас, следом – еще один. Бог ты мой, вы только поглядите! Столпившись у окон, они уставились на прямо-таки дьявольское бесстыдство. Бастард сидел на обочине, где начинался выжженный газон. Он расстелил белую скатерть и выставил посуду, керамическую, украшенную рисунком плюща.
Никому не ведомо, где он ухитрился все это раздобыть. Из чайника с лебединой шеей он налил себе немного чая, и все отметили темный цвет, явно не тот привычный масала-чай, который пила эта братия. Он взялся за ручку большим и указательным пальцем, господи!, даже оттопырил мизинец, и, не обращая внимания на стражников, которые стояли вокруг и орали на него, неторопливо сделал первый глоток. Чашку выбили у него из рук, горячий чай – намеренно или случайно – плеснул в лицо одному из стражников. Чашка упала на землю, но не разбилась, а была раздавлена сапогами стражей, набросившихся на тщедушного человека. Бёртон и еще несколько офицеров немедленно выбежали, чтобы не дать им забить бастарда до смерти. Он лежал окровавленный, среди осколков. Никто не знал, где он обитает, а перенести его в офицерскую столовую было совершенно немыслимо. Выбежавшие офицеры некоторое время потоптались вокруг и постепенно, один за другим, вернулись к празднеству. Бёртон то и дело кидал взгляд в окно. Он не мог оставить лежать человека на улице. Срочно вызвал Наукарама и еще нескольких слуг. Они перенесли бастарда в бунгало и положили на кровать в бубукханне. Соседство обезьян вряд ли смутило бы лежащего без сознания. Бутылка старого портвейна убедила старого Хэнтингтона проверить, все ли кости целы, и сделать перевязку. На следующее утро бастард исчез.








