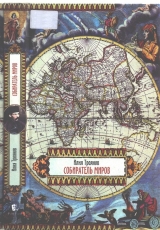
Текст книги "Собиратель миров"
Автор книги: Илия Троянов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
– При его-то жадности закрадывается подозрение, что он надеется на ваше невозвращение.
– Я почти чую недоверие арабов.
– Но мы находимся под личной защитой султана.
– Это лишь относительно, Джек. Честное слово на Востоке, которое тебе торжественно дается, – это лишь заявление о намерениях, гарантия возможного поведения.
– Как это верно, как верно! На вашем месте, джентльмены, я ни минуты не полагался бы на белуджей, которых вам дает в сопровождение султан. Даже если они сами – люди честные, в чем я весьма сомневаюсь, то я не понимаю, в каком бреду султан решил вложить им в руки мушкеты – каждый из них действует только себе во благо.
– Один из моих источников, кстати, докладывает: при дворе плетутся яростные интриги против вас. Некоторые ближайшие советники султана убеждают его, будто ваша экспедиция – всего лишь повод для Британской империи, чтобы обосноваться в Восточной Африке. Надолго. Что в конечном итоге лишит султана его власти.
– Они боятся за свою торговую монополию.
– Прежде всего они боятся за доходную работорговлю. Они следят за новостями из Европы и осведомлены гораздо лучше, чем мы себе представляем.
– И пусть боятся. Я великий ходатай страха.
– Ричард, мы все наслышаны о ваших замечательных достижениях. Мы восхищаемся, поверьте. Но все-таки не теряйте бдительности. Прежде вы ездили по худо-бедно цивилизованным областям. Там были люди, умеющие писать, там были постройки старше чем, последний сезон дождей. Сейчас же вам предстоит путешествие в абсолютно дикую местность, возможно, даже к каннибалам.
– Абсолютно дикая местность? Такое бывает?
– Вы еще не были в этой части света. Не обольщайтесь, глядя на Занзибар. За той пустыней на материке вас не ждет никакой таинственный город – ни Мекка, ни Харар, или как там еще они называются. Лишь дикая страна, не прирученная рукой человека.
= = = = =
Сиди Мубарак Бомбей
– И что, дедушка, все люди, что пришли из того далекого места, назывались Бомбей?
– Нет, некоторые из нас называли себя по тем местам, откуда они родом, о которых они вспоминали, они называли себя кундучи, они называли себя малинди, они называли себя багамойо. Но я решил присвоить себе имя города, где родилась моя третья жизнь – Бомбей. А раньше некоторые звали меня Мубарак Миквава, потому что я происхожу из людей яо, о чем я сам не знал, я был человеком яо, о том не зная. В детстве я никогда не слышал про яо. Дед никогда не говорил: мы – люди яо, отец никогда не говорил: мы – люди яо. Лишь став рабом, я обнаружил, что я – яо, но мне это уже было не нужно. Яо – это хорошо звучит, но я не хотел, чтобы мне целую жизнь напоминали о стране, которая для меня погибла, я не хотел, чтобы с каждым окликом мне напоминали о том, что я уже однажды умер. Дорога, которая ждала меня, была важнее той, что позади меня, если вы можете меня понять.
– Конечно, мы понимаем тебя, это как с направлением молитвы.
– Когда солнце встает, никто не думает о закате.
– Баба Илиас, твои поговорки сидят так же криво, как одежда баба Ишмаила.
– Другие рабы остались в Бомбее, они взяли себе местных женщин и были довольны жизнью сиди.
– Жизнью сиди? Я и не знал, что ты из собственного имени наколдовал целый народ.
– Сиди там называют всех, кто темнокожий и родом из-за моря. Некоторые из них были мне такими же чужими, как жители Бомбея, но для местных мы были едины, они не различали нас ни по цвету кожи, ни по лицам.
– И все они были истинно верующими?
– Если б я знал, как выглядит истинная вера, я смог бы ответить на твой вопрос, баба Квуддус. Они чтили молитвы, нерегулярно, они читали благородный Коран, временами, когда дела были плохи, а на праздники собирались в одном доме, и в середине самой большой комнаты этого дома стоял гроб человека, покрытый зеленой тканью, а на стенах висели дубинки, калабасы, чем-то похожие на те, какие я помнил по своей деревне, орудия святого человека, который охранял сиди с незапамятных лет. Праздник начинался барабанами, бить в них могли только потомки этого святого. Мы танцевали вокруг гроба и пели, потом выбегали на узкую улицу и танцевали и пели дальше, и это звучало для меня детством, это звенело, как моя первая жизнь, и я вдруг чувствовал себя на родине в том чужом городе.
– А молитвы?
– Мы говорили молитвы, но эти молитвы были направлены не к Богу, нет, а к тому, кому вы никогда не молились, в этом-то я уверен, его имя вам никогда не придет в голову, даже если вы целый вечер будете думать. Хотя догадаться вообще-то нетрудно.
– Ты считаешь, что у нас плохая память?
– Не подсказывай. Сейчас сам вспомню.
– Как мог ты о нем забыть. На днях сам баба Сиди позабыл его имя, а ты сказал ему.
– Это было недавно.
– Ну скажи же!
– Мы молились Билялю, потому что Биляль считался нашим первым и самым могущественным предком.
– Но это ширк!
– Ах, баба Квуддус, да что такое ширк, а что – нет? Что было правдой с самого начала и что останется правдой на все времена?
– Благородный Коран, ты и сам знаешь.
– Биляль не заменяет благородный Коран, но дополняет его, он спутник рабов или тех, кто раньше был рабом, спутник людей, которые нуждаются в парочке собственных слов для ободрения и утешения. Не забывай, именно у сиди, у этих людей, которых ты обвиняешь в отступничестве, я научился молиться, у них я выучился сурам, у них я встретил людей, объяснивших мне части Корана.
– Дедушка, а как ты оттуда вернулся?
– Баньян заболел, в один день болезнь почти не притронулась к нему, а на другой день смерть уже схватила его, а на следующий день его сожгли, на берегу в Бомбее, и я настоял на том, чтобы присутствовать, хотя этот вид печалил меня. Я благодарил его, пока огонь поглощал его, несмотря ни на что благодарил его, пока он сморщивался и лопался и в конце концов прогорел до пепла, медленно, это длилось с полудня почти до захода солнца, долгое время, время моей последней службы ему, и даже после этого он сгорел не полностью, еще осталась тазовая кость.
– Как отвратительно!
– Только представьте себе, как он мечется в аду, одна лишь кость, с которой при любом движении сыпется зола.
– Как может он вообще двигаться, если состоит из одной-единственной кости?
– Безумие.
– Да подарит Бог этим несчастным чуть больше разума.
– Не знаю, правы ли вы. Выть вместе с гиенами кажется безумным лишь тому, кто сам – не гиена.
– Баба Илиас, может, при случае поведаешь нам, какое отношение имеют гиены к сожжению трупов.
– Я так и не узнал, как ты вернулся на Занзибар.
– Мой господин распорядился в завещании, что после его смерти я получу свободу…
– Кофе, сколько кофе?
– Есть только одна женщина, которая меня так перебивает.
– Наговориться-то ты успеешь. Дай нашим гостям хоть чем-нибудь спокойно насладиться. Мадафу, кто хочет мадафу? Наш сын принес сегодня свежие кокосы.
– Скажите наконец, чего вы хотите. Не будет мне покоя, пока она не получит от вас ответ.
= = = = =
Лодки приплыли и теснятся у причала, как козы в загоне. Пряди облаков разбросаны по небу, голоса дерутся за выгоду. Женские руки чистят мелких макрелей, бросая кишки рядом с сохнущими сетями, а остальную рыбу – в корзину. Некоторые мужчины врачуют лодки неторопливыми движениями, как будто свет дня требует новой страховки. Посредине всего стоит чужак. Просто стоит, не двигаясь. Стоит, видимо, давно, потому что ни рыбаки, ни торговки на него внимания уже не обращают. Словно он – часть жизни. Только дети крутятся рядом, ощупывая концы его куртки, чтобы найти лазейку к многочисленным карманам. Он – губка, впитывающая все, напряжен и полон жадного любопытства. Он провел беспокойную ночь. Это его последний день на острове. Он рано вышел из дома, из этого серо-коричневого винного ящика, где размещается британское консульство, пахнущее консулом, который никак не наберется сил поплыть навстречу собственной смерти. Когда Бёртон выходил из здания, его остановил голос. Консул лежал на веранде, закутанный в одеяла.
– Доброе утро, Дик.
– Доброго в нем лишь то, что он пришел на смену ночи.
– Плохие сны?
– Вообще никаких снов.
– Может, это хороший знак?
– Знак? Предпочитаю сам ставить знаки. Кстати, я рад слышать, что вы решили вернуться домой.
– Домой? Ну да, когда-нибудь я вернусь.
– Когда-нибудь? Вчера вечером вы были готовы отдать приказ собирать чемоданы.
– Мы говорили несколько экстатично, мой дорогой. Вначале мне надо позаботиться о том, чтобы вы удачно отправились в дорогу.
– Единственное, о чем вам надо заботиться, – так это о том, чтобы поправиться. Возвращение домой – это лучшая медицина.
– Здоровье, да, с ним в тропиках не очень-то хорошо обстоят дела. Вы, кстати, знаете, от чего умирают состоятельные занзибарцы, я имею в виду, если их не настигнет холера, малярия или оспа?
– От отравления?
– Нет, дорогой мой. Вас тянет на драматизм. От запоров. Много лет тому назад французский врач, мой друг, объяснил мне, что виной всему леность. Они умирают от лени, и эту лень могут себе позволить лишь потому, что богаты. Они становятся жертвами своего социального положения. Что это, как не божественная справедливость.
– Может, есть и другое объяснение. Прозаичней. Хотя морали в ней поменьше. Те многочисленные афродизиаки, которые они глотают, наверняка не совсем безобидны.
– Ваша специальность, Дик, ваша специальность.
– Богачи этого острова? У них же зависимость от тонизирующих средств. Словно Занзибар лежит под колпаком импотенции. Какой их любимый препарат? Пилюля из трех частей амбры и одной части опиума, причем едоки опия меняют меру согласно собственной зависимости. Пилюли принимает каждый, не важно, нужны они ему или нет.
– Леность и похоть, вот так вот. Между этими двумя полюсами человек и отдает концы.
– Поезжайте домой, консул. Поезжайте, наконец, домой.
= = = = =
Сиди Мубарак Бомбей
– Скажи, баба Сиди, я так и не могу понять, чем ты занимался во время путешествий.
– Хороший вопрос.
– Ты грузов не носил…
– Верно.
– Ты не сражался…
– Верно.
– Ты не готовил еду…
– Верно.
– Ты не стирал…
– Для этих заданий были другие.
– Так что ж ты делал?
– Я их вел!
– Повтори, пожалуйста, еще раз, брат.
– Я вел экспедицию.
– Ты? Но ты же ни разу не был на том большом озере, которое они искали.
– Нет.
– И как же ты их вел?
– Если никто не знает дороги, то каждый может быть проводником.
– Хоть я и не знал дороги, но ее не трудно было найти. Существовала лишь одна дорога вглубь материка – путь караванов, торговавших людьми. Не думайте, раз вы чего-то не знаете, то этого никто не знает. Были арабы, которые ходили этой дорогой так часто, как некоторые наши торговцы в Пембу. И были носильщики, кормившие себя и своих близких тем, что таскали тюки от бухты, по пятьдесят или по сто дней вглубь страны и обратно. И не забывайте, для ежедневной дороги проводники не нужны. У меня было много заданий, больше чем достаточно, я вел переговоры, я расспрашивал, я был правой рукой бваны Спика, я был биноклем бваны Бёртона…
– Что это?
– Прибор, с которым все то, что далеко, подходит близко.
– Как время?
– Ты можешь держать время у глаза?
– Представьте себе, как бвана Спик правой рукой хватает бинокль бваны Бёртона, ох, да это же тяжелый Сиди!
– Почему бы тебе однажды не направить свою насмешку против тебя самого?
– Ну нет, ты же знаешь, бритва не может сама себя брить.
– Ах да. Было еще одно задание, очень важное, я должен был переводить, потому что бвана Бёртон и бвана Спик не могли объясниться с носильщиками, у нас был только один общий язык, язык баньяна, а среди людей Занзибара лишь я один владел этим языком.
– А почему вазунгу говорили на языке баньяна, дедушка?
– Они оба жили в том городе, где я тоже…
– В том городе, который называется как ты.
– Да, мой любимый, ты правильно понял, в том городе, чье имя я ношу. Бвана Бёртон, он говорил как баньян, быстро и правильно, он мог изгибать язык так, как безумные голые люди в стране баньяна умели изгибать свое тело. Зато бвана Спик говорил как дряхлый старикан, он искал слово как монету, которую спрятал в сундуке, он не умел соединять слова друг с другом. Можете представить себе, как долго и утомительно текли беседы между мной и бваной Спиком, по крайней мере, поначалу, прежде чем он немного научился, и я немного научился, и горшок с нашим общим языком наполнился, потому что его было трудно понимать, его хиндустани был еще хуже моего хиндустани. Я переводил на кисуахили то, что, как мне казалось, я понял из его хиндустани, а внутри материка нам приходилось искать человека, знакомого с кисуахили, кто переводил бы вопросы бваны Спика дальше, на местный язык, но как бы этот человек ни старался, он все равно не понимал все полностью. Потому он выбрасывал непонятное или заменял его собственными домыслами, так что у ответов, которые мы в конце концов получали, порой не было даже дальнего родства с нашими вопросами. Это длилось и длилось, и, не имея терпения, никто не выдержал бы медлительной походки наших разговоров. Это было одинокое путешествие для бваны Спика, он только с одним-единственным человеком мог говорить на своем языке, с бваной Бёртоном, а когда между ними поселялась ссора, они месяцами друг с другом не разговаривали. Тогда он молчал, бвана Спик, и вместо него говорило его ружье.
– Он стрелял в людей? И сколько он убил?
– Он стрелял только в зверей, только в зверей, мой малыш. В очень-очень многих зверей. Если существует загробное царство для животных, то с тех пор там тесно, как в мечетях на рамадан.
– Ему не с кем было поговорить, быть может, поэтому ему приходилось убивать.
– Если бы это было верно, баба Адам, то немые были бы самыми опасными убийцами.
– Он часто был одинок, это верно, и становился все более одинок, чем дольше продолжалось путешествие. Бвана Бёртон умел находить язык почти с каждым, с работорговцами он говорил на арабском, с солдатами, с белуджами, – на синдхи, только со своим другом, с бваной Спиком, он терял язык. Он даже выучил кисуахили, медленными шагами, потому что он ему не нравился, язык наш.
– Как же так? Это самый лучший язык!
– Так уверяет каждый, кто не знает второго языка.
– Арабский самый лучший.
– Кисуахили – как мир, в котором есть лишь прекрасная природа.
– Что ты хочешь этим сказать, баба Илиас? Что реки происходят из Персии, горы – из Аравии, а леса – из Улугуру?
– Примерно так. Ты начинаешь понимать.
– А песок – из Занзибара. А небо?
– Небо – это не часть природы.
– А она не покажется голой, без неба?
– Как канга, обернутая вокруг чресел земли.
– На закате.
– Ну, что я говорил. Ваши уши сами слышали, как прекрасно звучит кисуахили, даже из болтливых ртов.
– Мы говорим не про наш, а про его вкус. Ему не нравилось, что перед словами всегда требуется что-то ставить, это похоже на намордник, говорил он, позади него слова уже не те, что были раньше. И все-таки он научился, он кое-что выучил, и когда мы вернулись, он говорил на кисуахили столько, сколько ему было нужно.
– А другой вазунгу?
– Ни слова. Не мог сказать даже «быстро» или «стой».
– Неравные люди.
– Очень неравные. Как это понять, почему два таких разных человека собрались вместе в дорогу, где приходилось вкладывать свою жизнь другому в руки. Уже их внешности были весьма неодинаковы: один крепкий и темный, другой – стройный, гибкий и светлый, как брюхо рыбы.
– Не каждой рыбы.
– Они были неодинаковы по своему существу: один – громкий, открытый, бурный, другой – спокойный, сдержанный, закрытый. Неодинаковы в поведении: один – взрывной и терпимый, другой – владеющий собой и злопамятный. В одном жили страсть и голод ко всему на свете, и он всегда давал волю и страсти, и голоду, другому тоже были знакомы сильные желания, но он их связал, а если те порой вырывались, он сразу затаскивал их обратно.
– Но раз они годами вместе путешествовали, то и что-то общее их должно было связывать?
– Тщеславие и упрямство. Они были упрямей, чем тридцать ослов, с которыми мы вышли из Багамойо. И они были богаты, неизмеримо богаты. Более сотни мужчин понадобилось, чтобы тащить их богатство, мужчин, которые шли босиком и не имели ничего.
= = = = =
Все собрались в Багамойо, где бесчисленные рабы сложили с себя груз сердец, как рассказывало название этого места, точки отправления всех караванов вглубь материка. Все ждут команды к отправке. Носильщики, босые и скудно одетые, даже в день выхода украшенные лишь несколькими полосками кожи или пучками перьев. Некоторые привязали на голени колокольчики, позвякивающие, к радости многочисленных детей, которые прервали игру в прятки среди пузатых деревьев. Ткани для торговли свернуты в рулоны, в заплечные валики – пять футов длиной, укреплены ветками, так что получился груз фунтов на семьдесят. Больше на носильщиков взваливать нельзя, ведь им приходится тащить еще и собственные пожитки. Ящики висят на двух жердях (легкие – в конце, тяжелые – в середине), их понесут двое.
Бёртон переговаривается с кирангози, Саидом бин Салимом, который будет шагать впереди, церемониймейстер экспедиции. Словоохотливый человек, этот представитель султана, которому и в страшном сне не приснится, что можно умалить его значимость. Приказы проходят через него, но он произносит их как свои собственные. Его верность незатейлива – он уважает руку, кормящую его. Он отдает приказ, и в первый раз бьют в литавры. Процессия носильщиков отрывается от тени площади и неповоротливым питоном ползет к аллее, уводящей внутрь континента. Деревья манго посажены так тесно, что их ветви сплелись. Под этим балдахином никогда не бывает всецело дня. Бёртон подходит к Спику, который неподалеку общается с лежачим под навесом консулом. Вместо того чтобы поехать домой, он проводил их до Багамойо. Чтобы все проинспектировать, заявил он. Чтобы навсегда проститься, предположил Бёртон. Как будто хочет сказать: вы отправляетесь в неведомое, я – в смерть.
Только посмотрите на этого клоуна, говорит Спик. Зачем ему пурпурное одеяние? И вся эта мишура на голове? Похоже на гнездо грифа, замечает Бёртон, и они вместе смеются коротким неподобающим смехом. В камуфляже нет смысла, нас будет заметно за много миль и против ветра. Разумеется, это преднамеренно, говорит консул. Он высоко держит красный штандарт султана, чтоб предупредить издалека всех и каждого, что идет караван из Занзибара, который находится под личной защитой султана. О нем я не беспокоюсь, сказал Бёртон, скорее – о нашем защитном отряде. Мимо них промаршировали тринадцать белуджей, вооруженных мушкетами, саблями и кинжалами, а также мешочками с порохом, который каждый прицепил на свой манер. Их главарем был одноглазый, длиннорукий и изъеденный оспой Джемадар Маллок. Я пообещал им вознаграждение, сказал консул, когда они приведут обратно вас обоих невредимыми. Белуджи вжимали ружья в плечи и шли чеканным шагом, но вразнобой, словно пародируя воинский шаг. Они напомнили Бёртону о сборище сипаев в Бароде, которых он с трудом заставлял повиноваться, и о башибузуках, которыми он с горем пополам командовал в Крымской войне. Однако сипаям еще была ведома дисциплина, в отличие от этой толпы, что тащилась мимо него, нелепо подергиваясь, а башибузуки были более диковатые и воинственные, чем эти потомки факиров, матросов, кули, попрошаек и воров, дети пустынной страны, прогнавшей прочь множество своих сынов, которые ее, тем не менее, воспевали в унылых песнях – и скудная долина, которой бежали предки, расцветала в воспоминаниях.
Консул передает Бёртону рекомендательное письмо султана. Это важно, говорит он, по крайней мере на первой части пути. Затем вы вторгнетесь в области, где никто не знает о существовании султана, в лучшем случае кто-то когда-то слышал, но смутно, как о герое чужой легенды. Бёртон бережно складывает письмо и кладет в кожаный чехол, к своим двум паспортам, письму с благословением от кардинала Виземана и диплому шейха Мекки, подтверждающему его хадж. Он отлично подготовлен во всех отношениях. Он прощается с консулом быстрым пожатием руки, которого сразу же стыдится, признаваясь себе, что почувствовал отвращение к пятнистой коже больного.
Во время первых миль он не может думать ни о чем ином, кроме возможных упущений. Достаточно ли у них товаров для обмена? Если кончатся ткани и жемчуг, то как им прокормиться? Его взгляд останавливается на рулонах, покачивающихся над головами носильщиков, рулоны мерикани – небеленой хлопчатобумажной ткани из Америки, рулоны каники – индийской ткани, крашенной индиго. Должно хватить, иначе они умрут с голода. Когда короткая аллея сворачивает в бесформенность кустарников, море становится далеким прошлым. Их поглотят травы, доходящие до плеч. Они следуют за рекой, которую редко видят. Почва тверда, кусты – бесконечны. Местные жители, очевидно, избегают караванов. Они проходят мимо развалившейся хижины, мимо первой деревни, где перед хижинами сушат мелких рыб и свалены в кучи свежие фрукты. Вне деревни их снова поглощает первозданное пространство, бесформенно-устрашающее, которое легко может запугать человека. Им придется ежедневно отстаивать здесь себя, думает Бёртон, задача, о которой их никто не предупреждал.
Об этом не обмолвился даже Тулси, мастер кликушества, один из подобострастных индийцев, делавших вид, будто приносят пользу, хотя они всего лишь запускали лапы в экспедиционную казну для пошлин и поборов, а взамен изрекали дурные пророчества, как будто это действенная помощь от ужасов, поджидающих в глубине континента. Прошлым вечером, в своем доме в Багамойо, Тулси подал к сладким гуляб-джамун клейкие бабьи страшилки о дикарях, сидящих на деревьях и стреляющих отравленными стрелами в небо, причем с таким искусством, что, падая, стрела пронзает мозг путника до самой шеи. Беззаботные люди умирают с закрытыми ртами. И как же нам от них защититься, спросил Бёртон. Избегайте деревьев! В лесу? Может, нам еще и неба избегать? К Тулси со словоохотливой помощью поспешил Ладха Дамха, еще один индиец, взимающий пошлины по поручению султана. Некоторые главари поклялись, что не потерпят белых в своих царствах. Убивайте первую саранчу, посоветовал им некий предсказатель, если хотите спастись от бедствий. И это были только первые строки в перечне опасностей: носорог, впавший в ярость, может убить сотню человек. Армия слонов может напасть ночью на лагерь. После яда некоторых видов скорпионов у человека не хватает времени выговорить имя бога. Им придется неделями странствовать в поисках пищи.
Индийцы были уверены, что британцам не суждено пройти и половины пути. Они часто переговаривались об этом в его присутствии, убежденные, что никто не понимает диалекта гуджарати. Ладха Дамха спросил, достигнут ли они когда-нибудь озера Уджиджи? И его бухгалтер отвечал, втянув в себя сопли: «Разумеется, нет! Да кто они такие, что так уверены, будто смогут живыми пересечь страну Угого!» «Ох, любезные, – сказал им на прощание Бёртон на изысканном гуджарати, которому его обучил Упаничче, – считаете себя такими хитрыми? Я пересеку страну Угого, я достигну великого озера и я вернусь обратно, и тогда вновь остановлюсь здесь».
Он немного отстал. Он может себе это позволить, по-видимому, каждый здесь понимает, какова его роль в этом марше. Он замедляет шаг, так что лишь слышит, но не видит последних носильщиков. Сто двадцать человек, все под его началом. Экспедиция обязана стать удачной. Он добрался так далеко, что ему осталось лишь вытянуть руку и сорвать положенную ему славу – ради этого он игнорировал приказы, приказы высших чинов в Ост-Индском обществе, он залез в большие долги и пошел на риск, взяв в спутники ненадежного рекрута. Консул был не так уж и не прав, когда говорил, что предзнаменования не наилучшие, и начало поездки могло быть удачней. Друг, замечательный врач, который должен был ехать с ним, оказался нездоров; Саид ибн Султан, надежный союзник, умер незадолго до их прибытия на Занзибар; а консул, готовый им помочь как никто другой, лежит на смертном ложе, точнее, в смертном гамаке. В случае провала – он не должен об этом думать, раз он вообще не знает страха, то должен подавить и страх перед провалом – его ожидает полк в Индии. Возвращаться туда? Нет, ни за что.
Они стремительно пересекли сочные заросли, однако такой темп им сохранить не удастся. Ноги ослабеют, пейзаж встанет у них на пути. Они будут спотыкаться, скользить, увязать, брести по трясине. Ноги станут заплетаться. Еще, наверное, час, и прозвучит сигнал к остановке. Он ускоряет шаг.
Саид бин Салим нашел отличное место для первого ночлега. Срубленные стволы деревьев, обугленные сучья, широкая просека – до них здесь уже ночевали. Распаковав все, чтобы еще раз проверить экспедиционный инвентарь, они выясняют, что оставили в Багамойо один из компасов. Один лишь Бёртон знает, где этот компас отыскать. Ему придется пройти весь путь обратно. К его удивлению, Сиди Мубарак Бомбей вдруг сам вызвался сопровождать его. Хотя это будет дорога миль на шесть. Бомбей – так он его называет мысленно и так обращается к нему – для него не незнакомец, они уже разговаривали пару раз, но сейчас, во время этого сурового марш-броска, который превышает их дневную нагрузку раза в три, они впервые надолго остаются наедине. Разговор с глазу на глаз, думает Бёртон, какая редкость на Востоке. Первые полчаса они идут молча рядом, Бёртон – длинными шагами, Бомбей – с повышенной частотой. Ему жаль, начинает разговор Бёртон, что он недостаточно владеет кисуахили, чтобы беседовать на языке Сиди Мубарака Бомбея. Это не мой язык, говорит Бомбей, мой язык погиб. Бомбей дружелюбно ухмыляется. Когда черты его лица приходят в движение, не важно в каком направлении, то покидают гавань безобразного. Как будто Бомбей при каждой улыбке чинит свое лицо. Не считая, конечно, челюстей – зубы обречены на вечное гниение. Он коренаст, необычный парень среди эти людей. Утратил когда-то свою ленивую природу, путешествуя в чужих краях. Разумеется, рабство – это некрасивое дело, точнее, невыносимое, однако, не будь его, Сиди Мубарак Бомбей остался бы среди этих отупленных фигур, что сидят на обочине, едва в силах разродиться усталым приветствием.
= = = = =
Сиди Мубарак Бомбей
Есть вопросы, которые лезут вперед, вопросы, которые тянут за собой любопытство, словно ветки костра. Откуда вы пришли? На это было легко ответить. Из Занзибара, с берега, из Багамойо. Но за вопросами следовали все новые вопросы, это тропа, не знающая конца, и уже на второй вопрос ни бвана Бёртон, ни бвана Спик не знали верного ответа: куда вы идете? В тени каждого мбую, и каждого мтумбви, и каждого миомбо нас встречал этот вопрос, он вспархивал, как испуганная птичья стая, он шел за приветствием так естественно, как волна за волной, как кази следует за казкази. Бывают вопросы как тявкающие псы, и вопросы как шипы, которые впиваются в кожу и их невозможно вынуть, вопросы, не дающие покоя.
– Вопросы женщин к мужчинам.
– Если хочешь продолжать историю, баба Бурхан, то продолжай.
– Нет, нет, я только дополняю, как уши дополняют язык.
– Когда вы дополните друг друга до самого конца, то может, мы услышим, что случилось дальше?
– А ты этого не знаешь, баба Али? Ты недавно переселился в наш квартал?
– У истории каждый раз чуть новое лицо.
– Откуда вы пришли? Куда вы идете? Вот вопросы, ожидавшие нас в тени каждого мтумбви и каждого миомбо. Какие простые вопросы, скажете вы, даже дети знают, куда они идут. По крайней мере знают, куда хотят идти.
– Дети-то могут ответить на такие вопросы, конечно, но вот взрослые?
– К великому озеру! Так отвечали вазунгу, если вообще давали ответ, но вопрошавшие не знали никакого великого озера, а те, которые слышали о великом озере, не могли поверить, что кто-то может собраться в далекий путь с сотней носильщиков и с двадцатью солдатами, может выйти навстречу всем опасностям лишь для того, чтобы достигнуть великого озера. Что нужно вам от этого озера? – спрашивали тогда люди. Нам ничего не нужно от великого озера, отвечал бвана Бёртон, мы только хотим увидеть его своими глазами, потому что мы хотим узнать, где оно находится и какой оно величины. И люди в тени мбую, и мтумбви, и миомбо, они качали головой, они умели различить лицо лжи, и их недоверие набухало. Ох, эти чужаки, бормотали они, у них недобрые намерения, эти чужаки, шипели они, пришли ограбить нашу страну. Они боялись, о, да, они боялись нас, но еще сильней они боялись последствий нашего появления. Эти чужаки принесут несчастье! В одной из деревень умер человек, вскоре после того как мы разбили лагерь, молодой человек, который прошлым днем еще работал у себя на поле. Вот видите, жаловались люди, признайтесь, это первое несчастье, которое наслали вы на нашу страну. Так они жаловались, и в жалобах постепенно исчезал страх, и у бваны Бёртона были добрые советчики, раз на следующее утро он понукал нас быстрее уходить. За пределами деревни нас провожали только дети, они бежали рядом, они кричали «мзунгу», «мзунгу», они кричали «вазунгу», «вазунгу», они смеялись и размахивали руками. Что означает «мзунгу», спросил меня бвана Бёртон. Тот, что заблудился, ответил я ему, тот, кто ходит по кругу. Они так думают про нас? Он был удивлен. Но мы же движемся прямо к нашей цели, сказал он. Этим людям кажется, ответил я, что мы заблудились.
– А ты сам? Ты удивился его удивлению?
– Караван из удивления!
– Зачем сто носильщиков? Разве вам не хватало животных?
– Баба Ишмаил обязательно бы продал тебе трех своих длинноногих лошаков, жующих больше кхата, чем он сам.
– У нас были животные, конечно, у нас были вьючные животные, пять лошаков и тридцать ослов, тридцать бессильных, упрямых и совершенно ненадежных ослов. Через три месяца осталось одно-единственное животное, остальные околели. Но я скажу вам, что люди были еще меньше подготовлены к этому путешествию. Начиная с кирангози, шагавшего во главе и служившего только себе и султану. Затем шли белуджи, которые вообще-то должны были защищать нас, но как они могли оборонять нас своей трусостью, было неясно с самого начало и осталось неясным до самого конца. Мы быстро поняли, что белуджам нельзя доверять, они мать родную продадут тому, кто больше предложит. Следом шагали носильщики, честные носильщики, на которых бвана Бёртон и бвана Спик тоже не могли положиться, хотя они много несли и все выносили, но лишь до той ночи, когда кровь у них восставала и они убегали или пытались убежать. Они были из людей ньямвези, которые, вы знаете, раньше охотились на слонов, пока не решили зарабатывать на жизнь, бегая по земле с грузом на голове, и они знали, что лишь половина из них вернется домой, причем с таким заработком, что вскоре вновь придется отправляться в путь, с тюком на голове и со смертью перед глазами. Но иногда они не выдерживали и сбегали, часто с теми же тюками, которые носили, они дезертировали, так называли это бвана Бёртон и бвана Спик, и я был сбит с толку, потому что на их языке это слово обозначает пустыню, но сколько я не напрягался, не мог уловить связи между пустыней и побегом. Если беглых ловили, то их секли во имя справедливости при караване первого и караване второго путешествия. Однако при третьем путешествии, где командовал человек, обрекавший на смерть все, что становилось у него на пути, там их иногда вешали.








