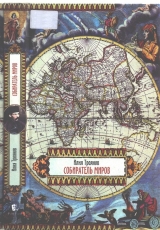
Текст книги "Собиратель миров"
Автор книги: Илия Троянов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
– Как же нам покончить с этим беспорядком?
– Вы имеете в виду искоренение нищеты?
– Потребность в остроумии я удовлетворяю Лукианом. Вам ясно, солдат?
– Вы предпочитаете Alethe Dihegemateили с большей охотой углубляетесь в Nekrikoi Dialogoi?
– Человеку ваших талантов обычно открыт весь мир. Однако при таком нахальстве, Бёртон, боюсь, вам придется набить себе немало шишек. Есть ли у вас какие-то предложения по данному делу?
– В настоящий момент нет, сэр. Прошу разрешения возместить человеку сумму, потраченную им на последний обед.
– А что, виновный так и не казнен?
– Уже повешен. Но его семья взыскала долг. Человек, не желавший спасения, вернул им деньги, лишь сумму, потраченную им, прежде чем ступить на виселицу…
– Сколько?
– Десять рупий.
– Какое пиршество!
– Он впервые в жизни мог себе что-то позволить.
– Причем за государственный счет, как теперь выясняется. Позаботьтесь, чтобы никто не узнал, какие уродливые формы принимает Pax Britannica.
– Так точно, сэр.
25. НАУКАРАМ
II Aum Viraganapataye namaha I Sarvavighnopashantaye namaha I Aum Ganeshaya namaha II
– В Синдхе жизнь Бёртон-сахиба переменилась. И моя жизнь тоже. Его – к лучшему, моя – к худшему. Правда, он не занимал более высокого ранга и не зарабатывал больше денег. Дом, где мы жили, был палаткой. В Бароде у нас было двенадцать слуг, теперь лишь двое. Глядя со стороны, никому бы и в голову не пришло, что он занимает важное место. Синдхом командовал один старый генерал, которого боялись все, даже те, кто с ним ни разу не встречался. Однажды Бёртон-сахиба вызвали к нему переводчиком. Он произвел впечатление на генерала при первой встрече, как же могло быть иначе. Бёртон-сахиб был таким человеком, который возвышался над прочими ангреци. Генерал не мог этого не заметить. Он вновь вызвал его к себе. Они говорили с глазу на глаз. Не знаю, о чем была речь. Но знаю о трудностях, которые пришли следом.
– После этого разговора?
– Да. К нам подступили гигантские проблемы. Я понятия не имею, что за поручение дал генерал Бёртон-сахибу. Даже его непосредственное начальство и сослуживцы оставались в неведении.
– И он тебе ничего не открыл?
– Он должен был кое-что разузнать, вот и все, что он мне сказал. Это значит, что ему предстояло смешаться с мийя. Было видно, что он этому рад. Когда он пришел домой, я называю нашу пыльную палатку домом, хотя это и неуместно, он был исполнен веселья, впервые за долгое время. Он с пылкостью объявил мне: Наукарам, мы будем изучать эту страну. Империя наконец-то признала наши таланты. Он был счастлив в тот день, я и не знал, что он способен на это чувство. Все так чудесно затевалось. Я не понимаю, почему конец оказался столь плачевен. Его поручение не имело никакого влияния на мою ежедневную работу. Я был занят тем, чтобы не допустить пустыню в палатку. Но она всякий раз умела пробраться в обход меня. Бёртон-сахиб уезжал теперь все чаще, замаскировавшись. Неведомо куда. Он ни разу не говорил мне куда. Вначале он пропал на день. Но откровенные разговоры, как он выяснил, велись по ночам. Поэтому он стал уезжать на несколько дней, а в конце концов я неделями его не видел. Мне было очень неуютно от мысли, что он во власти этих дикарей, обрезанных. В первый раз, с тех пор как я поступил к нему, я не мог помогать ему. Я беспокоился. Как он там питается, где он спит? Я ничего не знал, он уезжал без поклажи. Он пропадал, а я оставался наедине с моими заботами, пока он не приезжал. Утомленный, бледный от бессонных ночей. Но сияющий, я чувствовал возбуждение, которое пронизывало его. Возвращаясь, он немного рассказывал мне о пережитом. О странных обрядах, в которых он участвовал. Об огромных праздниках на гробницах. Подобные мелочи. Я был ошеломлен. Это не могли быть те сведения, которые он должен был собирать.
– Самое важное он скрывал от тебя.
– Он никому не должен был ничего рассказывать. Даже мне.
26. КТО ПЕРЕДАЕТ УЧЕНИКАМ СУДЬБУ
Капитан Вальтер Скотт – да-да, родственник писателя и даже прямой потомок – забил веху в землю. Красно-белые столбики были пустыне к лицу, как арестантская роба. Земля – подагрически ломкая кожа поверх черной глины. Ты быстро научишься, сказал он. Это просто, как пасьянс. Мы заняты ничем иным, как подсоединением неизведанного к изведанному. Мы арканим землю, словно дикую лошадь. При помощи технических средств. Мы – второй эшелон присвоения. Сначала завоевание, потом – измерение. Наше влияние раскинулось на клетчатой бумаге. Ты печалишься, что ни разу не видел боя. Необоснованно. Осуществляемое нами картографическое присоединение имеет колоссальное военное значение. Компас, теодолит и ватерпас – вот наши важнейшие орудия. Кто попадется в раскинутую нами сеть координат, тот пропал для своего дела. Теперь он приручен цивилизацией. Закрой один глаз и настрой другой на максимальную резкость. Как топографу, тебе нужно одно-единственное свойство. Ты должен быть точен, абсолютно безошибочен. Мы, топографы, люди тщательные. Так что привыкай к педантизму. Принцип крайне прост. Опорные точки образуют треугольник. Мы шагаем медленно, треугольник за треугольником, полигон за полигоном. За день охватываем не больше километра. Наш лагерь держится несколько недель, пока мы раскидываем свои треугольники во все направления. Требуется измерить две величины: удаление и высоту. Разумеется, еще угол между позицией и возвышением. Как обозначается угол, Дик? Как расстояние между ортодоксией и ересью? Вообще-то это разница между двумя направлениями. То есть я примерно попал? Знаешь ли ты, что такое в математике «примерно» попадать, Дик? И почему мне так трудно представить тебя топографом?
С вехой в руках Бёртон наверняка не сделает карьеры, в этом Скотти прав. Его приписали к этому подразделению, потому что его нужно было хоть куда-то приписать и потому что ему было проще отправляться в свои набеги из отдаленного лагеря. Он может быть полезен, с ватерпасом. Он закрывает глаза. То время дня, когда мысли заносит ил. Как можно определить верные координаты точки, если все рябит и сверкает. Когда он открывает глаза, по абсциссе движется дервиш. Черное одеяние, лоскутная шапка. Я тот, кто летит в одиночку. Глаза сидят глубоко в расщелине, очерченной каджалом. Пальцы украшены чудовищными кольцами. Бёртон закрывает глаза. Когда он снова открывает их, дервиш одет в зеленое, цепи вокруг его шеи серебряные и жестяные, из ткани и драгоценных камней. Я тот, кто летит в одиночку. Его волосы, борода выкрашены хной, оранжево-коричневые. Бёртон вновь закрывает глаза. Надолго. Проговаривает по буквам все известные ему алфавиты. Потом открывает глаза. Вы его видели? – кричит он своим товарищам против ветра. – Что? Какие данные? – кричат они в ответ.
Дервиш являлся не единожды. Чем ближе их треугольники подбирались к следующей деревне, тем чаще проходил он, на безопасном расстоянии, мимо обмеряющего взгляда Бёртона. Он каждый раз был другим, этот дервиш. Не повторяя вновь однажды принятый образ. Странно, что другие его не видели. Как-то, когда рабочий день почти закатился, Бёртон решил проследить за ним. До мечети, рядом с которой находилась обнесенная стеной гробница. Извилистый вход. Людская плотность и плотность возбуждения. До него донеслась песня, она втянула его, эта песня, тронула его, соскребла штукатурку с потайной камеры его существа. Ее прикосновение было сиянием, и все место воссияло, и самого его пронизывали волны света. Сегодня был торжественный повод, гробницу святого переполняла неизмеримая любовная тоска. Вокруг теснился народ, и толпа дружелюбно приняла его, как преддверие будущей толпы, у небесных врат. Он так и не добрался до гробницы, покрытой расшитой зеленой тканью. Его отвлекли. Напротив маленьких ворот, куда, пригибаясь, входили паломники, на земле сидели несколько мужчин. Это они пели тронувшую его песню. Она звучала как признание в любви всему живому. Голос певца, такой необычный, из глубокой серьезности срываясь на пронзительные, почти шутовские ноты, он ввинчивался вверх, обтачивая пение, как на токарном станке, все быстрее. Вдруг дервиш посмотрел ему в глаза. И точение перенеслось в него. Присядьте, говорили глаза, повремените. Все мы гости. Все мы путники. Станьте одним из нас. И свет песни упал далеко в ночь и упал на плотную, устремленную вперед толпу.
27. НАУКАРАМ
II Aum Sarvasiddhaanttaya namaha I Sarvavighnopashantaye namaha I Aum Ganeshaya namaha II
– Неужели тебя не мучила совесть, что ты помогаешь фиренги шпионить за твоим собственным народом?
– За моим народом? Это был не мой народ. Вы что, меня не слушали? Там живут одни обрезанные.
– Все равно. Они тебе ближе, чем ангреци.
– Любой человек мне ближе, чем мийя. Знаете, какие кошмары меня там преследовали? Если я не тревожился, что Бёртон-сахибу могут перерезать горло в каком-то закоулке, то мне снилось, будто наш Гуджарат может стать похожим на Синдх. В моих кошмарах нас осталось совсем мало. Барода носила траур. В моих кошмарах не было звуков. Ни пения, ни колокольчиков, ни аарти. Женщины на улицах были закутаны в черное, словно шли на собственные похороны. Мужчины подступали со всех сторон к нашей испуганной вежливости, они высматривали повод, чтобы схватиться за кинжал.
– В дурных сновидениях повинна твоя собственная голова, а не твой сосед.
– Они не могут быть соседями. Они всеми средствами будут выживать нас прочь, как уже сделали это в Синдхе. Если бы не пришли ангреци, кто знает, как долго мы смогли бы выдержать под их властью.
– Ты грезишь, даже бодрствуя.
– Мы должны защищать себя, здесь, пока наш Гуджарат не превратился в Синдх.
– А что происходило с донесениями твоего господина?
– Он докладывал все генералу. С глазу на глаз. Думаю, они прониклись симпатией друг к другу, генерал и Бёртон-сахиб. Хотя и ссорились. Генерал ждал от каждого солдата, что тот выслушивает приказ и повинуется. И не высказывает собственного мнения, пока его о том не спросят. А Бёртон-сахиб никогда не ждал специального разрешения, чтобы высказаться. Он противоречил генералу, когда считал нужным. И это случалось довольно часто. Он полагал, что генерал хочет изменить в Синдхе слишком много и слишком быстро. У того слишком закостенелое правосознание, вот его излюбленные слова, оно задевает местных людей. Правосудие – это воспитанный вкус, повторял Бёртон-сахиб. Сколько понадобилось времени, чтобы мы привыкли есть на завтрак овсянку? Сколько его понадобится, если нам придется изменить наши привычки в еде и, скажем, перейти на жаренную козью печень? Как-то генерал приказал повесить мужчину, потому что тот заколол жену, узнав, что она ему изменяла. Проблема была в том, что муж отреагировал именно так, как ожидается от мужчины в той местности. Эти молодцы рубят женщин на куски при малейшем поводе. Пощадив жену, он обесчестил бы себя и своих сыновей. Позор был бы велик. Невероятно, да? Они стали бы отверженными, мишенью для всеобщих шуток. Друзья отвернулись бы от них. Но генерал желал дать всем понять, что пришли иные времена. Бёртон-сахиб ругался. На генеральскую недальновидность и упрямство. Дело не в том, будто он оправдывал поступок мужа. Он сразу понял, как мало понимания найдет этот приговор в глазах туземцев. И оказался прав. Везде поносили безумство неверных, которые даже не позволяют человеку защитить собственную честь. Генеральскую резиденцию ежедневно осаждали люди с жалобами и протестами. Этот приговор породил волну слухов о дальнейших намерениях ангреци. В один прекрасный день объявилась даже делегация куртизанок. Бёртон-сахиб как раз присутствовал, когда они вошли. Все были безукоризненно закутаны. Одна из них выступила вперед и произнесла жалобу. Если теперь не будет наказания за супружескую измену, то замужние женщины отнимут у них всю работу. Это лишит куртизанок пропитания. Если так дальше пойдет, они умрут с голода.
28. КТО ЗАНИМАЕТ ВЫСШЕЕ МЕСТО
Днем – Йеханнум, а ночью – Барабут. Восхищен ли ты моей акклиматизацией? В вольном переводе: здесь днем правит дьявол, а по ночам – Вельзевул. Потребен вкус к своеобразным развлечениям, чтобы приятным образом проводить тут время. Я приспосабливаюсь. И все же кое-чего мне не хватает. Главным образом общества гуруджи. Ты, разумеется, помнишь, я однажды подробно описывал его. Языку обучить могут многие, учителей как мух в конюшне, но попробуй найти такого, кто умеет прославлять священную несерьезность жизни как восхитительный старый чудак Упаничче. Он примирил меня с жизнью в Бароде. Особенно под конец. Это не преувеличение. Он обладает даром, который заставляет узреть ничтожность твоего собственного отчаяния. Дух его стоит одной ногой в повседневности, другой – парит над человеческим бытием. Наверное, я больше его не увижу. Индуизм в прошлом, мой милый друг, я обратил себя к исламу. Он лучше подходит местному пейзажу, оттого высока плотность дервишей. Думаю, что заменю гуруджи отрядом учителей. Прозрачные тайны аль-ислама поверяет мне один человек на берегу реки. Мы сидим под деревом тамаринд на войлочном коврике, среди сладковатого аромата базилика, и наставляя меня, этот учитель, слишком оседлый для дервиша и слишком необузданный для алима, глядит на поток внизу, на людей, теснящихся на плоту. Я нашел уже и учителя персидского, самого гордого языка на свете, как мне кажется после того, как меня провели по его дворцу. Есть и третий учитель, настоящий дервиш, дикий, который сеет смуту, чтобы достичь высшего познания. К сожалению, мы редко видимся. Но когда мы встречаемся, по большей части случайно, он тайком сует мне стихотворение, словно я – бедняк, но гордый, чтобы просить подаяние. Он вывел из равновесия мой ватерпас. Я последовал за ним, и он увлек меня в песню, точнее, в некую песенную форму. Мой дорогой, такое стремительное соскальзывание в экстаз нам и неведомо. Музыка и поэзия – вот чем благословенна эта земля. Урду, поющий язык, столь обилен, что разговор о картофеле производит на меня впечатление постановки «Чайльд-Гарольда». Я наслаждаюсь переменой.
29. НАУКАРАМ
II Aum Prathameshvaraaya namaha I Sarvavighnopashantaye namaha I Aum Ganeshaya namaha II
– Признаюсь, за эти годы в Синдхе я превратился из доверенного в изгоя.
– Ты впал в немилость?
– Он отвернулся от меня. Он ничего со мной больше не обсуждал.
– И тебя это удивляет?
– Как так?
– Ты так пренебрежительно, с такой ненавистью говоришь о мусульманах, как мог он довериться тебе, поведать о волнующих открытиях в его новых путешествиях?
– Почему вы говорите про ненависть? Нет у меня никакой ненависти. Когда мы прибыли, я совсем ничего не знал о мийя. Вы и представить себе не можете, на что они способны. Они принуждают наших людей становиться мийя. Их гнусные поступки невыносимы. Разве мои слова – ненависть? Одного баньяна оклеветали и подали на него в суд. Думаю, он поспорил с другим торговцем.
– С мийя?
– Разумеется. Обвинения были явно высосаны из пальца. И что же решил кади? Баньяна увели. С него сняли одежду. Его помыли, так, как мийя представляют себе мытье. Трижды здесь, трижды там, и постоянно что-то каркали. Потом одели в новую одежду и повели в мечеть. Забросали его своими молитвами. Ему пришлось повторять, что он верит в то, во что должен верить мийя. И потому что он повторил все верно и не запутался, только вдумайтесь в это, они возбужденно объявили, мол, свершилось чудо. А потом наступило самое ужасное, бедняге сделали обрезание.
– Ножом?
– Чем же еще? Его искалечили, и это на всю жизнь.
– Я слышал, так чистоплотней.
– У вас что, сердца нет? Невинный человек, один из нас, и его обезобразили. Вынудить человека принять иную веру – это изнасилование, которому нет конца.
– Конечно, конечно. Однако я сомневаюсь, что такое часто происходит. Истории, подобные твоей, часто слышишь, но сам никогда не переживал и даже не знаешь никого, с кем такое случалось.
– Вы закрываете глаза. В этом все дело. А когда вы их откроете, будет слишком поздно.
– Довольно. Мы уже вчера почти все время потратили на твои тирады.
– Вот видите, эти мийя вредят мне еще и сегодня. Почему же вы меня не остановили?
– Я думал, тебе полезно об этом поговорить. Это яд, который пожирает тебя изнутри.
– Вы должны прерывать меня, если я отклоняюсь. У меня нет больше ни времени, ни денег. Я прошу вас отсрочить мне платеж до завтрашнего дня. Один из братьев должен мне еще кое-что. Он был в ту пору слугой.
– Тогда давай окончим. Продолжим завтра, без ненависти и с деньгами, какие ты мне должен.
30. ГОСПОДИН ЦЕЛОГО МИРА
Две пелены отделяют их, властителей, от жителей страны. Пелена собственного незнания и пелена недоверия, за которой прячутся туземцы. Генерал знал, что разорвать эти покрывала не удастся, но твердо решил научиться лучше смотреть сквозь них. Как все администраторы империи, он проводил дни за письменным столом, выезжал только с эскортом и видел лишь то, что ему показывали, лишь то, что должно было ему понравится, по мнению местного эмира и собственных подчиненных. У него зудело под кожей, как же мало он знает эту страну и ее обитателей. С совиным усердием его адъютанты штудировали бесчисленные бумаги, но никто из них ни разу не присутствовал на празднике обрезания, не был гостем ни на свадьбе, ни на похоронах. Знания персидского, урду или синдхи были исключениями. И улучшений с течением времени не наблюдалось. Чем моложе были его чиновники и офицеры, тем более рьяно отгораживались они от туземцев. Дорожа холеным и бескомпромиссно британским видом, они запирались в вакууме личного пространства. Всегда использовали право регулярного отпуска на родину. Возвращались с супругами. Росла в цене добропорядочность, под которой в первую очередь понимали защиту своего от чуждого. Возможно, на родине такой моральный кодекс был немаловажен, но здесь ослеплял офицеров и чиновников, ему подчинявшихся. Они были слепыми щупальцами чудовища, которое управляло половиной мира из лондонской улочки. Мы сильны, лишь когда знаем противника, говорил генерал. Необходимо углубить наши сведения и опыт. Именно жажда знаний отличает нас от туземцев. Слышали ли вы, чтобы кто-то из них предпринимал усилия, чтобы узнать нас получше? Если когда-нибудь они нас изучат, познают наши слабости и страхи, тогда они смогут болезненно ударить по нам, они дорастут до звания противника, которому нам придется оказывать некоторую долю уважения. Его предостережения не имели воздействия. Он повсеместно считался чудаковатым и сварливым стариканом. Никто не стал бы уверять, что генерал был довольным правителем. Периодически он впадал в состояние аффекта, провоцируя подчиненных жестокими истинами. В чем цель нашего управления Британской Индии? Захват земель? Благополучие народа? Справедливость? Определенно нет. Будем честны. Цель – облегчить грабеж и разбой. Подчиненные научились прятать взгляд и замораживать выражение лица. Все убийства, все смерти – для того, чтобы наша торговля получила решительные преимущества против конкурентов. Все страдание – чтобы укрепить фундамент власти идиотов. «Мы служим в галактике ослов». Генерал безуспешно брыкался против жала и шел против рожна. Чем бескомпромиссней он выражался, тем более сумасшедшим считали его подчиненные. Такое может позволить себе лишь главнокомандующий. Они напоминали себе: генерал скоро отправится на пенсию. Будущее – это мы.
Было немного людей, на которых он мог положиться, людей вроде этого Бёртона, который добросовестно докладывал о поведении туземцев. Генерал с удовольствием беседовал с ним. Его взгляд на вещи был так свеж, словно сотворение мира едва закончилось. Но была у этого молодого человека слабость, фатальная слабость. Он не мог остановится на наблюдении за чуждой обстановкой. Он желал в ней участвовать. Он попал под ее влияние, настолько сильно, что мечтал сохранить ее отсталое обличье. Их позиции были диаметрально противоположны. Генерал стремился изменить и улучшить чужой мир. А Бёртон желал предоставить этот мир его собственным законам, считая, что улучшение станет истреблением. Этого генерал не понимал, тем более что молодой солдат не пытался оспаривать превосходство британской цивилизации над местными обычаями. Но разве не должно превосходство пробивать себе дорогу? Разве не это естественный исторический процесс? Последовательность мысли не относилась к сильным сторонам этого офицера. Как и все прочие, он горячо порицал вездесущую глупость, и леность, и дикость. Его приговоры бывали чрезвычайно резки. Чего стоит последний тезис, завладевший его умом. Зависть, ненависть и злость – вот семена, которые туземец сеет повсюду, где только может. Не из какого-то дьявольского образа мыслей, а потому что это инстинкт, проистекающий из его лукавой слабости. Это уж чересчур. Тем не менее человек, провозглашающий такой вердикт, настаивал на сохранении местных порядков. Порой в него закрадывалось подозрение, что офицер изображает наигранное негодование, дабы уберечь себя от упреков в мягкотелости по отношению к местным. Он был загадкой, этот Бёртон. Обычно он высказывал такое мнение, какого от него не ожидали. Не надо вешать убийц, настаивал он в последнем разговоре. Их следует привязывать к жерлу пушки и затем из этой пушки палить. Да, жестоко. И все-таки я полагаю, наше сочувствие не должно сбиваться с изведанной тропы реалистичности. Нельзя упускать из вида момент устрашения. Разорванный на куски убийца лишается погребения, без которого мусульманину заказан путь в рай. Если же мы его вешаем, труп следует сжигать, из тех же самых соображений. Равные права для всех – этот закон не подходит для данной местности. За долгое время пути сюда наше уголовное право несколько утратило свою эффективность. Посмотрите, заключить человека под стражу – это, пожалуй, действенно в Манчестере, а в Синдхе имеет почти противоположный результат. Простой мужик в этих широтах воспринимает несколько месяцев в нашей тюрьме как отдых. Он спокойно ест, пьет, дремлет и курит трубку. Вместо этого мы должны бедняков за преступления сечь, а с богатых брать штраф. Вот это произведет впечатление. Нет, последовательностью он однозначно не отличался, этот офицер, имевший прерогативу личного доклада генералу.
31. НАУКАРАМ
II Aum Avanishaaya namaha I Sarvavighnopashantaye namaha I Aum Ganeshaya namaha II
– Я сегодня пришел по одной-единственной причине. Я хочу наконец получить что-то на руки. Доказательство того, что мы уже месяц сидим здесь ежедневно. Что-то, что выглядит на шестнадцать рупий. Хотя бы знак, который даст мне новую надежду.
– Мы еще не закончили. Я же не виноват, что ты так много пережил.
– Не виноваты? Когда я пришел к вам месяц назад, то хотел всего лишь рекомендательное письмо на две страницы.
– У нас не было речи про две страницы.
– Но и не про сотню.
– Чего ты хочешь?
– Я хочу, чтобы вы мне к завтрашнему дню написали предварительный вариант. Несколько страниц, где перечислено все самое важное. Я хочу как можно скорее начать новую работу. Когда придет монсун, в каждом хорошем доме будет много работы. Фиренги тогда проводят почти все время дома. Я смогу с ними встретиться, когда буду ходить по округе и представлять себя.
– Я не уважаю вещи, сделанные наполовину. Мы должны дождаться завершения работы, тогда ты сможешь представлять себя с окончательным и наилучшим вариантом письма. Монсун проходит не быстро.
– Я настаиваю.
– Ну, раз ты настаиваешь, значит, никаких обсуждений быть не может? Настаиваю? Где ты этому научился?
– Месяц – долгий срок. Даже такой человек, как я, может догадаться, что его водят за нос.
32. ВЛАСТЬ ПОЭТА
Донесение генералу Нэпьеру
Лично
Вы дали мне задание собрать информацию, которая помогла бы сложить представление о том, как воспринимают нас местные жители. Я провел много часов среди синдхов, белуджей, панджабцев всех классов, на базарах, в тавернах и при временном дворе Ага-Хана. Мое внимательное ухо было открыто каждому голосу, и я избегал оценивать смысл услышанного. Я полагал, что вижу мир так же однобоко, как и те, кто высказывают передо мной свое мнение. Я не притворялся, поскольку убежден, что восточные люди умеют разглядеть фальшь. Не противореча и не подстрекая, я довольствовался ролью слушателя, и без ложной скромности признаюсь, что пользовался людской симпатией, какую редко встречал в своей жизни. Теперь же моя труднейшая задача состоит в том, чтобы сделать краткую выдержку из того, что высказывалось в бесчисленных разговорах, извилисто, сбивчиво, высокопарно и напыщенно. Обобщения – безжалостные нивелировщики, которых мы должны бежать как черт ладана, однако я не смею полностью от них отказаться, дабы выполнить ваше задание таким образом, чтобы от общей информации получилась как можно большая польза. Переходите же к делу, слышу я ваш голос, и потороплюсь исполнить также и это ваше пожелание.
Местные жители видят нас совершенно иначе, чем мы видим сами себя. Пусть это звучит банально, но нам следует постоянно держать в уме этот момент при общении с ними. Они ни в коем случае не считают нас отважными, умными, щедрыми и цивилизованными, в их глазах мы просто-напросто мошенники. Они не забывают ни одного нашего невыполненного обещания. Они не пропускают ни одного продажного чиновника, который призван осуществлять наш правопорядок. Наши манеры кажутся им отвратительными, и разумеется все мы – опасные неверные. Многие туземцы мечтают о мести, о восточной ночи длинных ножей, как я бы это назвал, они ждут не дождутся дня, когда будет изгнан зловонный оккупант. Они насквозь видят наше лицемерие, точнее сказать, противоречия в нашем поведении складываются в их глазах во всеобъемлющее лицемерие. Когда ангреци выказывают слишком много набожности, сказал мне один старик в Хидерабаде, когда они забивают нам уши сказками о восходящем солнце христианства, когда они поют про расширение цивилизации и бесконечные преимущества, которыми осыпят нас, варваров, тогда мы знаем, что ангреци готовятся к новому разбою. Когда они начинают говорить о ценностях, мы настораживаемся. Можно обвинить этого человека в цинизме, но он, без сомнения, умный и почтенный циник. Поскольку один пример говорит больше, чем сотня утверждений, я расскажу об одном случае. Несколько месяцев тому назад в дальнем уголке страны к западу от Карчат был взят в плен один белудж, глава племени, обвиняемый в организации набегов на наши пути подвоза. Белудж этот был известен как прожженный и опытный воин, и потому офицеру, производившему арест, пришла в голову идея вызвать его на поединок. Наверное, он вообразил себе, что победа продемонстрирует наше военное превосходство. Вождя усадили на старую усталую лошадь, а офицер взобрался на своего боевого жеребца. Он с гиканьем и блеском ринулся в первую атаку, за которой последовало еще несколько, однако сколько бы он ни нападал, белудж саблей и щитом отражал все удары. Офицер, бывший высокого мнения о собственном фехтовальном искусстве, разочаровывался все сильней. Он слышал непонятные крики туземцев, звучавшие в его ушах насмешками, он проигрывал мужской поединок, его слава среди сослуживцев могла померкнуть. Выхватив пистолет, он в последний раз бросился в атаку и вместо удара саблей застрелил белуджа в упор. Эту историю рассказывают по всей стране, она разрастается и пускает ядовитые цветы, где несправедливость перерастает в демонизм. Ходит много разных версий, но у них общий костяк, который я вам описал. И гораздо хуже, чем поступок офицера, в глазах туземцев тот несправедливый факт, что офицер не предстал перед военным судом. Напротив, его повысили, и сегодня он занимает важный пост.
33. НАУКАРАМ
II Aum Kavishaaya namaha I Sarvavighnopashantaye namaha I Aum Ganeshaya namaha II
Лахья вынул папку. Папку из тонкой кожи. Он купил ее, когда понял, сколько листов уже исписал историей Наукарама. Их надо было держать вместе, он ощутил вдруг страх потерять историю, лишиться хотя бы одной страницы. Поэтому часть гонорара была потрачена на папку, что, разумеется, развязало ссору о ненужных тратах с той, которая считает расходы. Он развернул папку, слегка, чтобы достать двумя пальцами листок. Прочел его, внимательно и неторопливо. Им овладело чувство, будто он снова может бегать, как юноша, вверх по холму в город, по тому самому холму, на который недавно взбирался, пыхтя и с черными кругами перед глазами, а потом вниз, он почти летел, он перегонял педантичный рассказ слуги, этот рассказ лишь дал необходимый толчок, за который он был благодарен, но теперь нужны крылья. Aum Balaganapati, не правда ли, семь слогов, семь звуков, которые вдохнут смысл и красоту в повествование этого слуги-неудачника. Какую красоту? Лишь немногие умеют колдовать. Имеет ли он право? Что за мелочность. Имеет ли он право подделать жизнь другого человека? К чему эта добросовестность? Ему надо отринуть чопорность, она хороша лишь для героев на старинных миниатюрах. Движение! Гибкость! К тому же Наукарам постоянно обманывал его, это было очевидно, это не была его настоящая жизнь, какую он расписывал перед лахьей, а жизнь, разукрашенная, как невеста, у которой выщипали все неприглядное, которую подкрасили, замаскировали и покрыли семью слоями ткани каждую ссадину, а как иначе, кто же станет говорить правду, кто решится быть откровенным. Так все и осталось бы, если бы он, лахья, не был столь въедливым. Какие-то вещи он мог разоблачить, у него чутье на ложь, но о других, особенно неприятных, Наукарам будет молчать до последнего. Для лахьи не оставалось иного пути, как самому заполнять лакуны. Это был его долг – совершенствовать.
Кто же такая Кундалини? Кем была она на самом деле? Он разыскал пуджари, который паломником посетил разные уголки страны. Разговор с ним оказался весьма плодотворен, его собственные предположения подтвердились. Исходя из места рождения Кундалини пуджари мог сделать некоторые выводы. Пхалтан, в округе Сатара, указывал на то, что ее семья принадлежала к общине маханубхав. У них было много девадаси. В тех храмах ему часто предлагали этих девушек, но он всегда отказывался, сказал пуджари, достигнув возраста деда, негоже вести себя подобно юнцу, желающему стать отцом. Скорее всего, Кундалини была такой девадаси. Она, наверное, служила в храме и сбежала оттуда. Пуджари объяснил, что девадаси никогда не получали разрешения покидать храм, по крайней мере, в молодости, в годы женского цветения. Только когда священники не могли найти им больше применения, их отпускали на волю, но обычно женщины так привыкали к жизни в храме, что боялись мира за его пределами. Если пуджари были благосклонны, они позволяли старым девадаси оставаться в храме и подметать полы или ходить за водой. Кундалини была молода. Раз ей удалось соблазнить и офицера ангреци, и его слугу, значит, ее очарование было велико. Но почему она сбежала? Лахья посетил своего друга, честно говоря, своего единственного друга, единственного, чье общество его не смущало. Это был человек поэзии и музыки, знавший о мире многое, что было скрыто от лахьи, всю жизнь познававшего мир глазами своих клиентов. Вообще-то он хотел лишь походя упомянуть о задании Наукарама, но его друг скрестил руки над животом, мощным, словно медный таз, по которому он бил кольцами на всех пальцах, когда пел свои песни, и упросил рассказать всю историю целиком. Его друг выразил огромный интерес к Кундалини, почти неприличный интерес. И смог ответить на некоторые вопросы лахьи. Хотя тому мешало, что все объяснения друг предварял фразой, мол, всем известно, что женщины в маикханне продают свои тела, поэтому их и называют «любимыми», или ты думал, что это просто комплимент? И всем известно, что если они умеют танцевать и петь бхаджаны, то это бывшие девадаси. Опять это слово. Девадаси. Сомнений быть не может. Конкубина, которую делили между собой бог и священники. Но нет, так его друг не говорил. Он объяснил, что девадаси не имели права выйти замуж за смертного, потому что были помолвлены с богом храма, которому они служили, одевали и раздевали его, баюкали и кормили, поклонялись ему, для которого они делали все тоже самое, что будет делать для мужа верная жена. Одна только вещь оставалась недоступна каменному или бронзовому божеству, и потому священники должны были выполнять акт любви с девадаси. Но это же всем известно. Лахье казалось, что вокруг него поднимается пар, словно дождь пролился на высохшую глиняную землю, и она вновь задышала. Он быстро распрощался к другом. Путь домой был как прогулка после первого дождя. В своей комнате он зажег сандаловые ароматические палочки, упросил жену ему не мешать, вынул новый лист бумаги и записал то, что теперь знал о девадаси по имени Кундалини, сбежавшей из храма, от пуджари, уродливого человека с дурным запахом изо рта, который в подметки не годился ей своей необразованностью. Ей были знакомы все важные священные тексты, а он выдумывал сутры, в которых не разбирался, он привешивал священные окончания к бессмысленным слогам, а за то, что она замечала его промахи, он наказывал ее, причиняя ей боль, когда овладевал ей. (Преувеличение? Вовсе нет. Грязные, полуобразованные брахманы – позор и вырождение касты.) Она умела петь множество бхакти, и исполняла их так, что аскет был покорен ее любовью к богу, а беззаботный кутила зажигался обещанием телесного блаженства. Нет, последнюю фразу лахья вычеркнул. Она была верна, но непристойна. Он не должен попадать под власть этой женщины, в чьем пении сливались дхарма и кама. Итак, она сбежала от пуджари, причинившего ей много зла, в Бароду. (Почему именно в Бароду? Не важно, не надо разрешать все загадки.) Может, здесь жила другая знакомая ей девадаси. Она устроилась работать в маикханне, где встретила Наукарама, клиента, которому отдалась за плату, и он представил ее своему господину. И тут на него снизошла догадка, ну конечно, как же он сразу не понял, Наукарам не стремился к счастью для своего господина, он думал о себе и только о себе. Он не хотел ходить к Кундалини в маикханну, он желал иметь ее рядом с собой. Поэтому пришлось пойти на жертву и разделить Кундалини с господином. А почему бы нет? Если бог и его священник могли делить одну возлюбленную, то почему не поступить так же офицеру Вест-Индской компании и его слуге? Примерно так все и было. Лахья был очень доволен. Вот что значит настоящая добросовестность, подумал он, подделать историю так, чтобы она стала правдой.








