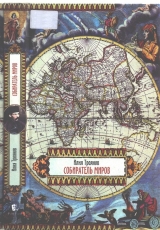
Текст книги "Собиратель миров"
Автор книги: Илия Троянов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
– Только потому, что они убегали?
– Кто убегает в дикой местности, тот подвергает опасности целый караван, поучал нас человек, обрекавший на смерть все, что становилось у него на пути. Побег – это попытка убийства других, говорил бвана Стенли. Оставаться в караване – это самоубийство, шептали мы за его спиной. Я оставался, я должен был остаться, пережив первое и второе путешествие, я знал, что выживу в любом. Но носильщики из людей ньямвези, гордившиеся своей работой и своей славой, у них не было такой уверенности, и они сбегали по ночам, и иногда мы их преследовали, а иногда махали рукой, а иногда на них нападали другие караваны и приводили их к нам, и тогда их секли, и брали для этого карбач, сплетенный из жесткой кожи бегемота, страшное оружие, особенно когда он новый, ровный и острый, как лезвие ножа, их секли, пока спина не покрывалась кровью, или их вешали. Говорю вам, тот, кто придумал это наказание, не знал различия между умом и глупостью. Ни один удар кнута в этом мире не помешает тебе пойти дорогой, к которой стремится твое сердце. Когда страх, или отчаяние, или ярость, или тоска становятся сильней, чем мысли, умеющие рассчитывать и взвешивать, тогда ты делаешь то, что скажет сердце, пусть тебе грозят любые адские муки этого и следующего мира. Кто придумал наказание, тот мало знал о ценности человека.
– Баба Сиди, ты знаешь ценность человека, конечно, никто из нас не сомневается, но и ты не постигаешь все, что мог бы постичь. Без угрозы адских наказаний человек не ведал бы ни чести, ни меры.
– Я своими глазами наблюдал, баба Юзуф, как наказанные при следующей же возможности повторяли то же самое, от чего их пытались отучить. Кнут не оставляет долгих следов на такой коже, которую сбрасывают. Поверьте, друзья, человек меняет кожу как змея. Есть лишь одна возможность, чтоб наверняка удержать человека от поступка: убить его.
– Очевидно, бвана Стенли это понял.
– Ну и какая ему от этого польза? У него становилось одним носильщиком меньше.
= = = = =
Из Кингани в Бомани, из Бомани в Мкваю-ля-Мвуани, каждый вечер он тщательно записывает названия, это грунтовка его отчета; из Киранга-Ранга до Тумба-Ихере, из Тумба-Ихере до Сегезера, пока они находятся в области устоявшихся названий, подтвержденных и бумагами, и информантами по дороге – вблизи побережья царит единодушие в вопросах номенклатуры; из Деге-ла-Мхора до Мадеге-Мадого, из Мадеге-Мадого до Кирури-в-Кхуту, каждое место охвачено геометрически и гипсометрически – аккуратный список не допустит ошибок и оградит от несчастья. Пока – самое начало, он не прячется ни от одной проблемы, он уверен, что все решается несложным приемом, все исправимо небольшой подгонкой. Пока все получается наладить. Природа предлагает некоторые открытия. Деревья, столь замечательно адаптировавшиеся к долгим периодам засухи, называются миомбо, и он может различить три вида: джулбенардия, брахистегия и изоберлиния, последняя служит кормом для слонов. Высокие деревья с прямыми стволами и желтой корой ( Taxus elongatusили ему родственные); карликовые веерообразные пальмы ( Chamaeros humilis, наверняка); китайский финик ( Zizyphus jujuba, называемый деревом джуджуба); местные сорта дум-пальмы и чилибухи, различные лиственные: стеркулия со светло-желтой корой и густой круглой кроной; капок с длинными стручками, темно-коричневые снаружи и белые и мягкие внутри. При наблюдениях он не позволяет себе никакой халатности: желтые плоды не срывают, но, скорее всего, собирают с земли, цветом и вкусом плод похож на манго, большие семена ядовитые или горькие – разве природа не предупреждает горечью о яде? – их все выплевывают. Зелень первых недель – цвет возделывания, парцеллы по обеим сторонам реки густо усажены рисом, кукурузой, маниоком, бататом и табаком. Это плодородная земля – Бёртон ясно видит ее благополучное развитие, нужна лишь направляющая рука.
Чем сильнее растет его уверенность, чем больше он разгадывает чужую землю, тем проще для него обезоружить ее угрозы. Он привыкает к безжалостно настойчивым барабанам вдалеке, в которых джемадар готов подозревать все мыслимые ужасы, и потому отдает своим тринадцати солдатам приказы к нелепым ложным маневрам. Он привыкает к медлительности стариков, деревенских старост, чьи имена звучат как оговорки. В Киранга-Ранга впервые пошел дождь, в Тумба-Ихере они в последний раз видят дерево манго. В Сегезера впервые ссорятся белуджи, их приходится растаскивать, прежде чем в дело вступают кинжалы; в лесах около Деге-ля-Мхора они замечают мартышек, которые столь проворно катапультируются сквозь макушки деревьев, что выстрелы Спика гулко раздаются в ветвях, и с каждым эхом он теряет уважение каравана, потому что направил ружье против мартышек и потому что промахнулся. В Мадеге-Мадого сдох первый осел, остальные животные околели в последующие дни, исчез первый носильщик, настроение экспедиции падает как барометр. Неожиданно рано приходится нагружать верховых животных, и скоро даже руководители экспедиции вынуждены идти пешком.
Бёртон шагает вряд ли медленнее осла, но едва он покидает спину животного, меняется его восприятие. Внимание поглощено собственными шагами, нанизыванием сотен и тысяч шагов. После свежести раннего утра, когда его взор все вокруг замечает и его ум все впитывает, он постепенно сосредотачивается, разгоряченный и недовольный, на собственных шагах, игнорируя все, кроме камешков, шипов, листиков, скрипящих и шелестящих под его сапогами, – крошечные дорожные разметки, придающие безотрадности изменчивое лицо, маргинальные перемены, на которые он обращает внимание, чтобы хоть за чем-то следить, на гниющие плоды, упавшие с деревьев, не совсем круглые и не совсем желтые, раздавленные, испорченные плоды с коричневыми пятнами, испускающие назойливый запах ферментации.
В первые недели на холостом ходу между проверками и наблюдениями он вычищает мусор из головы, выметая все те воспоминания, которые оставили в нем свои жала, крючковатые, вросшие в него жала. Он не имеет представления, творится ли что-то похожее со Спиком, идущим в авангарде, в то время как он сам сопровождает отстающих – подобные темы подразумевают фамильярность, которой между ними нет. Ранения прошлых лет становятся свежи: им вновь овладевает гнев, как тогда, когда он узнал о предательстве начальства в Синдхе, – и заново полыхающая ярость гонит его через следующую гряду холмов. Он скорбит о Кундалини, так же ожесточенно, как тогда, он скорбит до того горизонта, где растет баобаб – толстокожий мемориал. Он вновь страшится, что его разоблачат как богохульника, как тогда, между Мединой и Меккой. Его шаги продираются сквозь гнев, сквозь горе, сквозь страх, и так проходят часы, и дни, и недели. Все утраченное в его жизни вновь всплывает на поверхность, каждое унижение, разочарование, каждая рана. Он чувствует себя на лодке без руля среди бушующих волн, ему надо перегнуться через борт и собрать весь выброшенный в море балласт, каждую вещь по отдельности, пусть она опутана водорослями или разъедена солью, он терпеливо держит ее в руках, разглядывая со всех сторон, чтобы удостоверится, что ту или другую сторону уже не разглядеть, и он откладывает ее лишь тогда, когда перестает ее чувствовать, потому что она растворилась в невозмутимости, но не в забвении.
= = = = =
Сиди Мубарак Бомбей
Вначале никто из нас не знал, что нас ожидает, никто не мог предвидеть, что нам суждено пережить, а если бы мы знали, то никто из нас не сделал бы ни шага по этому пути шрамов и лишений. Мы были полны незапятнанных ожиданий, вначале, когда наши шрамы еще были ранами, когда враг еще был братом, и наша надежда была богаче опыта. Никто из нас не был готов к тому, что на нас обрушилось, даже носильщики, из людей ньямвези, которые уже однажды, хотя бы однажды, шагали по этой земле. Они несли груз караванов, стремящихся к наживе, но теми караванами не погоняло тщеславие достигнуть мест, где еще не был ни один человек. Носильщики терпели приказы людей жестоких, жадных и коварных, но не безумных. Ни один из нас не гнул спину под тяжестью каравана, ведомого вазунгу, а вазунгу, братья мои, это странные люди, я знаю их, я отличаю их друг от друга, но я никогда не смогу понять их. Они верят, что высшее призвание человека – попасть туда, куда не могли добраться его предки. Как понять их нам, ведь мы боимся пойти туда, где никто еще не был? Как нам разделить их счастье, когда им удается выполнить задание, которое они сами на себя взвалили? Видели бы вы выражение их лиц, они были счастливы, как отец, держащий в руках своего первенца, счастливы, как недавно влюбленный, когда к нему подходит его красавица…
– Или как лицо баба Ишмаила, когда он вытягивает на берег лодку, полную рыбы.
– Или как лица детей, когда приходит первый дождь.
– А может так: как выражение на лице баба Сиди, когда он может рассказывать друзьям о своих триумфах.
– Ну, так вы знаете это счастье, хорошо, тогда мне не нужно вам дальше описывать, какое счастье появлялось на их лицах, когда они достигали цели, которой до них не достигал еще ни один вазунгу. Но каждая вещь отбрасывает тень, и вы представить себе не можете, как омрачались их лица, если они узнавали, что они не первые, что кто-то обогнал их, грозовые облака собирались на их лицах при малейшей опасности, что кто-то может их обогнать. Я никогда не забуду ошеломление бваны Спика и бваны Гранта, когда на берегу самого большого из всех озер они встретили другого мзунгу, торговавшего там уже много лет, по имени Амабиле де Боно, родом хоть и не из их страны, но с острова, завоеванного их королевой. И вы не можете представить себе тревогу на лице бваны Стенли на протяжении всех тех долгих месяцев, когда он предполагал, что бвана Камерон обгонит его с другим караваном, что бвана Камерон станет первым, кто пересечет страну от места восхода солнца до места захода солнца. В нем было напряжение, заставлявшее его каждый вечер ругаться и говорить самые отвратительные слова о человеке, с которым он даже не был знаком. Я пытался успокоить бвана Стенли. Неужели бвана Камерон сорвет все, что растет по дороге, и вам ничего не оставит? Он грубо ответил мне, что я ничего не понимаю. Тогда меня разозлил его ответ, но сегодня я охотно подтверждаю: я не понимаю вазунгу.
– Я знаю, что ты имеешь в виду, баба Сиди, всегда есть кто-то, кто проснулся раньше тебя. Когда я был молодым человеком, мой отец работал у одного араба, который с двумя другими арабами и сорока носильщиками пошли к большому озеру, о котором ты говоришь, все время на запад, а когда дошли до озера, то построили лодку, и на этой лодке переправились через озеро и посетили страну, которая называлась Муата-Газембе, я запомнил это название, Муата-Газембе, потому что оно звучало для меня как команда стрелять, и потом, еще через шесть месяцев, эти арабы достигли другого конца земли, другого берега, и солнце зашло перед ними, и они встретили там вазунгу, построивших торговый форт, но то были другие вазунгу, чем те, которых они знали по Занзибару, люди из португальцев, а место, которое они основали, называлось Бенгуэла.
– Ох, это значит, они пересекли всю землю, если бы бвана Стенли или бвана Камерон об этом узнали, эта новость отравила бы много горшков их гордости. Они не могли бы больше хвалиться тем, что первыми прошли всю землю с востока на запад, им пришлось бы научиться быть следами ног в чужих следах, пришлось бы свыкнуться с мыслью, что они – последователи других. Для них каждая деревня, каждая река, каждое озеро, каждый лес казались девственницей, и в них жила страсть как у великанов, и чтобы ее удовлетворить, им надо было обладать всеми девственницами. Ради этой прихоти они готовы были вынести все, они терпели холод, терпели лихорадку, терпели укусы и уколы клещей, и комаров, и мух, уколы, вызывавшие опухоли, выраставшие за ночь и чесавшиеся так, что нам казалось, мы сходим с ума. И все, что терпели вазунгу, должны были терпеть и мы. Это была самая ужасная мысль, залезшая в мою голову, друзья мои, вскоре после нашего отправления. Мы были пленниками каравана, подчиненные безумной идее двух вазунгу, безумной идее пройти через ад, чтобы добраться до цели, о которой никто толком не знал, где и какая она. И для нас не было никаких шансов спасения, только оплата, небольшая оплата, половину которой нам уже выдали, и те, у кого были в Занзибаре семьи, оставили деньги жене и детям. С каждым уколом колючих шариков акации я все ясней понимал, на что я согласился. Для меня не было пути назад. Носильщики, те могли попытаться убежать, потому что знали дорогу домой, потому что мы шли навстречу их дому, потому что никто в деревне не призвал бы их к ответу, но я – даже если бы я смог в одиночку пробиться через леса и степи до побережья, если бы я не околел в этом одиноком путешествии, не попал бы в зубы дикого зверя или в сети работорговца, то все равно не смел бы показать свое лицо здесь, на Занзибаре, ведь я был избранником самого султана, ведь он послал меня сопровождать этих вазунгу и помогать им, до самого возвращения или самого конца. Я должен был идти дальше и терпеть уколы, для меня был лишь один выход – дорога через ад.
– Ты опять там плюешься большими словами, старый бахвал? Ох, как разошелся!
– Да что ты слышала, женщина?
– Если бы ты в своей жизни обращал внимание хоть на что-нибудь, кроме своих россказней, то заметил бы, что ты и твои друзья перегородили весь переулок.
– Ставни трещат от твоих ругательств. О чем ты говоришь?
– К твоим завираниям прилипло столько слушателей, что никто не может пройти по улице. Вон там повозка, если бы ты встал, то увидел, бедняга целую вечность ждет, когда ты кончишь чесать языком.
= = = = =
Перемены, когда они приближаются к очередной деревне. Мушкеты палят в воздух, даже самый измученный носильщик собирается с силами и встает в строй гордого каравана, который разглядывают дети и женщины – разумеется, из укрытия на них устремлены и мужские глаза. Во время таких парадов Бёртона не покидает чувство, что все участвуют в сценическом действе, с театральной манерностью, которая покидает их, едва они поворачиваются спиной к деревне: плечи опускаются, настроение еле волочится по земле.
Компенсация – вечером у костра. Иногда, разговаривая со Спиком, он не слышит собственных слов за шумом песен и веселья. Бьют барабаны, звенят колокольчики, трещит какой-то железный лом. Один из белуджей, Убаид, достает саранги, и все бездельники лагеря собираются, заслышав мощный скрежет, словно он чистит чешую с гигантской рыбы. Хуллук, караванный шут, изображает танцовщицу науч, выступая с отменным беспутством. После щедрой доли ломаний и гримас он решается на большее, решается углубить свою роль. Он встает на голову и, дергаясь, покачивает бедрами. По соседству с тощими костями его пятки кажутся набухшими, как хлеб, в который переложили дрожжей. Потом, по-прежнему стоя на голове, он переплетает ноги, как в позе портного, и в таком виде издает крики голодного пса, грустной кошки, дерзкой обезьяны, упрямого верблюда и вопли рабыни, заманивающей к себе на ночь всех мужчин в лагере сладострастными обещаниями. В конце концов Хуллук неожиданным и удивительно текучим движением перемещается по земле и оказывается смиренно сидящим перед Бёртоном, передразнивая теперь и его лающие приказы, так долго и настырно, пока не получает доллар за свое бесстыдство, который Бёртон дает охотно, потому что в общем смехе лагерь позабыл тяготы дневного похода. Но когда шут требует еще одну монету, то получает пинок и ретируется с подвываниями, с преувеличенными жалобами отвергнутой любви, и смешки бегут за ним следом, как бездомные собачонки.
= = = = =
Сиди Мубарак Бомбей
Это были тяжкие дни, братья мои, коварные дни, когда мы получили раны наших сегодняшних шрамов, дни, тянувшие нас в еще более мучительные ночи. Воздух не двигался, москиты жужжали, грубые лапы холода подкрадывались к нам, как разбойник, который снова и снова обшаривает свои жертвы. Казалось, ночь хочет украсть у нас все, что было внутри нас. Однажды полчища черных муравьев выгнали нас из палаток, они кусали нас между пальцами рук и ног, они впивались в каждое мягкое место на наших телах. Лошаки, кожа которых тоньше, чем у баба Али, орали и орали, до бешенства, и каждому из нас казалось, что еще один укус – и он тоже распрощается с рассудком. Джемадар, обычно выступавший так надменно, будто был младшим братом вазунгу, теперь крался по лагерю, как позабытый всеми предок. Да не только он, все потеряли голову, белуджи и носильщики. Все перешептывались у костров, советовались, и решение, которое выползало из шепота, звучало: бежать. Я молчал. Закрывая уши, потому что не хотел в этом участвовать и не хотел обманывать бвану Бёртона. Когда мы, наконец, обрели сон, сон, у которого был вкус холодного масала-чая без сахара, то знали, что нас ждет: следующее утро взойдет в новом отчаянии, в новом одиночестве.
– Одиночество вдовы.
– Вдовы, у которой только что умер второй муж, и она решила больше не выходить замуж.
– Баба Илиас, какое просветление на тебя нашло? Вот твои слова, которые я действительно могу себе представить.
– Не мои, а одного друга-сомалийца.
– Тогда в будущем держи наготове мудрости твоего друга, вместо того чтобы полагаться на свои силы.
– Как это возможно, баба Сиди? Вы все время страдали? Разве я тебя плохо знаю? Я не могу себе представить, что у тебя не было никакой радости.
– Конечно, ты прав. Страданья дней и ночей мы не смогли бы перенести без радостей вечера. Я говорю не про еду, о нет, еды поначалу было достаточно, не больше чем достаточно, кто столько ходит и столько носит, как мы, тот и ест много и не морщит нос над тем, что лежит в его жестяной тарелке, нет, я думаю о времени после еды, когда мы добирали счастье, которого были лишены при свете солнца. Мы танцевали и пели, а когда заметили, какими жадными глазами оценивают наши танцы и песни бвана Бёртон и бвана Спик, то стали подшучивать над ними. У одного носильщика были кривые ноги, которыми он, танцуя, дрыгал во все стороны, мы смеялись над его неуклюжей ловкостью и над его сомнительной песенкой, звучавшей примерно так:
Привет, я – Фрий, привет я – Фрий,
Мой братец Спик, мой братец Спик
Пропал навек, пропал навек,
Забьем же жирную корову,
Чтоб он нашел себе покой.
А в конце песни мы изо всех сил кричали: Амииииииииинь! Словно это была молитва, чтобы победить всех джиннов. Услышав нашу песню, но, разумеется, ничего не поняв, бвана Спик, наверное, подумал, что это хвалебная песнь в его честь, тогда он вышел из палатки, подошел к костру и спел нам одну из своих песен, которой было бы место на плечах у скорбящего и которая хорошо подошла бы для похорон. Но он пел во все горло и от всего сердца, и в конце песни мы все громко выразили наше восхищение, и за это он показал нам какой-то танец, который, к сожалению, быстро прервал, видимо, услышав наши смешки. Да, братья мои, это придало нам силы, когда нам позволили узнать, какими смешными бывают вазунгу.
= = = = =
Они вторглись в тропический лес. Теперь ничто не будет как прежде. Горизонт проглочен. Тропу преграждают решетки лиан, каждая толщиной с канат. Раскинувшиеся кроны сплелись в темно-зеленую крышу, опирающуюся на серые столбы, как священная роща, куда проникает лишь тенистая сторона шумов. Черная скользкая земля под густыми зарослями глотает каждый их шаг. На болотистых местах можно полагаться лишь на древесные корни. Пучки травы остры, как заточенные клинки, деревья во власти эпифитов, рептилиевидных паразитов, которые разрастаются на верхушках фальшивыми птичьими гнездами. Тропу душат ползущие и вьющиеся. Кто убивает дорогу, бормочут носильщики, тот убивает и путника. Вдобавок вонь, как будто за каждым деревом лежит труп. Тюки падают с ослов, белуджи проклинают несчастье, но предоставляют погрузку другим. Если они видят от неба больше, чем обрывок грязного савана, то оно – густое, серое, низкое, как дым, который нельзя прогнать. Воздух облекает их кожу миазмами, грязевой пленкой, которую не смыть, даже если бы они нашли воду и тщательно потерли бы кожу.
Они с самого начала знали, что это лишь вопрос времени – когда в них проберутся первые болезни. Но они не предусмотрели, что малярия одолеет их обоих одновременно. Они остановились вскоре после границы деревьев, где первые просеки расширяются в степь. Бёртон лежит на земле, не в силах пошевелиться, и ощущает внутри себя другое, враждебно настроенное существо, которое хочет спутать его планы. Однажды он восклицает: прежде чем я продолжу, я хочу знать, в чем дело. Вы не можете принудить меня к этой бесконечной борьбе, не предоставив никакой перспективы. Те, кто отвечают ему, не давая верного ответа, – головы, растущие из груди, которые вылизывают его волосатыми языками, морщинистые бабы, стегающие его кнутами, и он орет, что они его с кем-то спутали, а они вероломно посмеиваются и хрипят песню, непонятную поначалу, потом он выхватывает обрывки, слова падают на него, как бабочки без крыльев, и он пытается поймать их сетью, вырастающей из его рук, и когда он ловит все беглые слова, то долго-долго смотрит в сеть, пока у него получается собрать смысл: нет большего блаженства, нет большего счастья, чем треск костей, которые мы ломаем, с раннего утра до глубокого вечера. Он смотрит наверх, ведьмы восторженно кивают, ты понял нас, а теперь дай нам свои руки-ноги. Мы просверлим в них дыры и будем плевать туда, у тебя столько волос, это прекрасно, мы вырвем из тебя их все по очереди. Дай нам свое тело, мы обещаем тебе совершенную боль.
Он просыпается. Кажется, будто вся выпитая жидкость вышла из него п о том. Язык – гусеница, которая ворочается в коконе горечи. Ноги слушаются его против воли. Он опять вытягивает их. Зовет Бомбея, который носит ему воду. Спрашивает про Спика. Оказывается, он уже встал.
Бёртон ползет к выходу из палатку и выглядывает наружу. Небо затянуто. Он чувствует, будто с него снят какой-то огромный долг. Спик неподалеку. Видеть его – утешение. Он здоровается. Слова вязко стекают у него изо рта. Лицо Спика тугое, словно его кожу натянули для просушки на барабан. Он подходит к палатке, наклоняется к Бёртону. Первая атака отбита, говорит он. Потом протягивает руку и мягко дотрагивается до щеки Бёртона. Это кажется нелепым, но это знак единения. У Бёртона появляется надежда. Я немного отдохну, говорит он. Потом можем идти дальше. Увидимся. И вновь уползает в палатку.
Спик, моя путаная загадка Спик, думает он в хрупкой тишине, которая приходит за лихорадкой. Не следует его судить несправедливо, лишь потому что его трудно оценить. Пока он проявил себя надежным. Он исправно выполняет свои обязанности; он ни разу не жаловался на тяготы пути – если делить людей на спартанский и афинский типы, то Спик, без сомнения, принадлежит Спарте. Углубленный в себя, спокойный и уравновешенный. Пусть хорошее настроение для него – редкость, но он не бывает унылым или недовольным. Конечно, кое-что в нем раздражает. С самого начала крайне мешала его безграничная незаинтересованность, которую Спик выказывает всему окружающему его миру. Все пейзажи, по которым они до сей поры шагали, казались ему скучными, люди – неинтересными, единственное, что будит в нем страсть – это дикие животные, которых он может подстрелить. Словно бы он мог приблизиться к жизни, лишь завладев ею.
Бёртон был предупрежден: когда Спик – вскоре после их знакомства – вернулся из прогулки вглубь страны, не так далеко от сомалийского берега, его носильщики принесли столь тяжелый груз, как будто Спик намеревался нагрузить новый Ноев ковчег. Реприза с обратным знаком – каждый зверь был представлен отличным экземпляром, но не только мертвым, но еще взрезанным и выпотрошенным. Я – охотник, объяснил Спик, взойдя на борт, и коллекционер. Поэтому мне нравится в этих широтах.
К сожалению, его удовольствие быстро износилось. Не очень-то хороший знак, если ему скучно уже через несколько недель. А что будет через несколько месяцев? Спик ему улыбнулся, действительно улыбнулся, это хорошо, он показал себя надежным, так почему же у него неспокойно на душе, почему он предвидит разочарования, которые посрамят его знание людей, в который-то раз.
Лихорадка подбирается. Он выпивает несколько глотков, готовясь к новому приступу.
= = = = =
Сиди Мубарак Бомбей
Бывали дни, когда мы просыпались ранним утром, задолго до рассвета, и первое, что чувствовали – боль, которую нам готовит день. Чтобы подняться в такое утро, потребно мужество, когда мерзнешь, все твои надежды – насмешка, ты ощущаешь тяжесть тюков, которые взваливают на плечи собратьям по несчастью, в суматохе отвоевывая груз полегче, чувствуя, что ноги вросли в землю и хочется сжаться в клубок – ты беззащитен, не в силах больше выносить побои дня и мечтаешь, чтобы бездна все поглотила. В подобные утра мы ясно видели, что начало лежит далеко позади, но конец еще дальше, и мы видели наше злосчастье и понимали, как сильно мы нуждаемся в помощи. Земля перестала нам улыбаться, настало время найти мганга.
– Храни нас Бог!
– Нет, Сиди, только не повторяй эту историю, что за стыдоба!
– Ах, даже не знаю, зачем так волноваться, баба Квиддус, мне-то кажется, нашим братьям в удовольствие послушать немного стыдобы, особенно за чужой счет. Кроме того, это же не я предложил, в то время я вообще ничего не знал о мганга. Это было желание Салима бин Саида, это было желание всех ньямвези. Хотите встретиться с колдуном? Может, подождете, пока пройдем этот отрезок пути? Вазунгу отреагировали так же, как вы, так, как я от них ожидал. Главным образом бвана Спик, почти ничего не знавший и почти ничего не понимавший, но уверенный, что видит насквозь все на свете. Бвана Бёртон тоже отозвался пренебрежительно, пустая трата времени, сказал он поначалу, но потом задумался – он был человеком, который при случае проверяет свое мнение, как люди в деревне проверяют дома после сезона дождей, и иногда он изменял мнение, иногда даже строил весь дом заново. Он тихо проговорил: «Чем это может навредить? – Не вижу, – ответил я, – чем это может навредить. – Наоборот, – его голос окреп, – это может принести пользу». Итак, он выступил перед всей экспедицией и одобрил это предложение с огнем в словах, а когда мы нашли мганга, он отозвал меня в сторону и попросил, чтобы я пообещал этому человеку подарок, за хорошее пророчество, добавил он, держа вдруг в руках плетеную шапку из Индии, красивую белую шапку, потирая ее большим пальцем, словно ему было приятно касаться ткани. Мганга, которому мы доверились, был человеком высокого рождения, его достоинство на голову превосходило его самого, вокруг лба у него была обмотана пестрая ткань, вокруг шеи висело множество бус, и все бусы были из разных жемчужин, из разных раковин. Такого человека я желал бы иметь на нашей стороне, потому что я чувствовал, внутри него копилась сила, которая в любое время могла вырваться наружу. Когда молчание легло на всех нас, он взял крепкую щепотку нюхательного табака, достал флягу гурде, где хранилось его лекарство, и принялся трясти ее, а внутри что-то побрякивало, словно она была полна камешков. Его голос гремел откуда-то снизу, как будто уходил корнями в землю. Я никогда не слышал такого голоса. Хотя это был голос мганга, но принадлежал он не ему одному. Проясняясь, голос постепенно становился воздушным. Говорю вам, братья мои, никогда раньше со мной такого не происходило. Я был поражен, однако все это казалось мне знакомым, как человек, которого встречаешь впервые, но чье лицо словно бы уже видел. Я был в его власти. Когда голос стал высоким и легким, так что птицы не смогли бы поспевать за ним, мганга отложил гурде на землю, она откатилась в сторону и лежала, чуть покачиваясь, а мне вдруг захотелось, не знаю почему, я был тогда себе чужим, мне захотелось дотронуться до тыквы, я протянул к ней руку, но она лежала далеко, а я не мог пошевелить ничем, кроме руки. Мганга вынул два козьих рога из своего мешка, джутового мешка, про который я не хочу упоминать сейчас, но обязательно должен рассказать кое-что позже, они были связаны змеиной кожей, эти козьи рога, и украшены маленькими железными колокольчиками. Взяв рога за самые кончики, он принялся описывать ими круги, он направил их на бвану Бёртона, он направил их на меня, на носильщиков и на белуджей, и я не мог видеть ничего другого – только рога, танцевавшие перед моими глазами, и не мог слышать ничего другого – только бормотание, шепот и плевки мганга, который изгибался из стороны в сторону, все сильней и сильней встряхивая рогами, отчего колокольчики звенели все громче. Меня била дрожь. Потом я узнал, что все остальные тоже дрожали и тоже приросли к месту. Если бы мганга что-то приказал, я бы все выполнил. Я чувствовал, что он был в согласии с духами, был связан с духами предков, и в меня пришла боль, словно забытые предки вырезают мое сердце, потому что мганга, подумалось мне, соединялся с духом своего отца и с духом своего деда, а я даже не знал, как выглядят мой отец и мой дед, как звучат их голоса. Открой меня, молча умолял я его, покажи мне дорогу обратно. Но мганга уже был готов, он распахнул глаза, вы никогда не видели таких покрытых коростой глаз, только дурак бы не ощутил страха перед тайнами, пылавшими за этими глазами. Отвернувшись, он вымолвил приговор, прозвучавший как слова святого человека: у вас есть враги, но ваши враги не могущественнее вас и не отважнее вас. Ваше путешествие пройдет успешно. При этих словах мы вдохнули, медленно, словно не были еще уверены, можно ли позволить себе этот вдох. Будет много споров, но мало убийств. Вы встретите много слоновой кости. Вы вернетесь к женам и семьям. Один из тех, у кого жены нет, найдет жену во время этого путешествия, другой вознаградит верность ждущей женщины, а третий покинет женщину, которую ему подарят. Прежде чем вы решитесь пойти к большому глубокому озеру, вы должны принести в жертву пеструю курицу. Это было легкое задание, будущее, открывшееся нам, успокаивало, мы вздохнули с облегчением и были довольны.
– А мешок, что ты хотел сказать про мешок?
– Это был джутовый мешок, какие мы используем для риса или приправ, джутовый мешок из Занзибара, на котором стояло имя, имя одного из главных торговцев нашего города, вы все его знаете, это было имя баньяна, купившего меня на невольничьем рынке за пару монет, когда я был мальчишкой.







