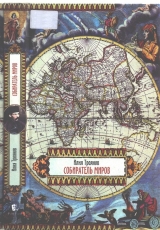
Текст книги "Собиратель миров"
Автор книги: Илия Троянов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
* * * * *
В месяц зуль-хиджжа года 1273
Да явит нам Бог свою милость и покровительство
Губернатор: Простите меня, что я пригласил вас в эти дни на последнюю встречу, но я немедленно должен отбыть на Ид-аль-Адха в Стамбул и привезти с собой конечный отчет.
Шериф: Почти год минул с тех пор, как мы начали заниматься этим делом, безусловно, значительным, но мы сделали все, что могли, однако, если мне позволено будет такое сравнение, напрасно зарились на новолуние истины.
Губернатор: Нам осталось выслушать последнего свидетеля, возможно, он поможет нам разрубить узел. Это Салих Шаккар, которого нам наконец удалось найти – он вернулся в Мекку с большим караваном. Десяток моих людей разыскивали его. Я уже опросил его, немного, но не узнал пока ничего нового, однако, может, что-то прояснится в нашем совместном разговоре.
Кади: Пусть даже небо почернеет, мы будем продолжать искать новую луну.
Шериф: Это последний раз, как сказал губернатор, последний раз. Сказать по правде, мне будет не хватать наших встреч, они были мне развлечением, так поучительны и любопытны.
Кади: Развлечением?
Шериф: В своей странноватой манере.
Губернатор: Итак, я вызываю свидетеля.
Губернатор: Подумайте. Наверняка, он высказывал какое-то мнение. Любой человек порой оценивает окружающее.
Салих: Он очень резко осуждал несправедливость мира и выражал удивительно много сочувствия бедным паломникам. Словно они были его родственниками.
Губернатор: Да…
Салих: Он мог возмущаться и говорить гневно. Однажды он даже ругал калифа.
Губернатор: Да?
Салих: Он ругал богатство высших чинов, их щедрость к провожатым больших караванов. Ругал коррупцию, которую замечал повсеместно. Но бедные паломники, как часто повторял он, полностью забыты, им нет никакой помощи и ничего не делается для их безопасности.
Кади: И что же требовалось сделать, по его мнению?
Салих: Починить колодцы – хорошо, но этого недостаточно. Надо бесплатно допускать к ним бедных паломников. Преступление, что воду продают, а неимущих стража прогоняет прочь. Ни один человек не должен мучиться от жажды и голода.
Кади: Он говорит как истинный мусульманин.
Салих: Многочисленные больные и умирающие по обочинам – они очень заботили его, и я вспоминаю, как однажды спросил, а есть ли в его Индии страждущие люди, и он ответил, что есть беднейшие из бедных, и их гораздо больше, однако правители – и британские наместники, и индийские короли – никогда не считали, будто люди могут быть равны друг другу. Но в стране истинной веры, тем более по соседству с обителью Бога, такое положение дел граничит с богохульством.
Кади: Сильные слова. Отважные слова. И некоторые молодые улемы высказывают похожие вещи.
Губернатор: Вы подозреваете какую-то связь?
Кади: Нет, но легко понять, каким образом человек попадает на эту дорогу и шагает по ней до логичного конца.
Шериф: Продолжайте.
Салих: Он полагал, что нужно построить лазареты, штук шесть только между Меккой и Мединой. А также общедоступные постоялые дворы, в достаточном количестве. Это не так дорого, как он уверял.
Губернатор: Дешево для того, кому не нужно тратить деньги.
Кади: Что еще?
Салих: Расточительство. Оно было для него бельмом на глазу, он часто приговаривал, что Бог презирает незнание меры.
Губернатор: А что еще ему хотелось искоренить?
Салих: Болезни.
Губернатор: Болезни?
Салих: Да, он же был врачом, как вы и сами, наверно, знаете.
Губернатор: Ну-ка, интересно, что же он говорил о болезнях?
Салих: Он утверждал, что паломники должны проходить государственный медицинский осмотр сразу по прибытии, в Джидде или в Янбу, и необходимо следить, чтобы повсюду было достаточно воды и поддерживалась чистота. Больных надо по возможности быстро отделять от остальных паломников. А умерших людей, а также трупы животных, надо быстро убирать. И еще многое в этом направлении, но я не могу вспомнить все детали. Я говорил, уже прошло несколько лет.
Губернатор: Очень интересно. Благодарю вас, шейх Салих Шаккар. Мы возблагодарим вас за неудобства, которые вам причинили. Вы можете идти теперь.
Шериф: И что же в этом очень интересного?
Губернатор: В последнем письме визирь поделился со мной беспокойством по поводу того, что британцы и французы попытаются использовать угрозу болезни как предлог для продвижения собственных интересов в этом регионе. Они уже уверяли, будто в их странах наблюдается опасное распространение эпидемий, исходящих от хаджа, и будто Мекка, да возвысит ее Бог, является источником многочисленных инфекций, и будто хаджи разносят заразу во все страны света.
Кади: И они не совсем неправы. Холера стала верной спутницей хаджа.
Шериф: А кто ее привел и откуда она появилась, эта холера? Из Британской Индии, мы раньше такой болезни не знали. Сегодня многие паломники прибывают уже больными, другие серьезно ослаблены, больные заражают слабых, а потом говорят, будто во всем повинна Мекка, да возвысит ее Бог.
Губернатор: Британцы уже множество раз уверяли, что якобы имеют право вторгнуться в Джидду из-за этой угрозы здоровью.
Шериф: Возможно, их знания могут оказаться полезны, и не стоит сразу отказываться от помощи только потому, что она исходит от неверных. Речь идет о наших больных братьях и сестрах.
Губернатор: Я знаю, что вы охотно сплетете договоренности с фаранджа. Вы воображаете себе, будто сохраните таким образом независимость. Но вы серьезно ошибаетесь! Британцы проглотят и вас, и все ваши привилегии. А если их посланцы будут к вам хорошо расположены, то вам назначат небольшое возмещение, скромную свиту и несущественную должность. Но с вашим роскошным дворцом в Маабида вам вскоре придется распрощаться.
Шериф: Что вы такое говорите? Я не понимаю намерения ваших слов, я уважаю калифат и не имею ни одного из тех устремлений, какие вы мне приписываете, точно не по моей доброй воле, должен добавить.
Губернатор: Высокая Порта тоже уважает шерифа Мекки. Нам следует об этом помнить и хранить наше взаимное уважение. В качестве знака нашей доброй воли мы решили увеличить гарнизон в Джидде.
Шериф: Мы продолжим этот разговор после вашего возвращения. Передайте калифу наше глубочайшее уважение и нашу не менее искреннюю благодарность, когда будете ему докладывать. А также, конечно, нашему старинному другу визирю.
Губернатор: И какое же заключительное мнение должен я передать по данному делу?
Кади: Особенно в эти дни, в дни очищения, мы не должны забывать: если Бог благословляет человека присутствием в священных городах, то он благословляет и неверных. Он открывает человеку сердце, чтобы он стал отзывчивым, и открывает ему глаза, чтоб он стал зрячим. Милость Бога безгранична, и, конечно, ее не остановить ни происхождению, ни намерениям человека. Кто мы, чтобы приближаться с мерной лентой к его милосердию? Мы не можем знать, когда и как этот шейх Абдулла, этот Ричард Бёртон стал мусульманином, остался ли он мусульманином, вступил ли он в хадж как мусульманин, насколько чистым было его сердце, насколько искренними – его намерения. Без сомнения, он много пережил в путешествии, что затронуло и изменило его. И без сомнения, он познал бесконечную милость Бога.
Губернатор: Вообще-то нас не столько заботило спасение его души, как его тайная миссия. Полагаю, мы с уверенностью можем сказать, что он не нашел ни помощников, ни помощников помощников среди мужчин Хиджаза. Это должно нас успокоить. Но все же, несмотря на наши усилия, нам не удалось узнать, собирал ли он информацию, которая нам может повредить.
Шериф: И поскольку нам этого никогда не распознать, пусть наш рассудок скажет слова просветления. Этот чужак приехал в одиночку. Что бы он ни разузнал – что может сообщить один-единственный человек? Пусть даже он был шпионом, хитрейшим и искуснейшим шпионом, что может наблюдать простой паломник, как может он нанести урон будущему калифата и священных городов, да возвысит их Бог.
Кади: Да славен Бог, который хранит их честь до Дня воскресения.
Губернатор: Будем надеяться, что вы правы, шериф. Ведь если калифат утратит влияние в Хиджазе, место его немедля займут силы, у которых мы встретим гораздо меньше понимания наших традиций.
Кади: Против этого мы будем обороняться.
Губернатор: Оружием или молитвами?
Кади: Оружием и молитвами, как это делал наш пророк, да дарует ему мир Бог. Такая битва обновит нашу веру.
Шериф: Лучше, чтобы до этого не доходило. Мы должны беречься от спешных новшеств.
Губернатор: Нельзя забывать, сколько каждый из нас может потерять.
* * * * *
Новолуние освободило его от осмотрительности, которой обычно требуют неосвещенные улицы Мекки. Он может, не отвлекаясь, следовать своим мыслям. Он покидает Мекку с облегчением и сожалением. О чем он точно не будет тосковать – так это о назойливом сопровождении Мохаммеда. Прошлым вечером юноша требовал от шейха Абдуллы признаться, что он не тот, за кого себя выдает. Разве я когда-то утверждал, будто я – хороший человек, ответил он. И Мохаммед воздел руки небу и прокричал: вас, дервишей, словами не поймаешь! Он будет тосковать по спокойствию Большой мечети, в которой с удовольствием остался бы дольше. Не навечно, как некоторые паломники, но еще на несколько дней или недель. Ему предстоит возвращение, и, как всякое возвращение, это будет поездка без особенных восторгов. Он быстро доедет до Джидды. На пути не будет никаких опасностей – Мохаммед, как обычно, все разузнал, остерегайся таможенников, предупреждал он, это они научили москитов пить кровь. Затем будет переезд в Суэц, хотелось бы надеяться, более удобный, чем невзгоды на «Силк аль-Захаб». Он решил остаться на некоторое время в Каире. Чтобы постепенно отпала пуповина, связующая с хаджем. В Каире он будет расшифровывать свои заметки, склеивать разрезанные бумажки, записывать наблюдения в необходимой полноте. Если что и доставит ему радость – то именно этот процесс письменного воспоминания. Однако он не все подряд запишет, не все – доверит бумаге. Он не будет скупиться на внешние детали и уделит большое внимание естественным наукам, чтобы устранить ошибки предшественников. Неточности чрезвычайно раздражают его. Но чувств своих он не выдаст. Всех чувств – не выдаст. К тому же он не был в них всегда уверен. Не стоит пускать в мир новые неясности. Это будет неподобающе, нельзя себе такого позволять. Да и кто в Англии может последовать за ним в сумеречное царство, кто поймет, что ответы таинственнее вопросов?
III. ВОСТОЧНАЯ АФРИКА
В воспоминании расплывается письмо

Сиди Мубарак Бомбей
Занзибар, остров, пал жертвой собственной гавани. Риф открывался – воротами в коралловом валу. Чужакам оставалось лишь убрать паруса да поднять собственные флаги. Паруса латали и шнуровали, пока не придет время нового плавания. Флаги трепетали, пока их не изгонят другие флаги. Султанский штандарт скользил вниз, и Сиди Мубарак Бомбей, сидевший на своем законном месте пирса, ухмыльнулся, будто до сих пор не мог поверить, сколько же глупостей он повстречал на своем веку. Все идет к погибели, промолвил голос слева. Ничего не изменится, возразил более старый голос справа. Поднимался новый стяг, лихой, как объявление намерений: красный вышел в отставку, его место заняли стрелоподобные солнечные лучи, устремленные по синему небу во все стороны, а рядом, наверное, в честь больших и тяжелых кораблей, вставших на якорь перед бухтой, черный крест – штандарт правителя, которого белокожие называли император. Воистину, пробормотал старик, ни один день не сядет там, где уже сидел другой. Простившись с мужчинами, делившими с ним его удивление, он направился в старый город, где узкие переулки сводили на нет радушное приглашение рифа.
Кто причаливает к Занзибару, тот еще не прибыл. Для этого требуется время, а времени белокожим недостает. Их любопытство улетает прежде, чем гаснет их аппетит. Им по плечу волны и ветер, но не лабиринт фасадов. Старик тащился вдоль шершавых построек из окаменевшего коралла, теснимый прохожими, торопившимися сквозь ранний вечер. Обошел стороной хлопотливый соляной рынок, прошел, чтоб короче, через мясной рынок, уже покинутый и потому невонючий. В переулках стало народа поменьше, и проходящие мимо здоровались с ним. Он добрался до мечети своего квартала. Из медресе по соседству раздавалось многоголосое чтение суры. Старик остановился, опершись руками о стену дома. Камень был морщинистый и прохладный, он успокаивал, как знакомое лицо. Он закрыл глаза. Сура Ихлас – звучный плеск, пустое обещание: нет ничего вечного, пусть даже о нем вдохновенно говорят детские голоса. Истина рассеивается ночью, и ее каждое утро нужно искать заново. Кто-то подошел. – Пришло уже время тебе увидеть мечеть изнутри. Голос имама был тверд. Старик не стал открывать глаза. Это смутит имама, уверенного в мощи своих ясных светящихся глаз. – Тебе никогда не бывает страшно, баба Сиди? Смерть скоро придет за тобой. Старик потер ладони о шероховатую стену. – Я запутался, – сказал он, спустя немного, так медленно, словно каждое его слово ступало с робостью. – Я не знаю, превращусь ли я в труп или в духа. – Твои мысли слепы, баба Сиди, они ведут тебя в пропасть. Старик открыл глаза. – Я знаю мечеть изнутри. – Как так? – Я молился в ней, когда ты был еще в Омане. Я собирался в путешествие, я был в пути три года, пешком я пересек полмира… – Я знаю, каждый знает твои истории, баба Сиди. – Нет, ты не знаешь мою историю, не знаешь ее по-настоящему, и я тебе не расскажу. – Чего ты боишься, баба Сиди? – Боюсь языка простаков, которым ты и тебе подобные пересказывают любой опыт. Я видел столько, что это не поместится в маленьких пустых комнатках, которые ты строишь.
Старик отвернулся и пошел вниз по переулку к своему дому. – Неверные вскружили тебе голову – крикнул ему вслед имам, – об этом все знают! Ты слишком долго с ними общался, ты был в их власти, и это навредило тебе. Твое левое плечо тяжелее правого. Старик вышел за пределы слышимости. Ко всем прочим неясностям присоединилась эта: зачем имам все время его подкарауливает, словно он – единственный открытый долг в общине. Раздумывая, он скупился на приветствия, и, наконец, остановился у сводчатой двери с открытой левой створкой. По дереву плыли рыбы на волнах, вырезанные рукой послушной и спокойной, как штиль. Боковые притолоки украшали финиковые пальмы, а на уровне глаз его младшего внука цвел лотос. С каждым вопросом малыша он заново исследовал ворота. С арки свисали клочки бумаги, которые его жена ежеутренне тесно исписывала молитвами, словно не доверяя неизменной каллиграфии по дереву, отказывая ей в способности отпугивать джиннов. Старик выкрикнул свое желание во внутренний двор, где собиралось все, что было недостаточно чисто для первого этажа, и сел на каменную скамью у внешней стены. Пока рано, друзья соберутся позже, но он не ощущал потребности, как обычно, пойти прилечь, вздремнуть перед вечерним напряжением. Салим вскоре принесет ему кокосового молока. Он обнимет младшего внука и немного порадуется его нахальству. Потом вытянется на скамье, положив голову на каменную спинку.
День требовал очередной молитвы. Старик, лежащий на бараза перед своим домом, уставил один глаз на ручеек событий, струящийся мимо. Мысли пробивались сквозь его сонливость – вахтенная смена флагов, закат кроваво-красного знамени султана, за которым он однажды последовал в неведомое, так заразительна была самоуверенность обоих чужаков – один светловолосый и краснокожий, другой темен, как араб, и покрыт шрамами, как воин, – слепо веривших, что их величие и флаг султана произведут желаемое впечатление на правителей внутри страны. И их уверенность, к его позднейшему удивлению, оправдалась. Он все пережил, и это, и еще три путешествия. Он выжил.
А потом, много позже, едва он впервые стал дедом, опять возник какой-то мзунгу, еще более светлокожий, чем все предыдущие – слава старика, видимо, указала ему дорогу. Суетливый человек, неловок, как бвана Спик, честолюбив, как бвана Стэнли. Настаивал, чтобы Сиди Мубарак Бомбей провел его внутрь материка. Они сидели во внутреннем дворе – вазунгу считали, будто невежливо говорить с ними на улице, но стоило пригласить их во внутренний двор, как на их лицах отражалось презрение к снующим повсюду собакам и курам, спящему в углу рабу, у которого из открытого рта вытекала слюна, – и он в мыслях поигрывал с идеей нового, пятого путешествия, как вдруг услышал голос, упавший из окна дома как дубинка. Да если ты меня еще раз оставишь… мзунгу не знал языка, но понял интонацию… я выцарапаю из твоей жизни остатки радости! Страх, липкий, как перезрелое манго, вдруг овладел им. Не из-за угроз жены. Он в первый раз ощутил страх, что не вернется. Мзунгу требовал сведений, которые пахли кровью и проклятием – в нем все было безмерно. Казалось, он верил, что мир таков, каким он вообразил его в своей голове. А если мир его разочарует, то станет ли он переделывать мир? Не беспокойся, крикнул он жене. Ты от меня не отделаешься! Пару мгновений он размышлял, не сбить ли с пути этого одержимого, не дать ли ему ложные сведения, но сразу отказался от мыслей, в этом не было толка. В свое время он игрался с вазунгу, но тем не менее они всегда добирались до цели. Иногда полуслепые, или полубезумные, парализованные и измученные, но всегда в полном сознании собственного успеха. А сегодня они даже подняли свой флаг над Занзибаром. И старик не удивился, приметив около центральной мачты, среди важных вазунгу того необузданного бвану Петерса, что однажды приходил к нему домой, а теперь стоял, окоченевший и сияющий от гордости, в роскошном мундире. Мир сейчас действительно выглядел так, как он себе его представлял.
– Чего ты качаешь головой?
– Я качаю головой об одном господине, который все время мешал мне глупыми вопросами.
– Других вопросов ты и не поймешь.
– Откуда тебе знать? Других ты и не задаешь.
– Ассаламу-алейкум.
– Валейкум-иссалам.
– Мир в порядке?
– И да, и нет.
– В семье все хорошо?
– Дом полон здоровья.
– И золота?
– И золота, и кораллов, и жемчуга.
– И счастья?
– Хем!
– Мархаба.
– Мархаба.
– Чувствую, мне очень хочется крепкого кофе.
– Угощайся.
– Если он вкусен, я доверю тебе, что узнал про казначея султана.
– Флагом султана скоро будут пыль вытирать.
– Потому казначей предложил свои услуги вазунгу.
– На этих не произведешь впечатления родословной. Для них важны лишь твои умения.
– Им тоже нужны кровопийцы, а кто подходит для этой роли лучше испытанного казначея. Кто хорошо служил прошлым, будет еще лучше служить будущим правителям.
– Да, прав ты, сразу признаю. Садись же, наконец, а то еще люди подумают, мы с тобой поссорились, а потом, чего доброго, начнут верить твоей болтовне.
– Доброта всегда украшала тебя.
– Старая привычка, от которой никак не избавиться. Я как раз думал, только помолчи сейчас, не прерывай меня сразу же, я думал про самоуверенность вазунгу, как плохо я их знал вначале, как мало я их понимал, а сегодня, сегодня они показали нам свой флаг, на самой высокой мачте острова. Вообще, первая поездка была откровением… ах, Салим, подойди ко мне, подойди, мой малыш, присядь к нам… откровением, пусть не совсем неожиданным, ведь почему я пошел с ними – из-за этой уверенности, которую я чувствовал от темного мзунгу с самого начала, уверенности, что вместе с ним мы можем добраться куда угодно. Лишь позже я узнал, что все наоборот, им нужны были мы, чтобы куда-то добраться. Но они были полны уверенности. Понимаешь?
– Ты уже был знаком тогда с бабушкой?
– Нет, Салим, я не был еще знаком с твоей бабушкой, но в одном можешь мне поверить: я отправился в путь не для того, чтобы с ней познакомиться. Скорее, было так, что меня позвали предки обратно в страну, из которой я родом и куда я никогда не вернулся. Мне было примерно столько лет, как тебе, мое утреннее солнышко, когда они на меня охотились, когда они меня поймали, когда они меня утащили, арабы с тяжелыми одеждами и громкими ружьями, о которых я столько слышал, о, да, о которых нас столько раз предупреждали, но будешь ли ты верить в джинна, которого никогда не встречал? Что ты будешь делать, если он вдруг нападет на тебя, мой солнечный лучик? Ты не знаешь! Они напали на нас быстрей, чем смерть, они были повсюду, стреляли из своих громких ружей, орали приказы, которые как раскаленное железо впечатались в мои уши, ранив меня, смешавшись с криками наших матерей, и бабушек, и сестер, и сегодня еще, едва я слышу крик, похожий на тогдашний крик, когда лудильщик кричит, браня слугу, когда ловец жемчуга кричит, вернувшись домой, усталый и угрюмый, тогда я вновь все слышу, я слышу все те крики, и вновь все вижу, вижу наши пятки, которые мчатся к озеру, о да, я вижу пятки моего страха. Кто знает, почему мы стали искать спасения у озера, вместо того чтобы спрятаться в лесу, как это сделали другие, так я полагаю, ведь после, когда нас выстроили, приковав наши руки к палке, то я не увидел нескольких моих братьев, их не было среди нас, и это стало единственной радостью, какую я еще чувствовал. Я был мал, как ты, хотя мне было достаточно лет, чтобы меня вскоре мог съесть нож, еще птичка, которая может сесть и тут и там, птичка, которой не нужно ходить в медресе, не нужно торчать во дворе, которая прыгает в лесах и в траве, плещется в озере, пока кто-нибудь следит за крокодилами, хлопая по воде, когда они приближаются. И пришел день, одетый в маску незнакомца, день, когда мне переломали и крылья, и ноги, так что я не знал уже, кто я, может, просто кусок мяса, который тащили по раскаленной земле. Маски незнакомцев говорили языком кнута. Мой дорогой, ты не знаешь язык кнута, даже прут тебе не знаком, твой отец забывает всякий гнев при взгляде на тебя, ты не знаешь, что язык кнута оскорбляет раньше, чем приносит боль, он наказывает раньше, чем угрожает, он пронизывает все чувства, заставляет упасть на колени, заставляет плестись дальше, о, как хочется с корнем вырвать этот язык, но наши руки были скованы, а когда мы однажды ночью отдыхали, однажды, ведь многие ночи нам приходилось пробегать насквозь, тогда были скованы и наши ноги, и если сегодня, три жизни спустя, ты посмотришь на запястья твоего деда, здесь, видишь, шрамы этих дней, когда умерла моя первая жизнь, моя детская жизнь, жизнь с моими предками и моими родными. Никогда больше я не встретил человека, который знал бы мою деревню, который посылал молитвы тем же предкам, что и я, и прошло много сезонов дождей, прежде чем я повстречал кого-то, кто знал мой язык.
С того дня я был один. По ночам было всего ужасней, по ночам гиены подкрадывались к нам, и мы их слышали, арабы их тоже слышали, они бросали камни в темноту, которые откликались то стуком, то скулением, потом арабы улеглись спать вокруг надежного огня, а мы кричали, и наш крик был единственным оружием против гиен, рыскавших вокруг, тупое оружие, растущее от нашего страха, когда гиены подкрадывались ближе, ты не поверишь, мой друг, как может кричать человек, пока его голос не сорвется, и ты услышишь такое, чего никогда не слышал и не должен слышать. Мы не могли взглянуть в разорванное лицо наступившего утра, наши братья перестали быть людьми, куски мяса свисали с их тел, падаль, а их духи молниями взлетали к вершинам деревьев, калеча и деревья, и любого, проходящего мимо. Когда мы добрались до гавани, мы все были мертвы, душевно мертвые, живо-мертвы, мертвецы на живых ногах, мертвецы с глазами, как раздавленные фрукты. Я не чувствовал запаха моря, запаха гнилых водорослей, не слышал шум волн, не ощущал соленого вкуса воздуха… Здесь, в этом городе, на площади, где вазунги сегодня строят себе дом для молитв, там меня выставили, и три беспощадных солнца прошло, прежде чем меня кто-то купил, какой-то баньян за пару монет. Он взял меня в свой дом, где другие, подобные мне, но с которыми я не мог обменяться ни единым словом, дали мне поесть и показали, где я могу помыться.
Мужчина, обладавший моей второй жизнью, был благородным человеком, мой мальчик, которому его собственные старые законы не позволяли торговать животными, как запрещали и еще много чего. Он жил среди множества невидимых законов, которые должны были охранять его, как та проволока над нашими воротами бережет нас от воров, но его законы охраняли его так, что посадили его под замок. Законы молчали, как пойманные с поличным обманщики, когда он покупал людей, словно покупает мясо, но законы запрещали торговать раковинами каури, потому что он может вызвать смерть моллюска, и он их держался, но торговал рогами носорогов и кожей бегемотов, и торговал слоновой костью, и этим он грешил против своих законов, однако, покупая человека, он был прав, об этом его законы молчали. Этот баньян не стал меня продавать дальше и не послал меня работать на какой-нибудь плантации, он оставил меня в доме. Он дал мне работу, от которой я опять окреп, и однажды забрал меня в город своего происхождения, по ту сторону моря, на расстоянии многих дней влажной еды и гнилостных снов, и если ты хочешь знать название этого города, мой талисман, то должен произнести имя твоего деда. Нет, другое… последнее! Бом-бей, правильно. Благодарение предкам за это благословение, за этого мягкого человека с его странными законами, потому что иначе я не сидел бы сейчас здесь, на этой бараза. Мы поплыли под парусами на огромном доу, это не жалкое мтепе, какие ты знаешь, не эти лодочки, что плавают до Чанганйики, нет, могучий гордый корабль, который скакал по волнам…
– Словно ему принадлежат все кони этого мира.
– Ассаламу-алейкум, баба Илиас. Мы уже тебя ждали.
– Так-так, баба Илиас, чего ты на этот раз выдумал, водяных лошадей?
– Лошади не возят корабли, и лошади не скачут по морю, но так можно выразиться, я говорю так, и другие это ценят, только не баба Ишмаил, у которого уши заколочены железом. Вместо языка понадобятся гвозди, чтоб к нему пробиться.
– Ты умеешь говорить, баба Илиас, и мне почти жаль, что понапрасну тратишь силы, вместо того чтобы читать нам хутба.
– Да сохрани меня Бог от таких искушений.
– Он может порой нас обольстить словами, этот баба Илиас, но все-таки слова ему не прислуживают.
– Может, мама Мубарак прислужит нам и принесет мне обещанный кофе?
– Может быть, может быть.
– Тебе не было грустно, дедушка, когда ты потерял свое имя?
– Грустно? Зачем грустить нашему баба Сиди? Он сам себе дал новое имя.
= = = = =
Бёртон стоит по щиколотку в воде, ожидая, когда же отправится в дорогу, ожидая этого со дня прибытия в Занзибар более шести месяцев тому назад. Оно должно наконец-то начаться, его путешествие вглубь континента, самое честолюбивое предприятие его жизни. Его ожидают высочайшие почести. Награды, дворянский титул, пожизненная рента. Предстоит разгадать загадку истока Нила, которая занимает умы более двух тысячелетий. Это откроет целый континент. Он не боится своего честолюбия. Не может быть цели лучше, чем вписать смысл на белые пятна карты. О, проклятое ожидание, но оно скоро пройдет, скоро окончатся праздные переговоры. И одним ударом он сбросит кандалы привычки, груз рутины, рабство постоянного дома.
Невозможно было лучше подготовить экспедицию. Они сделали все – нет, он сделал все, что было в его власти. Его компаньон, Джон Хеннинг Спик, до сей поры благородно чурался работы. Очевидно, за неимением знаний. Аристократичная голова. Легко с ним не будет. Первым предупреждением был сомалийский опыт, когда на них напали ночью и они едва смогли спастись. Спик предъявлял претензии ко всем, но только не к себе. Он крепкий парень, отличный стрелок и в конечном итоге вроде бы уважает Бёртона – как путешественника с большим опытом и начальника экспедиции. Он не станет сомневаться в его авторитете. К тому же он занимает хорошее положение, и значительная часть средств поступила из его собственного кармана. А с деньгами у них туго. Ситуация смехотворна – заполнение белых пятен под угрозой срыва из-за нескольких грошей. Вот что значит, когда завоевание мира отдают на откуп мелким лавочникам. Они вечно экономят не там где нужно.
Он прогуливается по берегу. Солнце ныряет в воду. Пляж – как тонко перемолотая морская соль, пропитанная золотой краской. Он опускает руки в длинную волну и смачивает лицо. Проводит пальцами по волосам, до затылка. Стоя по щиколотку в Индийском океане, он устремляет взгляд вдаль, за пенные венчики волн, за сгорбленную синеватую спину, расплывшуюся непостижимым обещанием, за изгиб земли, дальше – к портам Бомбея и Карачи, к бухтам Кхамбата и Суэца, к Аравийскому морю. Он так много узнал, так много написал и предоставил надлежащим организациям и общественности. И его хоть раз наградили? Те, кто выносят вердикт о ценности подчиненных, отмалчиваются о нем и о его достижениях.
Пляж покинут солнцем – растянутая серость. Он больше не один, впереди – собачья стая, вокруг их лап плещется морская вода. Морды измазаны кровью. Не успев еще задуматься, он видит гниющий труп, на который они набросились, обрадовавшись подарку, глаза полны подозрительности, не зарится ли этот пришелец на их добычу, светлую, как тунцовое мясо. Работорговцы выбрасывают за борт испорченный товар, думает он. Делая море и душеприказчиком, и наследником. На лодке в порт привозят только ликвидное здоровье. Потери, заранее учтенные в расчетах, доплывают с опозданием. Бёртон отворачивается – самое время попрощаться с Занзибаром.
На террасе отеля «Африка», как и ожидалось, сидит Джон Хеннинг Спик, для друзей – Джек. С вечерней рюмкой в руке он, наслаждаясь, обозревает городок. Наверняка развлекает соотечественников и собутыльников, по большей части торговцев и представителей судоходств, охотничьими историями из Гималаев. Удивительно, как много он пережил в Тибете, учитывая, с какой охотой он просиживает все время на этой террасе. Псы на пляже кажутся отсюда резвящимися детьми. Если бы предложить Спику прогуляться, тот серьезно возразит: Занзибар слишком мал, слишком беден дикими животными, зачем мне мучиться под солнцем. Бёртон почти дошел до овального стола у перил – на заднем плане застыли официанты, чьи костюмы вдохновлены, очевидно, беглым перелистыванием «Тысячи и одной ночи», – когда Спик повернул голову и заметил его. Мгновенно прервав свой словесный поток, он нарочито громко приветствует Бёртона, словно желая привлечь внимание всего стола к нежданному посетителю.
– Ты несешь нам хорошие новости?
– Мы слышали, экспедиция готова.
– Но есть одна проблема. Она никак не начинается.
– Успехов!
– Когда вы вернетесь в Занзибар, я устрою праздник, господа, какого вы еще не видели.








