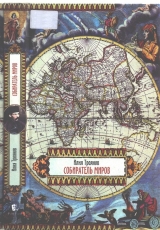
Текст книги "Собиратель миров"
Автор книги: Илия Троянов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
– Мганга был твоим другом.
– Он прикоснулся к моей жизни. Каждый день он проводил со мной немного времени, со мной и моим новым братом, хотя забот у него было много, и порой мы всего лишь беседовали, и порой не замечали, что воспринимаем его мудрость, она была как сахар в кофе, приятна и прекрасна, но лишь спустя время я догадывался, как глубоко забрались в мою память его слова и какой ценностью они обладают.
– Что же это за мудрость, баба Сиди? Ведь и мудрость состоит из отдельных частей.
– Он научил эту глыбу земли в образе человека быть вежливым.
– Ох, мама, мать Хамида, как прекрасно, что ты нас не забыла.
– Он обучил его уважать женщину. Потому что раньше ваш друг был человеком, немного разбиравшимся лишь в мужской жизни.
– Она права. У меня не было воспоминаний о моей матери, в хозяйстве баньяна женщин не было, а на Занзибаре я жил с несколькими братьями в маленьком домике. Я уже провел одну целую и половину другой жизни без женщин.
– Я была благодарна этому мганга, вы и представить себе не можете, как благодарна ему я была.
– Он умел так красиво говорить, я запоминал все, что он говорил, я не мог забыть его слова, как будто моя голова сама записывала. Он говорил узорами, которые складывались в смысл только на расстоянии. Когда ты придешь, например, так говорил он, в край, где ты чужой, где тебя не знают, ты однажды почувствуешь голод. И когда ты встретишь женщину, которую не знаешь, то захочешь попросить у нее еды. Тогда поприветствуй ее и ты скажи ей: «Женщины рожают своих детей везде одинаковым образом, боль одинакова и счастье одинаково». Это мера вежливости. Так говорил он и ставил паузу где-нибудь на тихом средоточии своей мудрости.
– Я тоже слушала, я сидела в нескольких шагах позади мужчин, повернув лицо к земле, но слушала внимательней всех прочих, и все, что я слышала, я сразу же применяла к этому чужаку, который был теперь моим мужем, и постепенно разрешилось мое беспокойство о том, как мне с ним обходиться.
– Это гораздо лучше, продолжал мганга, чем если ты скажешь: я голоден. Женщина накормит тебя, потому что ты напомнил ей о ее собственных детях, о любви, которую она испытывает к своим детям. Она встанет на место твоей матери, и назовет тебя «мой сын», и начнет готовить для тебя ту еду, какая у нее есть.
– И этот тип, который перед вами сидит и проверяет язык на прочность, к моему огромному, юному изумлению, последовал этому совету мганга, и многим другим его советам, он открыл меня в те дни, что мы провели в Казехе, он открыл меня глазами нового уважения, и он обращался со мной жестами новой вежливости. Хвала предкам.
– Хвала Богу.
– И хвала матери этого мганга, потому что она подарила мне страсть и, может быть, жизнь, она дала мне травы, которые мешали новой жизни в моем животе. Я ведь этому болтуну, сидящему там внизу с вами, все еще не позволяла сделать того, чего ему больше всего хотелось, я остерегалась не только его чужеродности, я еще боялась забеременеть во время похода, я была уверена, что в этом караване можно произвести на свет только мертворожденного.
– Храни Бог!
– Все стало хорошо. Я варила травы, я пила их сок, и я дозволила, после многих обещаний его новой вежливости, я позволила этому человеку, которому была продана, разделить со мной кровать. А наш первый сын Хамид родился, лишь когда у нас был прочный дом, здесь, в Занзибаре.
– Мать Хамида, моя жена шлет тебе приветы. У нее опять болят суставы, и она просит тебя зайти к ней.
– Сейчас же отправлюсь к ней, баба Ишмаил, пока ужин не протолкнулся вперед меня.
– Хорошо ты это вплел, друг.
– Это правда.
– Разумеется, но эта правда пришлась кстати.
– Этот мганга поражает меня даже на таком большом расстоянии.
– Он вернул мне веру, братья, этот человек показал мне веру, уходившую внутрь меня глубже, чем все остальное, о чем я знал раньше. Благодаря ему я понял, чего мне не хватает. Я бродил по жизни неполноценным, я грустил, словно потерял что-то очень дорогое для меня, но не мог ответить, чего же мне ежедневно не хватало. Однажды вечером мы вместе ели, и он попросил меня разложить на циновке листья банана для всех, кто будет есть. Но нас только двое, сказал я. Я еще пригласил моего отца, сказал он, и отца моего отца. Я замер, потому что знал, что они оба мертвы. Мы принесем пожертвование предкам, неуверенно спросил я. Они буду есть с нами, ответил мганга. Мы сели, рядом с нами лежали два листа, за которыми никого не было. Мганга представил меня своему отцу и отцу отца. А ты, спросил мганга, ты разве не знаешь никого, кого бы ты мог пригласить? И я только молчал.
– Одного я не понимаю, баба Сиди, ты говоришь о вере, но не о молитве. В этой другой вере, как там молятся?
– Там нет предписанной молитвы, какую ты знаешь.
– Как такое возможно!
– Молитва, устроенная как закон, она нужна, если молитва – это исключение, когда ты выходишь из твоей жизни, чтобы помолиться. Но если каждый твой вздох – это молитва, если каждый твой поступок – молитва, если ты почитаешь Бога, потому что находишься в Боге, тогда иная молитва не нужна. Наоборот: это выше всех молитв. Молитва в мечети – не больше чем объявление о наших намерениях, это добрые намерения, видные всем, это как лодка, которую ты на суше делаешь пригодной для моря, но проверить ее можно только на волнах, когда попадешь в первый шторм. Кому тогда нужно знать, хорошо ли выглядела лодка, лежа на берегу? Думаете, что в минуты наших неудач Бог начинает пересчитывать наши молитвы?
– Все верно, баба Сиди прав. Правильно жить – это лучшая молитва.
= = = = =
Бёртон не может объяснить себе, почему Снай бин Амир ему добровольно помогает. По повелению султана? Или потому, что он с самого приезда в Казех облачился в арабскую одежду и всем видом настолько похож на араба, что Бомбей, случайно встретив его где-то между домами, прошёл, словно мимо незнакомца. Он был поражен, этот низкорослый мужчина, когда услышал свое имя и узнал голос бваны Бёртона, который шутливо сказал: «У меня теперь новое имя, и мы с тобой породнились, меня зовут Абдулла Рахман Бомбей». Но неужели лишь его непринужденное обращение с арабами причина того, почему Снай бин Амир пришел ему на помощь в споре с Саидом бин Салимом и белуджами? С его помощью Бёртону удалось в зародыше подавить бессовестные требования поднять оплату и увеличить провиант. Почему Снай бин Амир проводит с ним безгранично много времени, занимательные часы, когда он объясняет Бёртону основные черты языка ньямвези или рисует очертания северного большого озера, называемого туземцами Ньянза? Когда Бёртон не в силах больше скрывать этот вопрос, Снай бин Амир со смехом указывает на долг гостеприимства и на обоюдную симпатию, а потом говорит: Почему ты считаешь, будто мы, торговцы, опасаемся прихода британцев? Наоборот. Наши дел пойдут проще. – А как же рабство, – спрашивает Бёртон. – Работорговля для нас не особенно важна. Мы будем торговать золотом, или деревом, или сахаром. Кто нас прогонит? Посмотри по сторонам, ты считаешь, что толпы твоих соотечественников ринутся на пыльные далекие места, подобные этому, чтобы вести жизнь, которой мы довольны, но которая для них станет несчастьем? Нет, они удовлетворятся работой с нами, так будет для них гораздо приятней и вполне выгодно. – Или же, – думает Бёртон, – вы вернетесь назад и оставите страну тем, кто ничего не умеет.
Ему хорошо в Казехе. Он сидит за маленьким письменным столом, который арабы поставили ему в комнату. Успокоительный перерыв. Негаданно восхитительная интермедия. Нет, на самом деле не восхитительная. Но удовлетворяющая, достаточная, что, быть может, более ценно. Буддийские студенты когда-то в Индии – вспоминает он занимательный парадокс – имели право жить в узких кельях, а когда достигали прогресса в обучении, то получали привилегию оставить отдельную комнату и втиснуться вместе с другим студентом в два раза меньшее пространство. Он провел целый семестр в кустарнике, поэтому ему хватает мудрости ценить место, подобное Казеху. От такой непривычной невзыскательности в нем поселяются сомнения о смысле их операции. Он почти погиб, почти потерял рассудок, его тело вымотано до предела, за которым восстановление здоровья уже вряд ли возможно. И что все перевешивает, какой успех наградой за все жертвы? Он достиг Казеха, деревни. Для буддиста его сомнения предстали бы выражением стойкого тщеславия. Но разве мало того, что он, отправившись завоевать мир, теперь доволен мелким пыльным закоулком? Пусть даже временно. Оазис радует, когда ты ранее пересек пустыню. Теперь он знает наверняка, что есть два озера, и, возможно, Нил вытекает из одного из них. А может, озер – четыре? Равнодушие, которое он ощущает, не может длиться долго.
Позже он сидит за маленьким столом много часов подряд, отвечая на письма, ждавшие его в Казехе, долгожданные письма, которые, однако, отсылают к миру, что расплывается в смутных воспоминаниях. Тяжелое письмо от семьи сообщает ужасные новости о брате, в послании из Занзибара пишут о смерти британского консула. Хоть Бёртон ожидал этой смерти, его глубоко затронуло письмо. Добрый человек так и не уехал в Ирландию. Бёртон должен отправить подробный отчет его преемнику. Хочется надеяться, он не откажется от обещаний предшественника. И еще одна смерть – генерала Нэпьера. У смертного ложа стоял его зять Макмурдо, и едва генерал издал последний вздох, покрыл мертвеца знаменем 22-полка.
«Чем ты тут занят?» – вопрос из уст Спика звучит для Бёртона так, словно он хочет сказать: «Ну, что ты там опять пишешь?» – Записываю мысли, Джек, всего лишь несколько мыслей, пока они не исчезли. – Может, прочитаешь мне? – Не сейчас. Ты знаешь, у меня слабость к мыслям. Я получил письмо сестры. Мой брат ранен в голову, на Шри-Ланке, ранение такое сильное, что он никого не узнает. Он может прожить еще полвека, говорят врачи, так и не узнав ни себя, ни окружающих.
– Мне очень жаль, Дик. Твой брат Эдвард, да? Он был… милый парень, да… такой судьбы я боюсь. Мне безразлично, если меня убьют в Африке, раз уж так суждено, но чтобы накинулась такая лихорадки и держала в плену, пытая, но не убивая, одна мысль сводит меня с ума. Пойдем, нам нужно на воздух, погуляем. Вообразим, будто мы в Девоне.
= = = = =
Сиди Мубарак Бомбей
– Твое путешествие, баба Сиди, после наших совместных вечеров, стало мне таким привычным, как мои собственные дороги. Только этот мзунгу, бвана Бёртон, как был для меня загадкой с самого начала, так и остался загадкой.
– Потому что я сам не могу разгадать загадку, баба Ишмаил, я не могу его описать целиком, потому что он никогда мне целиком не показывал себя. У меня всегда было впечатление, что он стоит на другом берегу реки, и нет парома, на котором можно преодолеть реку между нами. Думаю, он не был ужасным человеком, он был человеком, которому нравилось представать таким, кто меня ужасал. Я уверен, он никогда не убивал другого человека, но ему нравилось, чтобы все думали, что он на это способен. Бваной Бёртоном владели джинны, которые были чужды всем, джинны, про которых он не мог объяснить никому, ни мне, ни носильщикам, ни белуджам или баньяну, ни даже бване Спику. Жить проще, когда твои джинны знакомы другим людям. Наверное, это было причиной, почему он так редко понимал отчаяние других, он был как старый слон, ушедший от стада, который всегда пьет один из промоины. Бвана Спик был другим, он тоже скрывал свою суть, но когда что-то открывалось, я видел, кто он и что он чувствует. Он мог быть ужасен, но он был мне ближе. Он иногда обходился со мной как с собакой, а иногда – как с другом.
– Разве ты не говорил, что с вазунгу не может быть дружбы?
– Да, верно, я это говорил. Бвана Спик был исключением. Мы провели вместе много месяцев, он доверял мне и под конец ничего от меня не утаивал, даже мыслей. Это очень странно, но ему не казалось неприличным объяснять мне, что люди, подобные мне, значат меньше, чем вазунгу.
– Люди, подобные тебе? Какие это люди?
– Африканцы, сказал он. Я спросил его, имеет ли он в виду людей из Занзибара, или вагого, или ньямвези. А он ответил: да все вы. А когда я у него спросил, как же возможно, что столько разных людей значат меньше, чем он и ему подобные, он сослался на Библию, на святую книгу людей с крестом на груди, и рассказал мне историю про Ноя, то есть Нуха, которую мы тоже знаем, но наша история – другая, как вы сейчас поймете, его интересовали не пророк Нух и его предостережения и угрозы, а его три сына, Сим, Хам и Иафет. Слушайте и поражайтесь, ибо от этих трех сыновей произошли якобы все люди на земле. Однажды Нух, опьяненный, лежал в своей палатке…
– Пьяный пророк!
– Напившись своим собственным вином, и случайно обнажился во сне, и Хам заметил, он увидел срам отца своего и рассказал об этом своим двум братьям, которые, отвернувшись, прикрыли Нуха одеждой, и потому Нух проклял детей и детей детей Хама, отдав их навечно в рабство к другим братьям. Чудная история, до которой нам нет дела, если бы бвана Спик не уверял, будто Хам является нашим предком, нашим самым первым прародителем, и потому мы всегда должны быть в подчинении, так как он и прочие вазунгу происходят от другого брата, я забыл, от какого из двух. Ну, разве не странно, что вазунгу, не имеющие никаких связей с их собственными ближайшими предками, уверяют, будто точно все знают про наших древних предков.
– Надеюсь, ты сказал ему, что об этом нет ни слова в благородном Коране?
– Я промолчал, у меня уже хватало опыта, что нельзя бороться против священных книг.
– Объясни, пожалуйста, баба Сиди, почему же вазунгу против работорговли, если они уверены, что мы как люди значим меньше их?
– Разве вазунгу против работорговли?
– Разумеется, особенно бвана Бёртон, он сильными словами выступал против рабства, о да, он презирал его, и все-таки он позволял брать рабов в наш караван, а когда я спросил у него, как он может быть против рабства, хотя он пользуется рабами, он объяснил, что не хватает свободных мужчин, готовых работать, и у него нет выбора, поэтому он платит плату рабам и относится к ним как к свободным.
– Он, видимо, думал, что если относиться к рабу как к свободному, он станет свободен.
– Это как с подаянием. Если тебе кто-то даст богатый подарок, то разве ты станешь от этого богачом?
– Он уверял, что не может помешать Саиду бин Салиму, и белуждам, и двум баньянам покупать рабов. Он якобы им возражал. Возражал! Вы это слышали, друзья мои? Король каравана осторожно хлопает по плечу человека, который от него зависим и ему подчиняется, а он вежливо просит не слишком усердствовать с рабством, а его подчиненные отвечают, что их закон им это позволяет, отвечают с праведным возмущением, и король каравана отступает, даже не задавая вопрос, верно ли это, он говорит себе: я сделал все что мог, он успокаивает совесть, я дал понять этим дикарям, что мы решительно протестуем против рабства.
– Лицемерие процветает.
– И шагает навстречу лучшим временам.
– Я сказал ему: ты не понимаешь. Это состояние, которое надо полностью прогнать из мира. Дело не в страданиях нескольких людей здесь и сейчас. Речь о страдании тех, кто остался, и о страдании их потомков. Если боль и ужас однажды просочились в землю, то как их изгнать, что очистит страну? Кто убережет ее от ростков зла, которые родятся в потомках, во внуках и в правнуках, которым придется смотреть на другое солнце, не на то, которое видели их предки?
– А бвана Бёртон, что он тебе ответил?
– Ты говоришь путано, сказал он, мганга перевернул тебе голову. Может быть, возможно, он перевернул мою голову, ответил я, но я знаю, что теперь я смотрю в правильном направлении.
= = = = =
Он стоит в воде, по бедра в мутной воде, и всякий раз, когда опускает туда руку, то касается чего-то скользкого. Ощущение вовсе не неприятное, скорее незнакомое. Повсюду ил, куда ни наступи. Им приходится с щекотливыми чувствами наощупь пробираться в темноте, глотающей их ноги. Стоя в воде, он спрашивает себя, не допустили ли они ошибку. Когда у широкой, мирно скользящей вдаль реки они рассуждали, где лучше переправиться. Наверное, там и надо было, хоть вода там была глубже, зато реку можно было окинуть взглядом. И уж явно не здесь, где можно потеряться в густых зарослях внутренней дельты. Природа – неприкосновенна. Как будто река, за которой они следуют, течет ко времени предгрехопадения, как будто они возвращаются к самым ранним началам мира, когда растения буйно размножались и надо всем царили деревья-великаны. Река, называемая, насколько они поняли, Малагарази, ведет к озеру.
Снай бин Амир дал им проводника, молодого человека, наполовину араба, наполовину ньямвези, и поначалу казалось, что самоуверенный человек ведет их верно, пока они не догадались, что он навязал им обходной дороги как минимум на три дня, чтобы навестить свою жену. И потом решил с ней не расставаться, выдав им в качестве проводника своего племянника, который точно так же самоуверенно сбился с пути, но хотя бы ненарочно. Бёртон решил отправить никчемного бездельника домой и идти вдоль по реке, которая на тот момент внушала больше доверия: широкая, усаженная пальмами, шелестевшими на ветру, борассовые пальмы, посаженные работорговцами, как уверял его Снай бин Амир, высокие плодоносные пальмы с пучками опахал над тонкими и абсолютно ровными стволами. То была идиллическая картина, оживляемая беззаботными птицами, над водой и на воде, на ветках и сучьях. Чудесный полет коршунов, кружащих ровно, словно по циркульной окружности; компанейские пеликаны собрались на вечеринку в саду, все клювы опущены, все головы склонены влево; зимородки отвесно падают в воду и так же вертикально выстреливают вверх с рыбой в клюве; цапля-голиаф бездвижно подкарауливает добычу на камне в середине реки.
Крики обезьян-колобусов. Невдалеке. Звучит недружелюбно. Спик смотрит в вышину, словно скудный просачивающийся свет может облегчить его страдания. Похоже, он подцепил трахому. Слизистая оболочка воспалена, веки распухли, левое – совсем плохо. Он не может нормально закрыть глаз. С тех пор как он почти ничего не видит, он не отходит от Бёртона и без пререканий согласен на его руководство. В болоте он несколько раз хватался за него, цеплялся за помятый конец его рубахи, поскользнулся, когда Бёртон поскользнулся, упал, когда тот упал. Несколько дней тому назад, когда Бёртон разозлился на своего нахального компаньона, то в сердцах пожелал, чтобы Спик сломался об эти джунгли, чтобы утратил самоконтроль, а вместе с ним господские замашки, благородные манеры. В деревне, где проводник остался у своей жены, им на дороге попался старик, слепой, его веки вросли внутрь, роговица покрыта шрамами, а ирисы затерялись в обагренных клочках ваты. Бёртон уставился в порченые глаза и не мог оторваться. Ему стало стыдно за то, что порой зрение надоедало ему, и он отозвал свое проклятие: пусть глаза Спика снова станут здоровы.
Усталость. Если он хоть на минуту расслабится, то уснет на месте. Он нагибается под ивой, карабкается на трухлявое дерево, упавшее некоторое время назад. Он смотрит вперед. Не такая уж большая река. Эта внутренняя дельта должна когда-нибудь закончиться. В пяти метрах от него, словно через сводчатое окно, в густых зарослях над потоком выпрыгивает мощный темный павиан, беззвучно и как будто замедленно из-за тишины. Бёртон останавливается и делает остальным знак замереть. Следом выпрыгивает самка, за которую уцепился детеныш, еще несколько мелких особей, а потом опять павиан за павианом, многочисленная стая, без малейшего хруста и не оборачиваясь, словно людей вблизи и вовсе нет, все в чрезвычайной спешке выскакивают из обрамленного ветками проема. Бёртон заворожен этой интерлюдией, чистое движение, возможно, знак, разумеется, знак. За обезьянами! Им надо следовать за обезьянами. Звучат его приказы. Не проходит и получаса, как они стоят на склоне, под ними – широкая, мирно скользящая вдаль река.
= = = = =
Сиди Мубарак Бомбей
Долгий отдых в Казехе, друзья, облегчил жизнь вазунгу, дал им новые силы, но не вылечил их по-настоящему. Они набрали достаточно сил, чтобы пережить путешествие, но их не хватило, чтобы вазунгу остались здоровыми. В болоте вернулась лихорадка, и ее когти страшно изувечили бвану Бёртона, его то бросало в озноб, то он обливался потом, его рвало, снова и снова, а иногда он впадал в безумие, когда джинны нашептывали ему больше злых мыслей, чем пьяному, он не мог чувствовать ноги, свои изуродованные язвами ноги, он был парализован. У меня больше нет мускулов, говорил он тихо, почти не двигая губами, которые были усеяны волдырями. Его глаза затекли кровью, как будто вечернее солнце разбилось и растеклось, словно яйцо, они горели, а он жаловался и жаловался, что он не может вынести пронзительный звук в его ушах, возникавший из-за лечебного средства вазунгу, лекарства по названию хинин, терзавшего бвану Бёртона, но без этого хинина, как он говорил, он давно бы умер. Его переполняла боль, но все же ничто не доставляло ему большего страдания, чем слабость и зависимость. Видели бы вы отвращение на его лице, когда восьми самым сильным носильщикам пришлось нести его, потому что он не мог удержаться верхом на осле. А бвана Спик, тот почти ничего не видел, он пытался скрыть это несчастье, но разве он мог нас обмануть, когда он ни во что больше не стрелял и даже не вынимал ружье из чехла. Рано утром я был ему необходим, потому что его глаза оказывались разбухшими и клейкими, словно они намазаны смолой, мне приходилось отмывать их водой, мне приходилось надевать ему сапоги, и он был раздражен и груб. Оба вазунгу были в те дни полностью в наших руках, и не раз мне приходила мысль, как же им повезло, что они попали к нам в руки.
– Баба Сиди, прости меня, но день уже заканчивается, а я обещал моим внукам рассказать им сегодня вечером историю, может, я расскажу им одну из твоих историй, мне пора уходить, но я не хочу вас покидать, не услышав, как ты добрался до озера, мне так приятно вспоминать об этом…
– Да, до первого великого озера.
– Хорошо, баба Юзуф, я перепрыгну через болото Малагарази и остановлюсь на последнем подъеме, когда умер осел бваны Спика – он лег на землю, словно с последним хрипом полностью израсходовал все свои силы. Бвана Спик был в смятении, он лежал на земле, на боку, вцепившись руками в землю, и ничего не говорил, я думаю, ему не хотелось привлекать внимание к себе, к своему неблагородному положению, но я все равно его поднял, мне пришлось поддерживать его, мы вместе влезали на отвесный холм, на последний, как я знаю сейчас, но тогда это казалось очередным испытанием в ряду многих. До боли ухватившись за мой локоть, он умолял меня описывать ему все, что я мог увидеть, все колючие кусты, взбитые облака, камни как тыквы, не так-то много чего можно было описать, но он был жаден и нетерпелив, едва я переводил дух, как он требовал говорить дальше, и я должен был поклясться, что не утаиваю от него ни малейшего изменения пейзажа. Мы взошли на вершину, отдышались, и я увидел что-то необычное, что возбудило меня, металлическая поверхность мерцала под солнцем. Бвана Спик тоже что-то угадал, он видел немного, но свет и темнота как-то пробивались сквозь его вспухшие глаза, и он возбужденно спросил меня: эти полосы света, Сиди, ты тоже их видишь? Что это? Но я не торопился с ответом, я хотел распробовать радость. Я думаю, бвана, сказал я с размеренностью, я думаю, это вода. И когда я это произнес, то заметил, что вокруг царит ликование, я увидел, как Саид бин Салим исступленно говорит что-то бване Бёртону, сидевшему на плечах самого сильного носильщика и вытягивавшему голову в даль; а Джемадар Маллик ухмылялся как игрок, только что получивший двойной выигрыш, белуджи поздравляли друг друга и остальных, склоняясь в глубоких церемонных поклонах. А бвана Спик, он почувствовал эйфорию и заразился ей, но все же немного жаловался, жаловался на туман перед глазами. Вскоре мы гораздо лучше могли разглядеть озеро, оно лежало под нами, как гигантская синяя рыба, гревшаяся на солнце. Мы были околдованы, мы забыли все муки, все опасности, мы забыли про шаткую надежду на возвращение, о да, мы забыли все, что было плохо, и в первый и в последний раз, братья мои, все мы делили друг с другом одно и то же счастье.
= = = = =
Сегодня – 13 февраля, исторический день для открытия мира, в первый раз цивилизованным глазам предстало озеро, не могущее быть прекрасней, хотя внешность, как верно говорится, обманчива. Озеро показалось им блестящим мазком, сияющей издевкой, убогой оплатой их тягот, убийственным разочарованием, но уже через несколько шагов, когда водная поверхность перестала отражать солнце и открылся широкий обзор, они получили первое впечатление об истинной величине озера, сверкание которого раскинулось далеко. О, эта благословенная вода – в нем вспыхивает эйфория, как долго оттягиваемый оргазм, – окруженная горами, словно лежит в лоне богов, светло-желтый песок, изумрудно-зеленая вода. Солнце ласкает ему лицо, легкий бриз, который он вдруг ощущает, закручивает хлопья на мягких волнах, пара кану скользят по воде, и их движения рождают то таинственное бормотание, которое становится тем громче, чем ниже они спускаются по отвесной тропе. Носилки неудобны, и пару раз носильщики подскальзываются, так что ему приходится хвататься за боковые брусы, но в это мгновение его ничто не может взволновать. Под ними лежит река Малагараси, рыжевато изливающаяся в озеро, и деревня, которая блаженно ластится к мягкому очертанию бухты, если бы сюда перенеслись парки и фруктовые сады, мечети и дворцы, место выглядело бы прекрасней, чем самый волшебный итальянский курорт. Меланхолия? Монотонность? Смыты прочь, здесь и сейчас вознаграждена вся безотрадность, в этот миг он ощущает умиротворение, настолько полное, что готов вынести вдвое больше боли, забот и нужды за эту цену, и не жалел бы.
= = = = =
Сиди Мубарак Бомбей
Братья мои, это правда, я с гордостью рассказывал о моих путешествиях, и моя жена права, иногда гордость заводит меня далеко, поэтому я сознаюсь вам, сейчас, когда мы достигли самого восторженного момента нашего пути, почему я еще и стыжусь каждого моего путешествия, я должен признаться вам, почему я сожалею о каждом моем путешествии. Потому что я своими глазами видел, что не должен видеть ни один человек, потому что я видел начало рабства, и меня вынуждали каждый раз заново переживать мою смерть, и всякий раз я думал, что ужасней не будет, ужасней, чем здесь, в Уджиджи, в цели нашего пути, так думал я тогда. Но вы сами знаете, если человек дает своей жизни достаточно времени, то она преподносит ему что-то еще более ужасное, так я на втором путешествии попал в место более жестокое, чем Уджиджи. Всякий раз встречая караван рабов, в Зунгомеро, в Кифукуру, в Казехе, в Уджиджи или в Гондокоро, я снова умирал моей первой смертью. И верьте мне, повторяющаяся смерть – это не более легкая смерть. Вазунгу, которых я сопровождал, называли себя первооткрыватели, но настоящими первооткрывателями тех земель были работорговцы. Везде, куда бы мы ни приходили, везде они уже побывали. Деревни были если не сожжены, то разорены, если работорговцы не гнали своих жертв по земле, то нагружали ими лодки, набивали битком так, что половиной приходилось жертвовать, это было хонго, которое они платили смерти. Работорговцы на первом озере были самыми подлыми из подлых, это были пожиратели людей, и к стыду своему я повстречал их опять, на обеих больших реках, на реке, которую они называли Нил, и на реке, которую они называли Конго. Из Уджиджи рабов гнали через всю страну, до Багамойо, а на Ниле их переправляли вниз по реке на север, в место под названием Хартум, которое я должен был увидеть собственными глазами, на втором путешествии, а оттуда – дальше, в город под названием Каир, который мне тоже пришлось увидеть, а оттуда – во все части света. Эти пожиратели людей, эти торговцы смертью, они приходили, когда дул попутный ветер, гнавший множество их лодок с севера на юг, проклятый ветер, который был на их стороне и соединял их с охотниками, с бандами, поселившимися в лагерях по берегам Нила, и в месяцы, пока ветер не был на их стороне, эти банды охотились, они собирали добычу в лагерях, окруженных кольями, на берегу большой реки, там они держали жертв, чтобы отправить их по реке на север. Если они не могли найти людей, если жители прятались, если вожди деревень не соглашались продать пленных врагов или опальных соплеменников, то угоняли весь скот и шантажировали деревенских старейшин, предлагая им обменять рабов на скот или умереть от голода. Старейшины были вынуждены призывать их к набегам на соседние деревни. Так они разбойничали, а когда проклятый ветер приходил к ним на помощь, то огороженные лагеря в месте под названием Гондокоро наполнялись людьми, уже испытавшими свою первую смерть. Если есть на земле место, внушающее мне страх, страх, который мучает меня днем и преследует ночью, то это место под названием Гондокоро, не знающее ни жалости, ни милосердия. Единственными женщинами там были больные женщины, которые продавали свои тела, изношенные губки, которые впитывали в себя мужскую похоть. В Гондокоро не было иных детей, кроме детей в неволе. Гондокоро был местом смерти для всех. Для жителей страны и для пришельцев, для мусульман и для христиан. Даже лимонные деревья в Гондокоро умерли. Они стояли двумя рядами, посаженные людьми с крестом на груди из страны немцев – те построили дом для своего Бога, посадили деревья на благо всем, устроили кладбище…
– Кладбище! Сумасшедшие.
– Горстка их тесно лежала в могилах позади лимонного сада. Они не смогли убедить в своей вере ни единого человека. Все построенное ими опять разрушилось, и в Гондокоро не было ни одного человека, кто обратился бы к кресту, зато бесчисленное количество попало во власть алкоголя.
– Ни единого христианина? Сами видите, как слаба эта вера.
– Может, слаба вера людей с крестом на груди, а может, люди были довольны верой своих предков.
– Просто до них не дошла еще истинная вера.
– Она дошла до них, истинная вера, она сидела в сердцах работорговцев, пожирателей людей, ее принес тот же ветер, и она молчала, когда они воровали чужие жизни. Она была как отец, принимающий злодейства сына, потому что это его сын. Что за цена у справедливости, которая не действует так же – нет, которая не действует в первую очередь в собственной семье? Наши братья в исламе, они были хуже дьявола. Они были свирепы, и если какая-то деревня сопротивлялась их набегам, если она сражалась с ними и была побеждена, потому что у них были винтовки, которые возвещают смерть быстрее любого копья, если страна становилась беспокойной и их дела оказывались под угрозой, тогда они брали пленных, много пленных, крепко связывали им руки и ноги, но нет, не чтобы их продать, а сгоняли их на скалу, на скалу над водопадом, где пленники падали в реку, и ужасным было, даже если бы людей убивали скалы, если бы они тонули, но в этой реке кишели крокодилы, и они разрывали людей, едва те оказывались в воде, истощенные люди, легкая добыча, и весть об этом разносилась по всему краю, как нашествие саранчи. А если работорговцы убивали человека в сражении, то отрезали ему руки, чтобы украсть его медные браслеты. Трупы бросали кучей подальше от их лагеря, и уже на следующее утро оставались лишь кости.








