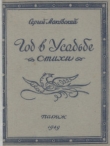Текст книги "Собрание соч.: В 2 т. Т .2. : Стихотворения 1985-1995. Воспоминания. Статьи.Письма."
Автор книги: Игорь Чиннов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Да, он не всегда принимал возражения, и все-таки с ним было очень легко говорить. Он был гораздо веселей и шутливей в разговорах, чем можно предположить по его писаниям, веселей, особенно с теми, кого причислял к способным понимать оттенки. Грусть, которой, конечно, было много в его душе, он скрывал от всех. Бесед «по душам» не любил, как и «трагических» разговоров о смысле жизни. Предпочитал, чтобы ум собеседника проявлялся в болтовне о пустяках. Стихи свои читал редко и как бы стесняясь, тоном очень обыденным и сдержанным, с еле заметным дребезжанием как бы за строками – и не забыть, как прочел он однажды одно из самых прекрасных своих стихотворений:
Там, где-нибудь, когда-нибудь,
У склона гор, на берегу реки,
Или за дребезжащею телегой,
Бредя привычно под косым дождем,
Под низким, белым, бесконечным небом,
Иль много позже, много, много дальше,
Не знаю что, не понимаю как,
Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно…
Он прочел если и с каким-то волнением, то все-таки стараясь его скрыть, как бы уверяя собеседника, что ничего ему не навязывает. Ничего не навязывающим тоном он и говорил, словно намекая голосом, что предоставляет слушателю полную свободу. И все же предпочитал, когда собеседник с ним соглашался… И все-таки на этих страницах я ему иногда возражаю…
Может быть, скажут, что еще не время для «споров» с покойным. Не знаю. У открытого гроба, конечно, не спорят. Но несколько месяцев спустя, думается, пора раскрыть полнее облик покойного и оценить, хоть приблизительно, им написанное. И это требует разговора и том, что в наследии Адамовича спорно. Я надеюсь, статья эта, при всей ее недостаточности, не вызовет обвинений в неуважении к писателю, памяти которого мне сейчас снова хочется низко поклониться. Однако всего нужней не поклон, а показ (хотя бы и не в полный рост), ибо кое-кто предпочитает, чтобы Адамовича не показывали.
Странное дело: дня через два после кончины Г.В., еще не зная о ней, я вдруг мысленно его увидел, даже услышал. Это было в Остине, Техас, на Международном фестивале поэзии. Был перерыв, полчаса уединения, я думал о том, как изменилась жизнь с тех пор, когда в Париже мы, несколько поэтов, еще продолжали как-то «парижскую ноту». Уже почти никого из участников этой «ноты» нет в живых, нет молодых на смену, и я уже не «сравнительно еще молодой», как назвал меня Адамович в «Комментариях». Захотелось об этой «ноте» сказать что-то прощально-благодарное, сказать, что в чем-то все еще остаюсь верен ей, – и пришли на память те адамовичевские строки, с отзвуком знаменитого «декадентского» брюсовского стихотворения, в которых говорит Г.В. о своей верности покинутому им «декадентству»:
Ничего не забываю,
Ничего не предаю…
Тень несозданных созданий
По наследию храню.
Как иголкой в сердце, снова
Голос вещий услыхать,
С полувзгляда, с полуслова
Друга в недруге узнать,
Будто там, за далью дымной,
Сорок, тридцать – сколько? – лет
Длится тот же слабый, зимний
Фиолетовый рассвет,
И как прежде, с прежней силой,
В той же звонкой тишине
Возникает призрак милый
На эмалевой стене.
Я прочел скорее мысленно, чем произнося, но все отчетливей вспоминая его интонацию, – и вдруг увидел его и услыхал с совершенной ясностью, будто не в воображении, а в двух шагах… Через час, на фестивале, я читал стихи, очень далекие от «парижской ноты». А вернувшись домой в Нашвилл, развернул «Русскую мысль» и – имя Адамовича в траурной рамке.
В тот самый день, когда он так отчетливо мне вспомнился, его хоронили. Да – как это сказано у него:
Ну, вот и кончено теперь. Конец.
Как в мелодраме, грубо и уныло.
А ведь из человеческих сердец
Таких, мне кажется, немного было.
Но что ему мерещилось? О чем
Он вспоминал, поверя сну пустому?
Как на большой дороге, под дождем,
Под леденящим ветром, к дому, к дому.
Ну, вот и дома. Узнаешь? Конец.
Все ясно. Остановка, окончанье.
А ведь из человеческих сердец…
И это обманувшее сиянье!
Обманувшее? Но хочется верить, что ширится над ним сиянье, которое не обманывает.
ПАМЯТИ ИВАСКА
Вот мы и похоронили нашего Юрия Павловича. Пасмурным северным полднем 16 февраля на заснеженном старинном кладбище университетского городка Амхерст в Новой Англии десятки друзей предали американской земле прах русского интеллектуала. Простились с писателем, чье эстонское имя Иваск вписано в русскую литературу давно. Простились с поэтом, чьи своеобразнейшие стихи узнавались без авторской подписи. Простились с критиком на редкость проницательным, чутким, понимающим, автором множества статей, рецензий, отзывов, заметок. Мы простились с выдающимся эссеистом, занимательным мемуаристом. Простились с крупным ученым, доктором славного Гарвардского университета, свое звание заслуженного профессора получившим воистину по заслугам. Простились с тонким знатоком живописи, архитектуры. Простились с человеком необыкновенно начитанным, человеком глубокой, подлинной культуры.
Юрий Иваск жил стихами, жил литературой. Историю человеческой культуры он не просто усваивал, как иные «образованцы». Нет, она была для него живой и волнующей. С волнением читал он великие книги, с волнением всматривался в великие картины,великие памятники человеческого творчества. Для него были своими слова Вячеслава Иванова о том, что культура есть «лестница Иакова и иерархия благоговений».
Ему был дан великий дар благоговения. Марк Алданов с завистливым одобрением писал, что в китайском языке, только в нем, есть слово, означающее «способность уважения вообще». Вот этой способностью уважения, вернейшим признаком душевного благородства, был в полной мере наделен Юрий Иваск.
Душевное благородство, благородство высокого духа – вот ключ к пониманию Иваска. Недаром ценили его, принимали его в свой высокий сонм великие старики русской эмигрантской литературы. Недаром привязались к нему и многие молодые, например, такой значительный человек, как Дмитрий Бобышев, один из любимых учеников Ахматовой, и еще несколько столь же ценных людей в России.
И юношей высокий сонм
Меня, как боевое знамя,
Подымет ввысь —
мечтал он полвека назад.
Могут подумать, что Юрий Иваск был самовлюбленным Ничего подобного. Конечно, он знал себе цену, – но высокомерие, надменность ему были чужды. Как чужда была и всякая пошлость, обывательщина, всякая низость. Всю жизнь был он устремлен к высокому – но никогда своей врожденной элитарностью не кичился.
Мне выпало счастье дружить с ним почти полвека. Дружба наша началась с его письма мне, отклика на мою статью и стихи в парижском журнале «Числа». Вдруг пришли четыре листа канцелярской бумаги, полные замечаний, сумбурных, но интереснейших. Вскоре он приехал ко мне. Бродя по Рижскому взморью, мы толковали часами – об этом вспоминает он в своей поэме «Играющий человек». Затем и я поехал к нему в Эстонию – и две недели мы с ним врсхищались Печорами, Псково-Печорским монастырем с дивной церковью Николы Ратного, которую он сразу и «воспел». Восхищались бревенчатыми избами, а в русских деревнях Кулиске и Городище слушали песни баб в сарафанах и повойниках. Юрий Иваск, потомок московских купцов Фроловых и Живаго, свою долю эстонской и немецкой крови чувствовал мало: был и остался русским патриотом, что не мешало ему пленяться великим нерусским.
Вторая наша совместная поездка состоялась через много лет – по Мексике. Волновали Иваска мексиканские древности – архитектура, скульптура олмеков, запотеков, толтеков, ацтеков! А в храмах испанских колонизаторов нередко он ложился навзничь, чтобы заснять витающую в облаках Пречистую Деву и пухленьких ангелочков. Частенько шли мы на мексиканский рынок, пестрый, шумный, забавный, – и Юра опять восхищался, смеялся, волновался. Свои мексиканские «впечатленья бытия» превосходно описал он в на редкость живых, увлеченных и увлекательных стихах.
Дважды приезжали мы в Рим, о котором написал он прекрасные стихи: стихи о Риме не парадном, а скорее плебейском, но полном живой истории. От Неаполя Юра тоже был в восторге. По разным достопримечательностям носился он в Италии длинноногим страусом. Я, коротконогий, в изнеможении кричал: «Да подожди ты, куда тебя несет?!» Он отвечал: «Я волнуюсь».
Живопись понимал он, как заправский искусствовед. Из людей мне известных только наш общий старший друг Владимир Васильевич Вейдле да еще Б.А.Филиппов и о. Фотиев, ученик Вейдле, могли с ним соперничать в осведомленности и понимании. Незабвенная Ольга Ивановна Шор, друг Вячеслава Иванова, великий знаток Римских древностей, прониклась почтением к Юрию Павловичу за основательность его познаний.
«Патентов на благородство» было у Юрия Иваска сколько угодно. Его принял в свое сердце не очень-то добрый умница Георгий Петрович Федотов. Ему писала требовательная Цветаева. Георгий Адамович, непререкаемый авторитет для поэтов, допустил его в свой очень немногим доступный круг и даже мирился с его преклонением перед Цветаевой, злейшей врагиней Георгия Викторовича. (Боюсь, меня Адамович, при всем дружеском отношении ко мне, за любовь к Марине Ивановне оттолкнул бы.) Владимир Владимирович Вейдле, весьма разборчивый в выборе собеседников, считал Юрия «милым другом».
По «гуманитарной части» Юрий Иваск знал необыкновенно много. Знал без педантства. Никакой сухости ученого, сухости книжника в нем не было.
Он был православный христианин. Но православием не хотел ограничиться: мечтал о вселенской церкви. Как Соловьев и Вячеслав Иванов, тянулся к католичеству. Папу Иоанна Павла Второго приветствовал стихотворением: «Понтификата обновленья чаю». И очень огорчался, видя, что новый Папа – реакционер и никакого обновления его понтификат не принесет.
В Римской церкви его привлекала и древность ее корней, тесная связь с почти двухтысячелетним творчеством человечества, и шаловливые святые юноши Костка и Гонзага, и св. Франциск с его цветочками – фиоретти, – и Дева Мария, и маленькая Тереза, которой молились Мережковские. Но всего прочней была связь Юрия Иваска с русским православием. Часто повторял он строки своего любимого Осипа Мандельштама о московских соборах, и особенно дивные стихи о Евхаристии:
И Евхаристия, как вечный полдень, длится –
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.
Эту строфу, самую православную в русской поэзии, по словам нашего общего друга о. Александра Шмемана, Юрий читал с дрожью в голосе.
Многое еще можно сказать об Иваске. Он был работяга – работник на ниве Господней. Он очень много написал – и большая доля написанного им вошла в великий фонд русской литературы. В ней останется жить писатель и поэт Юрий Иваск. А как человек будет он жив в нашей памяти: высокий, сутулый, белесый и читающий стихи как никто другой. Для тех, кто имел счастье его знать, он будет жить и как человек, чистый сердцем. Он именно был одним из тех, о ком любимый им Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем яко они Бога узрят». Хочется верить, что раб Божий Георгий, раб не ленивый и не лукавый, узрит Бога, узрит Христа, Которого он так живо чувствовал, Чье присутствие он так сильно, так бесспорно ощущал.
ПАМЯТИ АРХИПАСТЫРЯ И ПОЭТА
И высится мелодия простая,
Из крыльев соловьиных вырастая.
Эти строки – из стихотворения князя Дмитрия Шаховского, позднее ставшего владыкой Иоанном и Странником. Могут сказать, что соловьиное пение – не простое. Да, но будущий Странник не искал «верности натуре». В своем последнем сборнике «Удивительная земля» (1983), после многих лет, проведенных на юге, приехав в зимнюю Швейцарию, он пишет:
Я отвык от всех снежинок;
Странен танец их земной.
Словно ходит белый инок
Предо мной и надо мной.
Белый инок? Православное белое духовенство одето в черное. Но владыка не стремился к «отражению действительности».
Архиепископ, пишущий стихи, это редкость, и хотя его поэзия была гимном Творцу и красоте Божьего мира, кое-кто его корил за «приверженность мирской суете». Между тем его творчество предельно аскетично. В одном из последних писем ко мне он писал: «Мне от поэзии теперь не нужно ничего, кроме простоты».
Только раз я видел его молодого. В нем была одухотворенность, внешнее и внутреннее изящество. Он был явлением эстетического порядка.
Бунин, сам безмерно гордившийся своей родовитостью, как-то написал, что титулованные люди всю жизнь не могут привыкнуть к своей титулованности. Мне случалось встречаться с князьями и графами. Кое-кто из них лелеял свою знатность, кое-кто – нет. Знаю, что злопыхатели осуждали владыку Иоанна за сохранение мирского имени. А каждый ли поступил бы иначе, будь он князем Шаховским? Владыка сильно чувствовал свою преемственность. Среди его предков многие оставили след в русской истории, не только «колкий» Шаховской, упомянутый Пушкиным.
« Веселое имя Пушкина», – сказал Блок. Светлое имя, скажем мы. Думается, юный князь Шаховской, учась Александровском лицее, бродил по следам «смуглого отрока», бормотал пушкинские строки «весной в таинственных долинах». Дух светлой, доброй пушкинской ясности чувствуется, решаюсь сказать, в поэзии Странника.
За границей, окончив Лувенский университет, молодой князь стал издавать журнал «Благонамеренный» – по имени журнала, издававшегося в пушкинское время «колким» Шаховским. Зоилы не преминули осудить его за снобизм, но журнал-то был превосходный, с широко представленной в нем Цветаевой, с Ремизовым, которого другие журналы печатали редко и «стиснув зубы».
У будущего владыки Иоанна было качество, не часто, увы, встречающееся среди русского духовенства: это был интеллектуал. Помню двух таких. Одним был покойный о. Александру Шмеман, с которым мы бродили по Булонскому лесу; он выслушивал мое новое стихотворение и провожал до русской гимназии, где я пытался обучать молодежь немецкому языку. А второй здравствует: это о. Кирилл Фотиев, с которым мы вели беседы о высоких материях в летних лагерях Русского Студенческого Христианского Движения. Да, есть еще митрополит Антоний Блум, лондонский экзарх Московского патриарха, бывший парижский врач, человек большой духовности, автор богословских книг высокого уровня.
Так вот, владыка Иоанн тоже был интеллектуалом. Но немалый свой культурный багаж он не выпячивал, и его беседы по «Голосу Америки» были понятными, доходчивыми, как и его стихи. Кое-какие из его стихов запомнились. Вот одно, написанное в Висбадене:
Нам жалко нерасслышанной весны –
Нерусская, она бывает краткой,
Придет нежданно и уйдет украдкой,
Но ею мы теперь побеждены
И арестованы ее порядком.
Мелькнет она среди цветущих трав,
Останутся одни желтофиоли,
И нет уже привычной этой боли,
И солнце на большом своем престоле
Уже молчит, всю истину сказав.
Так мы весну теряем каждый раз.
Едва придя, она уже ухолит,
И мы не знаем, где она сейчас,
В каких краях она, в каком народе.
Она, быть может, не забудет нас.
Очень своеобразно вот это стихотворение Странника:
В струенье света, зарожденье линий
Играл с огнем проснувшийся Адам,
И разливалось по земным садам
Нетленное сияние глициний.
Средь молний белых жимолость пылала,
И небо загоралось на горах.
Мы познаем в огне свое начало,
Творец увидел нас, как райский прах,
И сотворил небесное свеченье,
Средь первых пчел в недремлющих садах.
Так было человекосотворенье.
Вот еще характерные для него строки:
Не удержать земле любви нездешней,
Уходит в небо первая роса,
И у сиянья розовых черешен
Качает лепестки свои оса.
Неслышно даже шепотов. И блики
Свое сиянье прячут, но о нем
Над белыми цветами земляники
Мне солнце говорит своим огнем.
Две крупных вещи Странника, помнится, вызвали некоторое несогласие. Это, прежде всего, поэма «Упразднение месяца». Под месяцем автор разумел Октябрь, Октябрьскую революцию. Что последствия этого «месяца» не упразднены, он понимал, но в поэме речь шла о том, что в сознании многих людей идеология «Октября» постепенно упразднилась.
Вторым спорным произведением показалась «Поэма о русской любви». В сущности, она была новой редакцией «Упразднения месяца». Кое-кто из критиков осудил название. «Русская любовь» означала любовь автора к России – всего лишь частный случай, подумали многие.
Что еще сказать о владыке Иоанне человек? Он был на редкость привлекательным, добрым – и очень далеким от всякой узости. По контрасту вспоминаются два иерарха-аристократа, профессора Богословского института в Париже: сын министра Безобразова, и архимандрит Киприан Керн, из пушкинских Кернов. В них чувствовался педантизм, формализм. А владыка Иоанн был щедро наделен редкостным даром харизмы. Грустно, что протянутая им рука порой не замечалась или отвергалась. Но владыка, конечно, прощал невоспитанность «другого круга». А людей нашего круга в эмигрантской литературе с его уходом почти не осталось.
Одним из последних был Дмитрий Кленовский, переписку, с которым владыка издал отдельной книгой. И здесь хочется сказать несколько слов очень личных. На стр. 218 архиепископ Иоанн приводит такое высказывание Кленовского: «Стихи Ч. в № 90 "Н.Ж." огорчили меня очень… Поистине, нужна молитва о поэтах! Кому как не Вам ее составить и читать! А ведь началось все с надуманности и жеманства – и вот как малый грех постепенно привел к большому! А когда-то поэт хорошо писал о стране, "где даже одуванчик сохранится" о пуле-желуде и – "острый угол подушки, как больное крыло"».
И вот как владыка это осуждение старается смягчить: «Сетование на поэта может быть высшей любовью к нему и к его поэзии. Особенно, если это подлинный поэт, как в данном случае». Трогательно написано, хотя любовь Кленовского к Чиннову проявилась несколько своеобразно. Еще своеобразней она обнаружилась во отзыве Кленовского о вечере в Париже, на котором я, по его словам, читал «антипоэзию», «дьявольские» (?), «богохульные» (?) стихи, а виднейшие критики меня хвалили.
Как хорошо ответил владыка на это странное обвинение: «Вы зря смущаетесь (и даже несколько возмущаетесь) вечером, устроенным И.Ч-у. Пусть поэтам устраивают вечера, и чтения, и разбор их творчества, и в похвалу им говорят речи. Ведь поэзия этим все же чтится. А вкусы у людей разные… Пусть подумают люди, задумаются о Поэзии, потормошатся ею. Это не плохо, это хорошо. Это и честь языку… Ведь мы скудны поэтами… Нет, просто хорошо, что еще устаивают “вечера поэтов” с чтением стихов и похвальными словами критиков. Пусть поэты к поэтам будут добры – слишком много в среде артистов, и литераторов, и поэтов бывает ревности, зависти, пристрастия, нетерпимости. Не последишь, в душе нашей легко зарождается, может быть, совсем тонкое и малозаметное, но ненужное чувство».
С каким тактом владыка и на мою обиду, и на чужое недоброжелательство «лил примирительный елей». В этом еще раз проявилось его доброе сердце.
И еще одному поэту досталось от Д.И.Кленовского – Анне Ахматовой. Вот что он писал владыке Иоанну летом 1965 года: «Вы, конечно, помните, что во время войны и некое время после нее Ахматова в своих стихах славословила Сталина и советский строй. В эмиграции отнеслись к этому на редкость терпимо и с подлинным великодушием, объясняя происшедшее тем, что Ахматова хотела таким способом облегчить участь арестованного сына. Возможно, что такое предположение было правильным, но сам сын Ахматовой, по-видимому, воспринял это иначе, тем более, что в предисловии к вышедшему в СССР несколько лет тому назад сборнику своих стихов Ахматова, повествуя о своей жизни, ни единым словом не обмолвилась о его отце, то есть о Гумилеве…
…Надо сказать, что у меня к Ахматовой отношение не вполне благополучное. Ее славословий Сталину и советским порядкам я все-таки с ее "текущего счета" сбросить не могу… Мне очень несимпатично в Ахм<атовой> то, сколь она кичится тем, что она осталась в СССР, не "бросила своего народа", "ни единого удара не отстранила от себя" и т.д. Я уверен, что Ахм<атова> осталась в СССР жить случайно, как остались и многие другие, ибо никто не знал еще тогда, как все обернется и как умнее поступить. Но никто из оставшихся этим не кичился и не кичится, как это делает Ахматова, которая втайне теперь, может быть, даже и жалеет, что осталась».
Что мог бы ответить Кленовскому владыка Иоанн? Он мог бы напомнить ему о грубой ругани Жданова. Об обреченности на долгую немоту. Об одиночестве, о бедности. О том, что и неупоминание имени расстрелянного Гумилева, и отсутствие «религиозного словаря» в сборнике были ценой, которую Ахматовой пришлось заплатить за его появление, – неужели это непонятно? И нежели не ясно, что стихи в честь Сталина
мог бы владыка Иоанн ответить строгому судье, что резкие слова Анны Андреевны об эмигрантах были вызваны трудной ее жизнью, потребностью в самоутешении, в том, что Фрейд назвал восполнением. А главное, Странник мог бы воскресить в памяти Дмитрия
Иосифовича (столь часто писавшего об ангелах, но ангельской добротой не наделенного, как не была ею наделена и Ахматова), – мог бы Странник напомнить ему заповедь Христову: «Не судите, да не судимы будете».
Владыка Иоанн ответил своему корреспонденту мягко, с присущим ему тактом: «Получил Ваше удобоубедительное пояснение конфликта А.Ахматовой и сына. В этом есть какая-то почти гомеровская эпичность и почти эсхилова трагедийность. Ведь А.Ахматова, вероятно, на 75% или 90% ради него (чтоб смягчить гнев властей против него) покадила тиранам и наивно погордилась, что не убежала, куда глаза глядят. Он должен был бы это учесть… Страдание не должно ожесточать; оно должно смягчать сердца… Все эти "паровозы" стихотворные, без коих не могут идти в печать "вагоны' стихов, это же все обычное, рутинное дело в Советском Союзе.
Может быть, Ахматова и могла бы лично обойтись без этого; но если даже и погрешила тут, не дотерпев до сроков (Марина Цветаева более остро недотерпела в те дни!), то – кто может бросить в нее камень? Она от Христа Господа по малодушию не отреклась (как это сделал даже апостол Петр), а лишь пошла за российской своей телегой, среди грязи волочившейся по раскисшему большаку… "Мученики" могут быть психологически жестоки вследствие "чистоты" своей. Но гордость и немилосердие к людям, "не таким, как они, сильным и несгибаемым", могут погубить нравственно всю честь и славу подлинного мученичества».
Только в последних трех строках намекнул Странник на «гордость и немилосердие» адресата. И тут же он смягчает упрек вот этим стихотворным откликом на сборник Кленовского «Разрозненная тайна»:
Пчела разрозненную тайну
Сквозь парк светлеющий несет.
И кажется необычайным
Ее танцующий полет.
Свои невиданные знаки
Она по воздуху чертит.
Их может рассмотреть не всякий,
А только тот мудрец-пиит,
Что, облегченный каждым годом
И всем дыханием своим,
Идет сквозь этот парк за медом
И за восходом золотым.
Есть в последнем сборнике стихов Странника совершенно замечательное стихотворение «Прощение женщины», посвященное Саломее, дочери царя Ирода. Она страстно влюбилась в Иоканаана, Иоанна Предтечу, но суровый аскет отверг ее домогательства. На пиру она так плясала перед царем, что восхищенный Ирод пообещал исполнить любое ее желание. Саломея потребовала голову Иоканаана – и получила ее на блюде. Кое-кто, вероятно, помнит постановку «Саломеи» О.Уайльда Таировым в Камерном театре с А.Коонен в роли отвергнутой мстительницы. А вот как пишет о Саломее Странник:
Пред Тобой стояла Саломея,
Обвинители ее ушли.
Друг за другом отошли, робея,
Бедные сыны Твоей земли.
И осталась женщина немая,
Миром удивленная душа,
Что ждала любви, ее не зная,
Не прося, не веря, не дыша.
К ней сошло прощения безмолвье.
Небо солнцем застелило высь,
И чрез все столетья в Подмосковье
Солнечные дымы пролились.
У дорог Твоих больших и знойных
Все приходит эта благодать
К женщинам святым и недостойным
И молчать, и плакать, и страдать.
И все сходит с неба эта притча
О спасенье женщины, о том
Как, не зная рая, Беатриче
В рай вошла звездою со Христом.
Какое всепрощение, какая доброта! И на этот раз не изменили архипастырю его человечность, его сердце.
О владыке Иоанне – Страннике можно было бы сказать еще много. Но сейчас хочется просто повторить о нем его слова из «Продолжения лирики»:
«Скончавшегося – начавшегося прими, Господи,
в Свою жизнь».