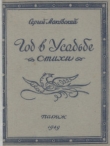Текст книги "Собрание соч.: В 2 т. Т .2. : Стихотворения 1985-1995. Воспоминания. Статьи.Письма."
Автор книги: Игорь Чиннов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Игорь Чиннов
Собрание сочинений: В 2 т. Т .2. : Стихотворения 1985-1995. Воспоминания. Статьи.Письма.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
О себе
Родился я давно – в 1909 году, 25 сентября, в Туккуме в семье юриста. Туккума не помню, но ясно вижу городки, балтийские, в которых случилось жить: уютнейшую Митаву (ныне Елгава) – «Покойся, мирная Митава», – писал Мих. Кузмин. И Юрьев, теперешний Тарту, с университетом «дней Александровых» и готическими руинами на горе, аккуратнейший, тихий городок. Позже была Рязань, с незабываемой зимой, блистающим снегом, розвальнями, бубенцами и внезапной весной, могучим ледоходом на Трубеже, свежестью воздуха прямо-таки прекрасной. А в Риге помню запах свежесрубленных елок, снежинки – и извозчиков в синих кафтанах, синие полости саней… На санях, увы, кататься не приходилось: денег не было.
В Риге окончил я Ломоносовскую гимназию, Латвийский университет: магистр юридических наук. А зарабатывать на жизнь стал поздно, долгие годы предпочитал бедность и досуг. И стихи – чужие, но и свои. Первая служба – в ТАСС, в латвийском его отделе ЛТА (Лета). Затем – фармацевтическая фирма Мэдфро (MEDFRO), откуда меня и угнали на работу в Германию, в Рейнскую область. Месяцев десять весьма безрадостных, хотя с возможностью читать (конечно, только немецкие книги, но включая Шиллера и Гете). И вдруг – освобождение, и американцы берут всех желающих насельников лагеря во Францию! Месяцы праздной жизни – Люневиль, Нанси, Реймс – и наконец я в Париже.
Тут помогла мне начавшаяся в Риге «литературная деятельность»: не «Мансарда», где напечатал я две статьи, и, конечно, не «Daugava» (статья о русской поэзии), а сотрудничество в престижнейшем журнале «Числа». Георгий Иванов, приезжавший в Ригу с Ириной Одоевцевой, захотел взять у меня какие-то писания («Это каша. Но это творческая каша») – и, начиная с 6-й книги «Чисел» по 10-ю, я там и представлял, единолично, «русскую литературную Ригу».
В Париже было безденежно, но прекрасно. В Париже было безденежно, но прекрасно. Я любовался, восхищался городом, наслаждался встречами с русской литературой. Чудеса! Уже через три недели по приезде я читал свое стихотворение (написанное за ночь перед тем) на вечере памяти Пушкина в русской консерватории, под портретами Шаляпина и Рахманинова. Сидели за столом Бунин, великолепный, Ремизов, хитрющий умница, затем Сергей Маковский, редактор знаменитого «Аполлона» очень «Ваше превосходительство», – и друзья и ученики Гумилева Георгий Адамович, Георгий Иванов – почти весь синклит! А в зале был литературный и художественный русский Париж…
Я слушал Адамовича (какой оратор!), Маклакова. Когда освоил французский, бывал в Сорбонне – академики говорили восхитительно. А на сходках русских поэтов мы читали стихи – очень часто это были стихи о России.
Да, все было, кроме денег. И пришлось мне уехать на заработки – в Германию.
Там тоже нашлись русские литераторы: Федор Степун, профессор, при Гитлере лишенный кафедры, Владимир Васильевич Вейдле, петербуржец, несший гроб Блока, писатель французский и немецкий, автор шести русских книг, для которого я скоро стал «милым другом», Гайто Газданов, автор повести «Вечер у Клер», Леонид Ржевский, москвич. Я почти прижился – и вдруг приглашение в США! Канзасский университет зовет меня на кафедру русской литературы: хочу ли я стать associated professor (Штатным профессором, англ.). За литературные заслуги, вот какие дела!
И я оказываюсь в центре страны Среднего Запада, в Лоренсе. Университет большой, видный, городок маленький – но это бывает. На второй день иду в магазинчик: по радио передают «Подмосковные вечера»! Сколько раз потом мои милые студенты пели и эти «Вечера», и «Катюшу», и «Сулико».
В Канзасском университете я пробыл шесть лет, потом был Питтсбург, затем Вандербилт в Нашвилле. А со стихами и лекциями побывал в сорока университетах, на двадцати съездах славистов – и т.д., и т.д.
Охотно бы и дальше читал студентам о Пушкине, Гоголе, Чехове – но подошел пенсионный возраст, кончал базар, и из любви к теплому климату переселился во Флориду. Брожу по пляжу, он вроде Рижского взморья, Юрмалы, бормочу русские стихи. Американцем не стал, просто живу здесь, а на вопрос, почему здесь, отвечаю, как чеховский татарчонок: превратность судьбы!
Мое писательство: долго писал красиво-бледные стихи, очень отжатые и сжатые со самом главном», лучшие слова в лучшем порядке, по завету Кольриджа. Никаких поэтизмов, ни одной инверсии родительного падежа (это и теперь так). Мелодичность при полной естественности. Затем изящную бледность сменила многокрасочность, яркость, пышная образность, метафоры, орнаментальность, оркестровка, роскошества: цветы, сады, дворцы, увиденные в разных странах. Но красоты уравновешивал гротесками, черным юмором; эстетство, в котором винюсь, бывало «не без иронии порой».
Темы? Банальнейшие: о прелести и краткости жизни. Ни одной новой мысли. Искателям идей моя поэзия ни к чему. Но кто ищет «только стихов виноградное мясо», по слову Мандельштама, тот, может быть, в ней кое-что найдет.
СТИХОТВОРЕНИЯ 1985-1995
* * *
К человечеству с прощальным словом
Обратиться бы… Да лень.
Вот в лесу осиново-сосновом
Проплывает светотень.
Облака легки, светло-воздушны
(Да, но в семь совсем темно).
Люди были, в общем, равнодушны.
Я не плачу: все равно.
Да и что скажу я им, скажите?
Замечтаюсь, замолчу.
Вот жучок, лесной подлунный житель,
Пробирается к лучу.
Хлопотуньи белка или птица
Корм искать обречены.
Лучше у медведя научиться:
Завалиться до весны.
Люди… В общем, милых было мало.
(Я и сам не очень мил.)
Посмотри, как даль затрепетала,
Свет за тучей просквозил.
О дожде прохладном, о негромком
Громе… Воздух – благодать.
Современникам или потомкам
Я не знаю, что сказать.
* * *
Я побывал у начала Сахары,
Видел пустыни в Перу, в Аризоне.
Видел ночные лесные пожары,
Страшную лаву в горящем вулкане.
Что же – потом ? Побываю, нестарый,
На Орионе, на Альдебаране?
Да? Навещу и Плеяды-Стожары,
И Геспериды? Я полон мечтаний.
Нет, я шучу. Уж куда там и где там…
Нет, по одежке протягивать ножки.
Ты улыбнулась: не будет одежки,
В небе придется гулять неодетым.
Ну а пока предосеннее поле,
Сено сухое, начало заката.
Скоро совсем не почувствую боли.
Здравствуй, Разлука! И здравствуй, Утрата!
* * *
Вы говорите, что пора кончать,
Но я не думаю, что надо.
Я собираюсь описать опять
Туманное молчанье сада.
Я думаю запечатлеть навек,
Как ветка яблони нагнулась,
Как листопад шуршал, как выпал первый снег,
Как вереница потянулась
На юг. Я расскажу, как черные кусты
Туманно побелели за ночь,
Как было в мире много немоты,
И холода, и обнищанья,
И как зеленоватой желтизной
Край неба медленно покрылся,
И на прощанье радостью земной
Я с кем не знаю поделился.
* * *
Голубой гуманоид
У постели сидит.
Злые рожицы строит
Иноземный гибрид.
Металлический череп,
Синеватая плоть.
Шизофреник, истерик,
Любит в вену колоть.
Он детей угощает
Героином во сне
И помочь обещает
Людям в звездной войне.
Скоро может быть поздно,
А пока – благодать:
Там, где сине и звездно,
Нас готовы принять.
Но ленивое тело
Видит нежные сны.
И какое мне дело,
Друг, до звездной войны?
* * *
Маленький, пленный и тленный,
Тихо живу во Вселенной.
Тихо доносится с поля:
Где ты, свободная воля?
Хочется белой березе
Быстро сбежать с косогора.
Белая лошадь в обозе
Хочет прилечь у забора.
Хочется тени от лодки
Летней порой оторваться.
Хочется ночи короткой
Долго еще продолжаться.
Хочется бабе сварливой
Стать молодой и счастливой.
Хочется мужу-злодею
Выиграть дом в лотерею.
Мы… Нам назначены роли?
Что-то решаем и сами!
В клетке подопытный кролик
Вольно прядает ушами!
* * *
Больше не с кем говорить,
Больше не о чем жалеть.
Нам вернут былую прыть,
Коль возьмут большую плеть.
Брось, уедем в Трапезунд,
Там не жарче, чем в аду.
Если там начнется бунт,
Переедем в Катманду.
Если выйдем из тюрьмы,
То рассказ напишем мы.
Если будет он сожжен,
То полезем на рожон.
Глянь на карту. Грустно, гру…
Сверху Темза, снизу – Нил.
Мне о русских кенгуру
Дядя книжку подарил.
В этой книжке снимков нет,
Неразборчива печать.
Мне с тобой, дружок-сосед,
Даже не о чем молчать.
* * *
«До основанья, а затем».
– Мы в мире всё переиначим! —
Переиначили? Отчасти.
(Был ветер жадным и горячим.)
И вы – верны своим задачам:
Бороться за людское счастье?
Боролись долго и натужно —
Петров, Рубинчик и Гонзалес
(И ветер был сухой и вьюжный), —
А людям-то совсем не нужно
Того, что счастьем вам казалось.
Вы огород нагородили:
Долой! Быть Петербургу пусту!
Расправимся! Не пожалеем! —
Вы успокоились в могиле?
(Стал ветер северным, Бореем.)
Да, огород нагородили!
Сажали лучше бы капусту,
Как мудрый муж[1]1
Цинциннат – в Древнем Риме государственный муж, враг тирана. Удалясь от дел, сажал капусту. – Примеч. И. Чиннова.
[Закрыть] в античном Риме.
Между пореем и морковью
Не докучали бы плебеям
Своими правдами кривыми,
Своей безжалостной любовью.
* * *
По аллее мы с Вами идем,
По аллее Летнего сада.
Ничего мне другого не надо:
Дом Искусств. Литераторов Дом…
Ирина Одоевцева
А поэты взяли да и вымерли,
Парижане русские, давно.
Только трое ждут Звезды-Погибели,
Смотрят в оснеженное окно.
За окном погода петербургская.
Не совсем, но можно помечтать.
А мечта поэта – самодурская:
Пушкин на мосту стоит опять!
Гумилев идет по снегу белому,
Ищет заблудившийся трамвай,
Тихо-тихо Блоку поседелому
Говорит: – Живи, не умирай.
Силуэт Георгия Иванова
На мосту парижском одинок.
Жаль поэта, мертвого, не пьяного.
Ночь долга, он смотрит на восток.
Ну и шутку выдумала душечка!
(Позавидовать? Не презирать?)
Женушка, Ириночка, кукушечка,
В Петербург вернулась умирать.
* * *
Всё бессмыслица, всё безделица.
Перетерпится, перемелется.
Гололедица да распутица,
Но над лужей роза распустится.
Все фантазии, все мечтания
В это утро зимнее, раннее.
Вот и Рим, Испанская лестница,
А на ней нагая наездница.
Ах, Годива[2]2
Злой муж леди Годивы обещал ей денег на бедных, если она проедет по городку нагая. Жители затворились, но один взглянул – и ослеп. – Примеч. И. Чиннова.
[Закрыть], леди прекрасная,
Вы для глаз ужасно опасная!
Белый конь, омела и жимолость,
Мне, Годивочка, нелегко жилось.
Все же встретил я Вас в Италии –
Небывалого небывалее!
Улыбнитесь мне благосклоннее,
Альбионного альбионнее!
Вот и день прошел. Пролетел, смотри,
И вернулись Вы в замок Ковентри.
Заблуждения, огорчения
Улетают в небо вечернее.
* * *
Борьба за несуществованье.
Название книги Бориса Божнева
Борьба за несуществование?
Ее выигрывают многие.
Недавно пьяная компания
Повесилась – совсем Ставрогины.
Всех ку-клукс-кланов ку-клукс-кланнее.
(Туманы осенью туманнее.)
Философ, увидав, как тонущий
Старался выбраться из проруби,
Сказал: «Не трать, Фома, здоровьичка»,
– Над черным льдом летали – голуби?
Снежинки? Чайки? Крик о помощи?
Философ шел по тонкой корочке —
Он умер на больничной коечке.
Фома «боролся за существование»,
Не несуществование. Течение
Реки Времен его несло и ранее,
Да, уносило в темное зияние,
В холодное, бесчувственное пение.
Не стоит, брат, – за несуществование.
* * *
В аду кромешном злюки злобствуют
(Мы улыбнулись равнодушно),
Льстецы и подлецы там рабствуют.
Темно, и холодно, и душно.
А кто в чистилище – раскаиваются.
Так огорчаются бессильно,
Всё вспоминают и расстраиваются,
Приносит ветер снег обильный.
А наверху, на райском облачке,
Два праведника почивают:
Врачи и сестры в райском облике
Наш теплый сон оберегают.
Увы и ах! Мы просыпаемся:
Загробный мир нам только снился.
Он не такой. Пора, прощаемся:
За нами проводник явился.
И лодочнику – привидению —
Мы дали медную монету,
Когда в обратном направлении
Переправлялись через Лету.
* * *
От унылых, от ворчливых
Собеседников,
От зоилов и тоскливых
Привередников
Улети на тихий остров
Одиночества,
Где ответов и вопросов
Не захочется.
Улети от серых, скушных,
Раздражительных
В край веселых и воздушных,
Небожительных.
Вдаль веселые умчатся,
Ты останешься.
Одиночество – и счастье,
И пристанище.
Тишина большого поля,
Солнце раннее.
Пушкин… Да! «Покой и воля».
И молчание.
* * *
Полночный лунный снегопад,
И воздух – колкий.
Нам оборотни говорят,
Что люди – волки:
Они друг другу перегрызть
Готовы горло.
Грызутся, злобные, всю жисть,
Глаза их – свёрла.
Беда: я мирный человек,
Куда мне деться?
Два волка, навалясь на снег,
Грызут младенца.
По снегу лунному бежит,
Чернея, стая,
В сиянии светло дрожит
Слюна, стекая.
А я – ночную тишину
Не беспокою?
Но я не вою на луну.
Почти не вою.
* * *
Грачи по вспаханному полю
Шагали и качались мерно.
Они червей наелись вволю
И думали, что жить – не скверно.
А под землей лежали урны,
Большие амфоры – и кости,
На вазах нимфы и сатурны,
Сатиры, козлища и грозди.
Венки, кентавры и вакханки
На черепках… И череп, череп!
След человеческой стоянки,
Река Времен, далекий берег.
Пусть откопают их! Ночами
В блаженно-эллинское небо
Гляди бессмертными очами,
Как прежде, мраморная Геба!
* * *
Архитектура дивного закона!
О совершенство, мощь и торжество!
Над головою купол Пантеона,
Могучее величие его.
О каменные сферы Птолемея!
На фоне далей, пиний, площадей
Сферические стены Колизея
В прекрасной соразмерности частей.
И колоннада круглая Бернини —
Гармония объемов и пустот, —
А в галереях нежные богини,
И круглый мрамор в воздухе плывет.
Я остаюсь в Италии. И – баста!
Осуждена безвинно красота.
И мед полупрозрачный алебастра:
Как будто вечность в мире разлита.
* * *
Царский, имперским «кредитный билет».
Бледно-оливковый, чуть розоватый.
Старый: билету за семьдесят лет.
Он полутысячный. Вот я богатый.
Только империи более нет.
В рыцарском панцире Петр Великий.
Крест на короне. Двуглавый орел.
Шар: золотая держава… Престол
Кажется прочным. «Коль славен», и клики
«Царствуй!». И ворог еще не пришел.
Я с пятисотенной сразу бы к Яру.
Пляшут цыганки и льется «Клико».
Красное небо – наверно, к пожару.
Пару гнедых! – И огнистую пару
Кучер стегает… костлявой рукой.
Кучер безносый, пустые глазницы,
Мертвенный холод имперской столицы.
Поздно, прощай кутежи!
Прямо на кладбище, мимо больницы,
Finis, тужи не тужи.
* * *
– Полно, русский, пей вино! –
Эх, чайку бы! прямо с блюдца!
Нам советуют давно
Закруглиться и загнуться.
Политические страсти
Не улягутся никак.
Дай-ка, друг, сюда на счастье
Ту селедочку. Вот так.
Да, «черна неправдой черной»!
Я «с меча сдуваю пыль».
Политической платформой
Разбужу степной ковыль.
Очень родину люблю!
И сейчас, напившись чаю,
Я к родному ковылю
Молодцом проковыляю.
А совсем перед концом,
Перед тем как возродиться,
Не мешает подкрепиться
Малосольным огурцом.
(«Сказка ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок».)
* * *
Примите сердечный привет
Рассвет и закат!
Пожалуй, бессмертия нет,
А есть – листопад.
Но листик, засохший, мечтал
О райском тепле,
О том, чтобы подал во мгле
Архангел сигнал.
Шумит широко водопад,
Милее – фонтан:
В края Гесперид и Плеяд
Фонтан устремлен.
Снежинки, не падайте вниз!
Попробуйте вверх!
Лети к облакам, кипарис,
Где свет не померк!
Где месяц под крик петухов
Висит? Наверху!
Соседка сварила уху
Из трех пастухов.
Сияет большая звезда
С обоих концов.
Забавно, что дети всегда
Моложе отцов.
Я завтра поеду в Ливан.
Мерси, я здоров.
Пишу детективный роман
Из жизни грибов.
* * *
А луна-то криворога,
А лунатик – молод, пьян.
Здравствуй, лунная дорога,
Голубой Афганистан!
Вот светает, золотеют
Горы в розовом огне.
Минарет напоминает
Сбитым боком о войне.
Здравствуй, Ваня или Вася,
Упадут в бою бойцы,
Красным кровушка окрасит
Голубые изразцы.
Мертвый мальчик в темных ранах.
Убиваясь, плачет мать.
На коврах темно-багряных
Русской крови не видать.
Капли алые на розе
Сохнут. Кто отдал концы?
Мальчика везут в обозе
Мусульманские бойцы.
Ждут у полевой больницы
Новгородец и казах.
Видят длинные ресницы
Смуглой девушки в слезах.
* * *
Нам говорили нежные японки
«Охайо!» или «Домо аригато!»,
Что значит «С добрым утром!» и «Спасибо!
И кланялись, надушенные тонко,
И в царстве хризантем и позолоты
Вели к столу: вкусить гиганта краба.
Сырая бледно-розовая рыба
Была вкусна. И пестрые салаты,
И сладкие пахучие приманки.
На черном лаке нежные рисунки:
Цветенье вишен в вечности, в Киото.
Я что-то вспоминал, но смутно, слабо.
Буддийский храм на золотом закате
С резным драконом, с цаплей на тропинке.
И небо. Небо, золотое небо!
И желтое кимоно на японке.
* * *
В соседстве Большого Каньона,
Где кондоры в небе висят,
Песчано-кремнистая зона:
Под солнцем лежит Аризона,
Похожий на Мексику штат.
Там кактусы (два миллиона!)
До самого до небосклона,
Высокие свечи, стоят.
Там ползают пестрые змеи —
И суслики, прыгнуть не смея,
Там жалко предсмертно свистят.
А ночью – иная планета?
В молчании звездного света
Горит немигающий взгляд:
Не кактусы – нет, вурдалаки,
Утопленники в полумраке
Слетаются в мертвый отряд
И пляшут в безмолвной пустыне,
В холодной ночи темно-синей,
Где кактусы утром стоят.
* * *
От волков и от овечек
Бесполезно в темный лес,
А сосед мой – человечек:
Полуангел-полубес.
Я кружиться в хороводе
В одиночку не могу,
Я китайца в огороде
Ухватил бы… за ногу.
Ни Пегас, ни белый лебедь
Не везут меня к луне,
Я валяюсь в синем небе
С черной вечностью на дне.
И в дуду, дурак-старатель,
Дую из последних сил,
Но бессмертия, читатель,
Я – увы! – не заслужил.
* * *
Я – недорезанный буржуй. (Надеюсь,
Теперь уж не дорежут.) Ананасов
И рябчиков жевать не приходилось,
А приходилось – мерзлую картошку,
Изысканного розового цвета,
Противно сладковатую. И рыбу
Копченую – и жесткую настолько,
Что надо было ею бить нещадно
По мраморному бюсту королевы
Виктории, чтоб размягчить. И соли
В ней было столько, сколько в океане.
Как хорошо, что нас не расстреляли!
Ведь если бы прихлопнули, то как бы
Я дожил до восьмидесяти? То-то.
Но это, милый, не твоя забота.
* * *
Здесь тоже и березы, и рябины,
И в поле тютчевские паутины.
Пахучее тепло сухого сена,
И в палых листьях слабый запах тлена.
И даже клин над лесом журавлиный,
И пруд, где выгиб шеи лебединой.
И будто липы дедовской усадьбы.
Мой дед и бабка. Воскресить, сказать бы…
Нет, не они, и нет былой России,
И мы, душа, напрасно попросили.
А все же – дар, «у гробового входа»:
Здесь будто новгородская природа.
Как будто мы недалеко от въезда
В Порхалово Крестецкого уезда.
* * *
Ты тоже с луны свалился, лунатик, приятель, я знаю:
На луне оказалось уныло, ты соскучился и зевая
Упал на эту планету, рассеянно сел на верхушку
Высокого дерева, увидел жеребенка, речку, телушку.
Увидел разные доски, запрещавшие то или это:
С высокого дерева плевал ты на глупые эти запреты.
Ты понял потом, что запреты бывают и умные тоже:
Но глупых запретов не слушал, лунатик, мой ангел, и позже.
Листва прекрасно шумела, и мелкая синяя птица
Кормила птенцов желтоватых, очевидно желавших
кормиться.
Листва прекрасно сияла, и дятел стучал не жалея
Клюва, как будто стучался в неразумный лоб фарисея.
Но у законника, ясно, была в голове уже птица:
Сидел нахмуренный филин, восклицая: «Ах, я девица!
Мне стыдно слушать такое! Уйдите, нахал, безобразник».
Оставив его в покое, пошли мы с тобою на праздник.
В подлунном мире недолго мы будем, лунатик, приятель.
Давай шутить и смеяться. А после, ну что ж, заплачем.
* * *
На карусели. Или – на качели:
То в царство Зла, то в мир Добра?!
Мы постарели. Но – не повзрослели:
Все та же легкая игра.
Дунь в дудочку. Из маленькой свирели
Мы извлекали тонкий звук.
Как будто эхо нежной эмпиреи
Пронизывало все вокруг.
Был влажный день, прохладный дух сирени.
Был геликоптер над рекой.
И тучи проплывали и серели,
Протягиваясь далеко.
Кружились кони старой карусели,
И пламя изрыгал дракон,
И Ева пролетала на качели,
И Змей нам посылал поклон.
Добро и Зло?.. Мой друг, ведь мы хотели
Загадку бытия решить.
Душа играла в постаревшем теле
И дергала сухую нить.
И красками неяркой акварели
Был тронут воздух. И слегка
Мы вдруг задумались, когда светлели
(Почти по-райски?) облака.
* * *
Те жалобы в земном аду
Приятной рифмой приукрасить,
Про нашу общую беду
Сказать, гарцуя на Пегасе,
И за непрочные цветы,
Вися над бездной, уцепиться,
Кусочком каждым красоты
Пленяться (камнем, садом, птицей).
Не без иронии порой,
Приманчиво приукрашая,
Кого-то утешать игрой,
Миражем маленького рая.
Наперекор глухой судьбе
Украсить бедные печали.
То о себе, то о тебе…
И написал я Пасторали.
* * *
Друг, посадят вас на электростул
За растление и прогул
(Я по дружбе сладко зевнул).
На десерт будет лампочка Ильича
(Как мешает сидеть свеча!),
Превратится Сезам в желтый Содом,
В желтый дом, в дымный бедлам,
Но вам будет упомянутый тарарам
До лампочки, потому что электростул
Вас унесет – ковер-самолет! —
Туда, где вас не то еще ждет.
* * *
Еще танцуют смуглые подростки
На старой площади провинциальной,
И проплывают пестрые обноски.
Еще торгуют пестрые киоски
Мороженым и мелочью сакральной:
Горящими сердцами в пестром воске,
Медальками Гонзаги или Костки,
Святых юнцов с их верой беспечальной.
Мне быть святым не хочется. Мне снится,
Что как-то удалось омолодиться,
С пленительной смуглянкой закружиться
И что она ко мне неравнодушна,
Что в мире все заоблачно, воздушно,
Что мы летим, греховны, но безгрешны
(И поцелуи долги и неспешны) —
Над крышами костела и вокзала,
Как легкие влюбленные Шагала.
* * *
Задумываясь в лунном полусне,
Душа на зов не отвечала,
Но музыка запела о войне
Огромным грохотом обвала.
Казалось пережившему войну,
Что всё рвалось и всё дымилось,
Но ветер возвращался в тишину,
Как бы сменяя гнев на милость.
* * *
В полуночное царство лунатиков
Мы из темного царства фанатиков
Улетим на Коньке-Горбунке
И ночным голубым привидениям,
Облакам с голубым оперением
Поясним, что летим налегке,
Что мы званы в Созвездие Лебедя,
Что с Землей разлучаемся нехотя,
Потому что иначе нельзя.
И растаем, по звездам скользя.
* * *
«Руководство для свежеумерших». Обложка
в семь цветов и недорого. Все же
я не купил. К чему опережать события? И может,
пожалуй, устареть. Ведь в наши дни
так быстро все меняется. К тому же
я, может быть, бессмертен. Так зачем
выбрасывать на ветер деньги?
* * *
– Кого здесь нет, прошу поднять руку!
Я не поднял. Меня не было, но
Было лень поднимать. Пусть вместо меня
Обе руки поднимет
Мой читатель, которого тоже,
К моему сожалению, нет.
* * *
По небу ходят андрогины –
Невеста то же, что жених.
Оттенок сизо-голубиный
Просвечивает в плоти их.
Две голубые половины —
Под стать сиамским близнецам.
Но двуединой сердцевины
Я не пойму, приятель, сам.
Библейские женомужчины
Гермафродиты? Да и нет.
Нам не понять такой картины:
Закат и вместе с тем рассвет.
Эдема странный обитатель
Раздвоен, да, но двуедин.
И только вы, мой друг читатель,
Наполовину андрогин.
* * *
Дал объявление, что обменяю
Свой возраст – восемьдесят – на семнадцать.
Вы думаете, кто-нибудь ответил?
(Был светлый вечер, легкокрылый ветер.)
Так не хотите, мальчики, меняться?
Вот молодые: злые эгоисты!
Ну, к черту! Я раздумал: отменяю.
Играйте туш, небесные горнисты!
Мы грешники: нам помирать опасно…
Иосифа Прекрасного напрасно
Мафусаил молил: «Ну поменяйся!»
Иосиф отвечал: «Иди ты, знаешь», —
И пояснял, куда (не усмехайся!).
А впрочем, я напрасно обижаюсь.
Ну, нет так нет. Насильно мил не будешь.
Какая тут обида? Только жалость.
Они не ангелы. Не боги. Люди ж.
(Сквозь темный дождь к могиле приближаюсь.)
* * *
Я сочинил премиленькую пьеску
О том, что кошка вышла за кита.
Не за кота. В ней было много блеску,
Но я забыл… Не помню ни черта.
Во что сыграем? В бридж или в железку?
Какая ночь по небу разлита!
Я в карты проиграл на днях невестку,
Точней – невесту. Девушка – мечта!
Что мне добавить к этому гротеску?
Что рыба-кит длиннее от хвоста?
Увы, убили душку Чаушеску,
Бай-бай навек, земная суета.
Я получил судебную повестку.
Как ночь прозрачна, улица пуста!
Кит проглотил Иону. Но в отместку
Пророк Иона – проглотил кита.
* * *
Кролики и крамбамбули каламбурят
по-каракалпакски,
Каролинги вместо Килиманджаро говорят
Кракатау,
Ихтиозавры и психиатры говорят кра-кра
или мяу.
А в Папуасии мамуас женился на таксе
Максе,
Морскую свинку Селинку в Египте
случили с Сфинксом,
И у них родилась пирамида между Марсом,
Марксом и Минском.
КАРТИНА В БОСТОНСКОМ МУЗЕЕ
Фламандская школа, пятнадцатый век
И будет разорван сейчас человек.
Его четвертуют четыре коня.
О мученик светлый, молись за меня!
Он будет разорван, святой Ипполит,
А сердце мое за него не болит.
За веру Христову его разорвут,
И поднят над крупом извилистый кнут.
И всадники в алых камзолах взлетят
Сейчас (а святые бесстрастно глядят)
Сквозь розы, репейник, сквозь чертополох
Туда, в облака, где невидимый Бог.
И дико ярятся четыре коня,
Но слишком их много, коней, для меня.
Ведь русский поэт, эмигрантский поэт,
Разорван лишь надвое. Кони, привет!
* * *
Задумывался, да, но не додумался
Ни до чего. Ну и прекрасно.
Божественного замысла и умысла
Нам не постичь. «Не плачь напрасно».
Напрасно мудрые ломали головы
Философы и богословы.
Боюсь, что понимали очень мало вы
В предначертаньях Иеговы.
А мы ходили по грибы, по ягоды
И белку легкую ловили,
И серебристых рыбок в светлой заводи
Или в зеленом, темном иле.
На свадьбе пьянствовали и горланили,
Как будто в Кане Галилейской,
И подплывали к неизвестной гавани
Под вечный шум воды летейской.
ПАМЯТИ ЮРИЯ ИВАСКА
В Печорах, где природа не нарядна,
Есть церковь малая Николы Ратна.
Кубическая, белая, простая,
Она поет, из праха вырастая.
Никола Ратный, храбрый Божий ратник
Нас осенял хоругвью в Светлый Праздник.
Святил священник куличи и пасхи.
Я там узнал о Юрии Иваске.
У белой звонницы Николы Ратна
Мы повстречались в тишине закатной.
Игрок «Играющего человека»,
Он стал мне другом. Другом на полвека.
Музеи, церкви, города и веси
Мы повидали, восхищаясь вместе.
На Мексику, на Рим, на древний камень
Он отзывался страстными стихами.
А в старости была ему услада:
Увидеть блеск державный Петрограда.
И он смотрел, взволнованный, влюбленный,
На Стрелку, на Ростральные колонны.
И легкую гармонию Растрелли
Он понял, как другие не умели.
Пускай сиянье питерского солнца
Сойдет в раю на русского эстонца.
Пускай в раю сияет незакатно
Ему любимый храм Николы Ратна.
* * *
Мы уйдем, не давая отчета
Никому, не спросясь никого.
Превратятся тоска и забота
В своеволие и торжество.
Станет музыкой тусклая скука,
Даже злоба прославит Творца!
От высокого, чистого звука
Ледяные смягчатся сердца.
И в пятнистой игре светотени
Под каштанами старых аллей
Эмигрантской толпой привидений
Доберемся до русских полей.
Две вороны да иней на крыше,
Воздух осени в роще горчит,
И на кладбище пение тише
Под сереющей тучей звучит.
* * *
Всё уладится, а не уладится —
Обойдется как-нибудь.
Белый голубь к нам летать повадится,
Провожать в последний путь.
Хорошо, что хорошо кончается:
Голубь запоет, как соловей,
Ветка золотая закачается
Над моей могилой и твоей.
Но в краю чистилищного холода,
В буре адского огня
Дух Святой не снидет в виде голубя
На тебя и на меня.
* * *
«…О, если бы ты был холоден горяч!
Но так как ты тепл, а не горяч и не холоден,
то извергну тебя из уст Моих».
Откровение Иоанна Богослова 3: 15,16
В тени молчания Господня
Я поживаю понемногу.
Мое вчера, мое сегодня,
Наверно, неугодны Богу.
Хоть никого не убиваю,
Ни разу не ограбил банка
(Напрасно!) и не замышляю
Украсть богатого ребенка,
Но… мне ни холодно, ни жарко,
Лишь чуточку – беда чужая.
И, знаешь, мне почти не жалко,
Что теплый не увидит рая.
Я теплый? Кажется… А впрочем,
Удастся без больших стараний
Стать в крематории горячим,
Холодным – пеплом в океане.
* * *
К раззолоченным храмам Бангкока
Мне вернуться уже не придется
И на ярких базарах Марокко
Не удастся опять торговаться.
Не придется опять любоваться
В Тонанцинтле веселым барокко
И уже не вернуться проститься
С черным камнем, с пятою Пророка.
Не вернуться к немому величью
Сероватых камней Мачу-Пикчу,
Не вернуться к Рамзесу Второму,
К рыжевато-песчаному храму.
Огонек мой совсем на исходе —
И пора успокоиться, вроде.
Отдыхая у берега Леты
(Дать Харону две медных монеты!),
Иногда вспоминаю, отчасти,
О былом незаслуженном счастье.
* * *
Надменное презрение верблюда
(Я побоялся на него взобраться)
Запомнилось. Лежал навоз. И груда
Цветистых ковриков – товар Махмуда.
Блестела ярко медная посуда.
И девочка вела меньшого братца.
И в желтых шлепанцах, в чалме зеленой
Старик прошествовал самовлюбленный,
И голос молодого муэдзина
Запел тягуче, что Аллах – Единый,
И лакомился молоком беспечно
Кот, не слыхавший, что ничто не вечно.
Ну не совсем: стояли пирамиды.
Но не молилась в капище Изиды
Богине египтянка молодая,
А сфинкс, обезображенный, безносый,
Не задавал извечные вопросы,
На молодость и старость намекая[3]3
Загадка Сфинкса. Сфинкс спрашивал путников: «Утром днем на двух, вечером на трех – что это?» Недогадливых убивал. Эдип, опираясь на посох, ответил: «Человек». – Примеч. И.Чиннова.
[Закрыть].
* * *
Ты бы хотела увидеть
Небо в алмазах?
Разве тебе не довольно
Звездного неба?
Ты бы хотела увидеть
Ангела в небе?
Разве тебе не довольно
Первого снега?
Разве тебе не довольно
Моря и ночи?
Лунных теней и деревьев,
Лета и ветра?
Москва, 1992
* * *
Давайте поблагодарим
За светлый дождь и легкий ветер,
За парус, уходящий в Крым,
За силуэт на минарете,
За бледный над горами дым,
За дворик, где играли дети,
За смуглое тепло, Карим,
Руки в серебряном браслете,
За розы – «только нам двоим» –
За ящериц на парапете,
За то, что мы живем на свете,
Давайте поблагодарим.
* * *
Милая девочка мне
Подарила осколки бутылки,
Брошенной в море давно.
Как обточило их море!
Нежно мерцают они,
Светлые аквамарины.
Так же обточит и нас,
Друг мой, житейское море.
Только не будем мерцать
Светлыми каплями мы.
Будем тускнеть – и не знать,
Была ли в бутылке записка,
Что-то о душах людей,
Гибнущих – нет, не о нас.
Москва, 1992
* * *
Мы в темно-рыжий город Марракеш
Давно, упорно собирались.
И вот – доехали. Скорей кус-кус доешь
И отложи самоанализ.
Не спрашивай себя, зачем мы тут,
Зачем вчера купил я феску,
Зачем купил поддельный изумруд
И голубую арабеску.
Зачем роскошествуем мы, живя
В гостинице «Семирамида»?
– Затем, что душу ест, мучительней червя,
Терзает давняя обида.
Обида на судьбу за годы нищеты,
За годы грусти и печали,
За то, что ты старик, что старикашка ты,
Что мы к веселью опоздали.
Прекрасные ковры, и розы, и коньяк,
А зубы девы – жемчуг мелкий.
У края бездны я хватаюсь, как дурак, –
За безделушки, за безделки.
* * *
Летали вороны над темным селом,
Над церковью, отданной бесам на слом.
Отравлена речка и голы поля —
«А ты не мешайся, ступай себе, бля!»
По кладбищу ночью пойдем в листопад:
Там кости расстрелянных слабо стучат.
И колокол, сброшенный, тайно звенит,
И много разбитых, надтреснутых плит.
А ветер в бурьяне высоком шумит,
Потом прилетает в разрушенный скит.
У взорванной кельи сидел домовой
И слышался жалкий, озлобленный вой.
По-русски подальше послал он меня,
Шумели деревья, могилы храня,
И ждали убитые Судного Дня.
Москва, 1992
* * *
Я тоже в Париже
Сидел без гроша,
И долу все ниже
Клонилась душа.
Но в грусти-печали,
Как светлый Грааль,
Мне жить помогали
Бодлер и Паскаль.
Я важен: я выжил!
Но – как с этим быть?
Туристу в Париже
Никак не забыть
Тех жалких харчевен,
Тех русских могил,
«Когда легковерен
И молод я был».
Москва, 1992
* * *
Мы сидели на кольцах Сатурна,
Ели поп-корн, болтали ногами
И смотрели, как быстро и бурно
Расширяется пламя под нами.
Да, нам некуда было деваться,
А на родину нас не пускали.
Мы к Полярной Звезде, люди-братцы,
Улетим на алмазной спирали!
Там заманят свободной любовью
Три сирены в сиреневой дымке
(А захочется вдруг в Подмосковье —
Путь свободен душе-невидимке).
Но от страсти порочной и бурной
Мы бежали сквозь льды голубые
И вернулись на кольца Сатурна
И к любимой своей ностальгии.
Москва, 1992
* * *
Сказали нам, что мир лежит во зле
(«Ну и пускай! И так ему и надо!»)
Мы слышали о дьяволе-козле,
Лукавом змее раесада.
Сказали нам: прекрасные цветы –
Всего лишь сатанинские соблазны,
И нет на свете Божьей красоты:
Одни лишь чертовы миазмы.
Но я аскетов слушать не хочу
И, поддаваясь искушенью,
Любуюсь ласточкой, помчавшейся к лучу,
Пахучей, праздничной сиренью.
А пчелы золотятся и жужжат,
И сад сегодняшний и здешний,
И радует греховный аромат
Черемухи или черешни.
И золотым бесовским наваждением
Осенней рощи восхищаясь,
Прельщаюсь вратоадовым прельщением –
И на прощение надеюсь!
ИЗ ЦИКЛА «БОЛЬНИЧНАЯ СЮИТА»
Михаилу Креспу
Могло быть хуже? Да, могло быть хуже…
На западе полоска стала уже.
Какой печальный северный закат!
Сломал плечо я. Душечка – больница?
От жалости к себе почти не спится.
Я себялюб. Прости. Я виноват.
Под Новый год в больнице. Боль и слезы.
На столике (ты угадала) – розы
Не утешают. Горек виноград.
Да, боли. Наказание Господне?
За себялюбие? Вчера, сегодня
Я чуть не плакал. Да, увы и ах.
Но – выздоравливаю понемногу.
Весной на подмосковную дорогу
(Всю в лужах, листьях, мокрых воробьях)
Я выйду с палкой. Здравствуйте, березы!
Скучал без вас. Ах, радостные слезы!
Еще я жив, я не холодный прах.
Сирень, лопух, орешник и скворешник!
Когда умру, невидимый нездешник,
Приду сюда. Унылей в небесах.
* * *
Кто садится на тигра – безумец.
Я не пробовал. Лучше не надо.
Вообще, нам давно не до тигра.
Нас носила нечистая сила.
Да, останутся рожки да ножки
(Мы рогатей чертей, как ни странно).
Продавайте рога и копыта,
Помолчав, уходите со сцены.
Мы протиснемся в райские кущи?
Нас апостол прогонит с позором.
А в чистилище скучно, уныло,
Но в аду – оживленно, и столько
Там знакомых, друзей и соседей!
Но не только: там Гитлер и Сталин!
Мы присвистнем и спросим: – хер Хитлер?
Как дела, дорогой Джугашвили?
Пахнет серой и здорово жарко?
И от бесов нигде не укрыться?
Надо, Coco, страдать научиться
И в кипящей смоле прохлаждаться!
* * *
Да, мы с Гамлетом родные,
Спросим тоже: выть? не выть?
Безобразия земные
Трудно будет позабыть.
Да, терпели, да, страдали,
С горя «поминали мать»…
Горя, боли и печали
Было нам не занимать.
Отстрадаем муки эти
И уснем последним сном.
И на том, на лучшем свете,
В райском свете – отдохнем!
Да, скучали, да, грустили,
Но мечтали – пофорсить:
В неземном автомобиле
К райским кущам подкатить!
Или… в ад, к чертям, с разбега
Сиганем?.. не в небеса?
Пропадай, моя телега,
Все четыре колеса!
Пожалей меня немножко,
Друг читатель, нас вдвоем.
Запузыривай, матрешка,
Завтра по миру пойдем!
* * *
Перестань дурачиться,
Богу помолись,
Райского землячества
Крылышком коснись.
Нет у Вани крылышек?
Быстро отрасти!
Из последних силушек
К Богу возлети!
Господу пожалуйся
На житье-бытье:
Допусти, пожалуйста,
В царствие Твое!
Ну, а вдруг захочется
В карты поиграть?
Погулять с молочницей,
С девкой переспать?
Осушить чудесинку,
Спеть – и смех и грех —
Прогорланить песенку
Озорнее всех?
Нет, небесным силам ты
Подойдешь навряд,
Зря с кувшинным рылом
Лез в калашный ряд!
* * *
Разное что в жизни было —
Будто сивая кобыла
Безобразно подшутила.
На горбу переселенца
Черт выкидывал коленца,
Крал у девок полотенца.
К черту новые ворота!
Жить барану неохота:
Знай стригут в четыре счета.
Не бараном быть, а волком?
Выть на месяц над поселком,
Жаловаться снежным елкам,
Говорить им: – Елки-палки!
Дни мои скучны и жалки!
С кем дружить? Вороны, галки…
Если б в чертовой метели
Звук пастушеской свирели!
Сделай, Боже, в самом деле!
* * *
Мне куролесится. С карниза
Столкнуть лунатика хочу.
Я в городе, простите, Пиза
С наклонной башни полечу.
Мне хочется покувыркаться,
Пройтись по миру колесом,
На небе голубого братца
Кормить отравленным овсом,
Уснуть в обнимку с птицей Феникс,
В горячем пепле с ней лежать,
И заграбастать кучу денег-с,
Звезду купить – и проиграть,
Женить луну на счетоводе,
Дракона гладить по спине,
Ловить и дядьку в огороде,
То в Киеве, то в бузине
И, прыгая по волчьим ямам,
Писать собаку через ять,
Стишки четырехстопным ямбом,
Подпрыгивая, сочинять!
* * *
Всё шуточки, всё пустячки.
Шутник – в палате.
Здесь розоватые очки
Мне б очень кстати.
Скучища. Раковый отдел.
Рентген да скальпель.
Смешно, что доктор не велел,
А то б я запил.
В чужую землю гроб… Да что ж,
Не все равно ли?
Смешно! Здесь тоже отдохнешь
Совсем без боли.
В родной земле – лежать милей?
Смешно. Едва ли.
Запой хоть курский соловей —
Вы б не слыхали.
Всё чепуха, всё ерунда —
Смешно, потешно.
А родина – она всегда,
Она, конешно…
* * *
Ольге Кузнецовой
А надо бы сказать спасибо:
За кринку молока парного,
За черную ковригу хлеба,
За небо с кромкою лиловой,
За двух небоязливых галок,
Собаку с мордой черно-сивой,
За то, что на порог упала
Для нас желтеющая слива.
За ветки в глиняном кувшине,
За ветер, веявший с востока,
За вкус черники темно-синей,
За связки чеснока и лука,
За дыню, зревшую у входа,
Свинью, запачкавшую рыло,
За то, что милая природа
К нам, видимо, благоволила,
За желтый мед (ты помнишь запах?),
Пахучий сыр и карк вороны
(И черный кот на белых лапах
Ходил кругом, хоть неученый),
За то, что лиловела кашка
И ежевика поспевала,
За то, что добрая кукушка
Нам долгий век накуковала,
За стуки дятла-лесоруба –
Сказал ли я за все спасибо?
Подмосковье, 1992