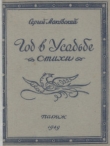Текст книги "Собрание соч.: В 2 т. Т .2. : Стихотворения 1985-1995. Воспоминания. Статьи.Письма."
Автор книги: Игорь Чиннов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Настежь окна и душу,
Ранний утренний блеск,
Улыбается, дышит
Пробужденный Франциск.
…………………………………
Умбриейобернулся,
Мглою лилейной – мир,
Розовый развернулся
Новый ассизский Рим.
Мантией расстилаюсь,
Брошеннойперед ним,
Под ноги попадаясь,
Я распеваю гимн.
Я ничего не сказал еще об избранных стихах Дм. Кленовского. Но ведь автор хорошо известен. Для многочисленных его поклонников эта книга – ценный подарок. Несомненно, что в его поэзии большая стройность и целость, большое единство стиля, верность своей теме и своему тону, благородство, устремленность к высоте. Должно быть еще важнее, что многих Кленовский духовно питает. Действительно, он сеет доброе – случай довольно редкий в наше время. Быть добрым вестником – это, разумеется, большая заслуга поэта. Вместе с тем, не скрою, что лично мне стихи Кленовского, в общем, не близки. Из более близких приведу эти строки:
Его вчера срубили. Что осталось
От всех его упрямых, гордых лет?
Немного щепок, дрог крестьянских след,
Да свежий пень. Здесь я побуду малость.
Я напишу всего десяток строк,
Но станет в них всё сызнова как надо:
Дуб, воротясь, прошелестит прохладой
И распахнется, волен и широк.
И также быстро оживет наверно
Узор листвы и веток тяжкий взлет
И, выскользнув из чашечки неверной,
На землю первый желудь упадет.
Хочу упомянуть и о «Книге лирики» Странника. Ее автор прошел большой и необычный путь. Когда-то, за несколько лет до войны, в Брюсселе появился журнал под невероятным в наш век названием «Благонамеренный». Но надо пояснить, что издавал его молодой тогда князь Шаховской, а история русской литературы 18-го века сохранила нам имя кн. Шаховского, издателя журнала с названием в точности таким: и вот потомок «возобновил» Дело предка. Был ли тут снобизм? В тоне журнала, кажется, был; но ведь вовсе без снобизма (имею в виду снобизм определенного оттенка и уровня) литература была бы скучновата, серовата. Многое из появившегося в брюссельском «Благонамеренном» украсило русскую литературу. А затем в душе редактора-издателя произошел какой-то перелом. Для него настала пора напряженной духовной жизни и притом – жизни православного пастыря. Он издал ряд книг, раскрывающих его религиозный опыт. И теперь вот перед нами его «Книга лирики» – очень чистая, очень одухотворенная.
Много жалости и милости
В бледном небе надо мной.
Надо жить без торопливости
В неизбежности земной.
Листьев нежная сумятица,
Как дыхание земли.
И все тайны мира прячутся
Легким облаком вдали.
Вероятно, не каждый любитель поэзии эту книгу полюбит – мне она тоже, в целом, «несозвучна». Но нельзя не почувствовать ее духовную высоту. Кстати, едва ли все в литературе измеряется лишь узкохудожественными достоинствами. В «Докторе Живаго», во многих стихах романа, да и в самом романе спорных мест сколько угодно, а все-таки хочется «обнажить голову».
А теперь – о книге стихов, часто причудливых и капризных, неровных, но вызывающих живейшее любопытство – я имею в виду стихи Якова Бергера. Его «Весна в Ч.». (Тель-Авив, без даты, но недавняя) прошла почти незамеченной. Между тем многое в ней так остро и свежо, что порой прямо диву даешься. Я встречался с автором в Германии, в конце пятидесятых годов, но не подозревал, что он пишет стихи; знал только, что биография его пестрая, что он был врачом в Сибири и на Дальнем Востоке, что он еврей и еще молод. «Весна в Ч.» отчасти под знаком футуризма, но главное в к влияниям не свести. Вот несколько строк из его стихотворения о Максе Жакобе, выдающемся французском поэте, авторе замечательной книги «Советы молодому поэту», человеке на редкость утонченном, внешне отчасти с повадками Анри де Ренье или Пруста, эстете, еврее, который стал ревностным католиком (он кое-чем напоминает душевно Шарля дю Боса). Макс Жакоб погиб в нацистском концлагере, ему было около семидесяти. Бергер говорит и о Париже эпохи fin de siecle (иногда, впрочем, смещая столетия), и о Париже нацистской оккупации:
Макс Жакоб, Макс Жакоб, Макс Жакоб,
а вы прохаживались в шесть в цилиндре?
поражали должно быть своим багажом,
белоснежным должно быть блистали жабо
(жара и Жорес в Париже,
в то прежнее, старое-старое лето
должно быть царили?)
……………………………………………….
Макс Жакоб, Макс Жакоб,
вы садились бывало в «бистро» за конторку,
а за что, Макс Жакоб,
а за что, Макс Жакоб,
будто желтых жуков,
будто желтых живых жуков
вас в тот вечер однажды втолкнули в коробку?
Какая выразительность достигнута толчеей этих «ж»!
Под конец – о последней пока что дошедшей до меня новинке в зарубежной поэзии – «Двоеточии» Николая Моршена. Это очень интересный поэт – и быстро растущий. Стихи у него крепкие и – содержательные. Ему есть что сказать.
…Зевали кефали, смотрели макрели,
Как в небо летучие рыбы летели —
Не то, чтобы в небо, а чуточку ниже,
Но дальше от жижи и к солнцу поближе.
С восторгом проклюнувшегося орленка
Они прорывались сквозь влажную пленку
И мчались по новооткрытым орбитам
Подобно болидам и метеоритам.
И мне бы промчаться зазубренной тенью
Сквозь все отрицания и недоумения,
Сквозь все средостенья прорваться и мне бы
И рыбой, и рыбой, и рыбой по небу!
Как хорошо, с какой стремительностью, с какой «ритмической неопровержимостью» это написано!
В «Двоеточии» чувствуется пытливый и независимый ум, широкий кругозор, внимание к научным открытиям помогающим (дай Бог!) постичь мир, и т. д. Существенен горячий, искренний и убежденный мажор Моршена. Все же хочется с ним спорить, когда он судит об опыте, который, по-видимому, для него непроницаем, по крайней мере пока непостижим (может быть, непостижим из-за разности темпераментов). В «программном» стихотворении против парижской ноты он смеется над теми, кто в стихах порой с горечью и отчаянием говорит о неизбежности смерти. Моршен заявляет, что стихи, искусство должны преодолеть смерть – к этому должен стремиться художник. Как это понять? Едва ли Моршен призывает нас силой стиха нарушить вечный закон природы. (Да, Сологуб, Шестов, хоть и по-разному, этот закон оспаривали, Федоров мечтал опровергнуть его… Но в споре не они победили.) Значит, у Моршена речь идет о литературном бессмертии? Но если бы и осталось имя в веках – такое ли большое в этом утешение для покойника? Кто знает, не променял бы теперь Пушкин свое литературное бессмертие, скажем, на прежнее веселое бессарабское житье? Нет, «музыка от смерти не спасет». И я не знаю, вдумались ли вполне в это те, кто смеется над «нытиками». Неужели же и над Анненским готов посмеяться Моршен за то, что он и не пытался храбриться? Право, ни упиваться тем, что все мы «бездны мрачной на краю», ни отвечать на смерть гётевским «Вперед по гробам!» поэт не обязан. Скрывать свой ужас при мысли о смерти у него нет причин и не надо в стихах лукавить, даже тогда, когда ложь «во спасение», в воспитательных целях. Хорошо, если есть у поэта силы мужественно «глядеть в холодное ничто» или есть вера в «загробное сиянье»; но пусть не отвергает он пренебрежительно другой душевный строй, другое сознание.
Я отвлекся. Как бы то ни было, бесспорна талантливость Моршена, его упорная работа над стихом, его увлеченность тем, что происходит в мире. И конечно, от наивности он далек. Думаю, что он даст русской поэзии еще много.
Да и другие зарубежные поэты дадут. Этой статьей я именно и хотел сказать, что до сих пор поэты «хорошие и разные» у нас есть. «Думали – нищие мы, нету у нас ничего»… Поверьте, и по сей день мы не обнищали.
Над тремя-четырьмя книгами из вышедших за последнее время внимательный читатель задержится подольше. Он вступит в очень своеобразный душевный и духовный мир. Он почувствует отразившуюся в этих стихах недюжинную «внутреннюю жизнь», прикоснется к творчеству, свободному от столь распространенной всегда и всюду и столь удручающей элементарности сознания, от банальности душевного опыта. Он заметит «необщее выраженье» этих стихов и поймет, как недешева душевная ткань, из которой эта поэзия возникла. Напомню прописную истину: в том, что высокопарно называют искусством слова, нас обычно «интересуют» два элемента: замысел и выражение, «воплощение» этого замысла. Пусть воплощение важнее (Малларме был прав, говоря, что «стихи пишутся словами, а не идеями»), но и замысел лежит на чаше весов (это видно уже из того, как оскорбляет нас замысел «развязный», неблагородный, вульгарный). Может быть, осуществление замысла в некоторых стихах тех трех-четырех книг, которые я имею в виду, не всегда совершенно, не всегда прекрасно. Но то что «замышлено», то связано с самым высоким. И в этих книгах нет претенциозности нет снобизма. Обвинения в снобизме по адресу некоторых наших поэтов лишь доказывают, по-моему, приблизительность, неотчетливость, суммарность нашей терминологии и нашу склонность принимать высшее (сравнительная степень) за низшее. Между снобизмом и тем труд, но определимым, редкостным и драгоценным качеством о котором порой идет речь, сходства не так уж много. Но как сказать? Утонченность? Изысканность? Для русского человека эти понятия менее убедительны, чем для западного. Как бы то ни было, повторяю, претенциозности в этих трех-четырех книгах нет.
Тут мы подходим к одной больной теме. Конечно, дешевая актуальность противна, но ведь вопрос о современности поэта этим еще не решен. Пусть в «несозвучности эпохе» поэтов упрекают нередко вульгарные люди – все же от таких упреков так легко отмахнуться нельзя. Ссылка на свободу творчества – довод недостаточный. Все-таки надо бы, чтобы поэзия полнее отзывалась на то, что происходит в мире. Конечно, никакое искусство никогда не давало «полного отклика» на «проблемы эпохи»; но ведь наше время, пожалуй, и в самом деле особенное (хотя почти все живут так, как если бы ничего особенного не происходило). Скажем прямо: какую-то (для каждого поэта свою) долю упреков в несовременности почти все эмигрантские поэты, вероятно, принять должны. Но критикам, кричащим о «несозвучности эпохе», следовало бы как-никак знать, что, во-первых, современность многопланна и разнородна, а во-вторых, та или иная степень и оттенок «созвучности» или «несозвучности» поэта вызваны целым рядом причин, в том числе и законами развития соответствующей поэзии – и что вообще все гораздо сложнее в искусстве и мире, чем это кажется многим.
Между прочим, очень острое ощущение современности в ее общедоступном плане нередко мешает, как следует, почувствовать вечное. Мешает и почувствовать историю в ее целостности, ощутить прошлое, а без этого нет понимания «перспективы», нет «погруженности» в культуру, такой нужной теперь.
Еще о «детях эпохи». Те эмигрантские поэты (в их числе большие таланты), те из нас, кто склонен декларировать свою принадлежность эпохе, порой вызывают недоумение иностранцев: «как так они современны, когда у них традиционная метрика и все еще рифмы?». Мы можем ответить, что в пределах русского ритмического и рифмованного стиха у нас еще столько неиспользованных возможностей, что нет смысла отказываться от столь выигрышной фонетической системы. Да, конечно. Но все-таки такой ответ лишь частичное объяснение. Верность русских поэтов стопам и рифмам, хотя бы очень неточным – факт во многом загадочный (только не надо его объяснять якобы неосведомленностью нашей о том, что происходит в западной поэзии).
И еще одно удивляет западных читателей: то, что в наших стихах, в общем, мало игры, и особенно мало «игры ума», в частности, той игры ума, которая выражается в разрыве с общепринятой, «ординарной» логикой. «Все общепринято, все слишком общедоступно».
«Слишком общедоступно»… Едва ли следует «непонятному» поэту гордиться своей герметичностью. Ничего нет хорошего в том, что тот или иной художник мало доступен «толпе». Но ничего нет в этом и порочного, «недопустимого». Что-то самое последнее, самое глубокое в искусстве, к сожалению, всегда было и всегда будет уделом только немногих. Нужно стремиться к ясности, но не нужно «предавать» тему, обедняя ее, снижая, вульгаризируя. Если бы некоторые зарубежные поэты могли полней, адекватней выразить себя и свои темы в «непонятных» стихах, надо было бы пожелать, чтобы они писали «темно». Но, по-видимому, нас не тянет изрекать «пифийские глаголы», не тянет даже к той словесной игре, которая обогатила футуризм. И западный читатель немного разочарован.
А читатели в России? До некоторых из них кое-какие наши стихи уже дошли, со временем дойдет и больше. Многих увлекут, вероятно, словесная яркость, ритмическая выразительность, скажем, Елагина и его сильные строки об одиночестве человека в царстве машинно-городской цивилизации – хотя другие, может быть, предпочтут монолог, тоже словесно яркий, Моршена, с волнением следящего за тем, как наука приподымает занавес над тайнами мира. Но скорее всего, советского читателя потянет просто к задумчивости. В советской поэзии задумчивости все еще мало, там все больше декларации о любви к человеку, о любви к родине, да полная оптимизма маршировка в пионерском лагере (хотя и есть, конечно, настоящие, значительные поэты, которые к простодушному ликованию непричастны). И вот, кажется мне, там в сердцах каких-то русских людей найдет отзвук именно задумчивая грусть многих наших стихов. Грусть, а то и больше – горькая печаль, горечь, как в том стихотворении, которым начинаются эти беглые заметки.
ВСПОМИНАЯ АДАМОВИЧА
По-моему, это был человек большого обаяния, хотя обаяния, которое раскрывалось не сразу и не всем, как и неподдельный адамовичевский аристократизм. Георгий Адамович со всеми без исключения говорил совершенно просто, вежливо и естественно-изящно; может быть, с еле уловимой нотой в голосе, дававшей понять, что он ничего вам не навязывает, даже и своего общества, и тотчас готов прекратить разговор, если вам скучно. Но скучно с ним быть не могло.
Об Адамовиче-собеседнике – ниже, сперва надо сказать про его ораторский дар. Он был одним из четырех-пяти замечательных ораторов, которых мне посчастливилось слышать. Помню, Маковский, разводя руками, удивлялся: «Ни одного ораторского жеста, никаких ораторских интонаций, в сущности монотонно, и голос какой-то тонкий, а все точно замерли, гипноз какой-то».
В последний раз я слышал его весной прошлого года на моем вечере в Париже. Мысленно возвращаюсь, вхожу в зал Русской консерватории. «Иных уж нет», но, слава Богу, здесь еще девяностолетний Борис Зайцев, еще здесь, слава Богу, рядом с ним на эстраде, четыре наших поэта-критика, которых так жадно читал я уже лет тридцать назад; трое из них причастны еще Серебряному веку. И вот «первым докладчиком» встает Адамович, и он почти, почти тот же, как двадцать лет назад, когда в этом же зале обсуждали поэты стихи Анатолия Штейгера и мою первую книжку. Почти тот же.
Правда, лицо желтое, желтизна в белках черных глаз (глядящих как бы внутрь и как бы вдаль). Он по-прежнему без очков, держится прямо, как всегда, корректно одет в темное, с хорошо повязанным темным галстуком, волосы тщательно расчесаны на косой пробор. И тот же голос, как двадцать лет назад, как бы с отзвуком надтреснутого стекла, и по-прежнему умная речь, с тем же ненавязчивым и непоказным изяществом.
Не знаю, изящество ли в костюме и манерах или что-нибудь другое не простила молодому Адамовичу поэтесса Надежда Павлович, эта Магдалина у ног Христа – Блока, не охотница до акмеистов. В своих «Думах и воспоминаниях» (это стихи, и дум там немного), вышедших в 1962 году (М.: Сов. писатель), она, между характеристиками Кузмина и Гумилева (стихотворение «Клуб поэтов»), дает такой образ:
И, отутюжен, вымыт, брит,
Слонялся Адамович:
Изящный стих, как смокинг, сшит,
Остроты наготове.
Плохо верится, что Адамовичу когда-нибудь приходилось остроты заготовлять впрок. Вероятно, поэтесса, простившая, к счастью, Блоку и красивую его одежду, и педантическую аккуратность на его письменном столе, за что-то сердится на Адамовича. «Снобизм…» Упреки в снобизме к Адамовичу обращали не раз. В частности, делает это известный Вл. Орлов в предисловии к стихам Бальмонта (Большая библиотека поэта. М.: Сов. писатель, 1969). «Чистым снобизмом» кажется Орлову невысокое мнение Адамовича о поэзии Бальмонта… Итак, Адамович был сноб? Но едва ли можно сводить к «снобу» человека, написавшего такие, например, строки:
За слово, что помнил когда-то
И после навеки забыл,
За все, что в сгораньях заката
Искал ты, и не находил,
И за безысходность мечтанья,
И холод, растущий в груди,
И медленное умиранье
Без всяких надежд впереди,
За белое имя спасенья,
За темное имя любви
Прощаются все прегрешенья
И все преступленья твои.
Едва ли это стихи сноба. А к тому же – ведь и Пушкина подозревали в снобизме. С Кольцовым, мещанином, Пушкин (носивший, кстати, золотой наперсток на длинном ногте мизинца, чтоб не обломать) в своем кабинете разговаривал, не предложив тому сесть, – оба стояли (Адамович бы сказал: садитесь, пожалуйста). А Толстой? Помните в «Юности» его убеждение: раз ногти не миндалевидные, в хорошее общество человека пускать нельзя. И мнительные люди могут спросить: полностью ли преодолел Толстой свой «снобизм»? Нет, конечно, снобизм не то слово. Мы, русские, часто не различаем между снобизмом и «чувством изящного», как говорили в старину: чувством красоты. Вот это чувство красоты у Адамовича было всегда, вопреки тяготению его к аскетизму. И забыв об этом, понять автор книги «Комментарии» нельзя.
Как Василий Слепцов, как Герцен, как тургеневский Нежданов, Георгий Адамович ощущал в себе постоянный разлад. Этика, нравственное чувство, по-радищевски «уязвленное страданиями человеческими», это чувство всю жизнь боролось в нем с тем, что так неточно называют «эстетизмом». Он мог бы повторить о себе гётевские слова о двух душах у него в груди.
Разлад есть и в его поэзии. Но скажем сперва о других ее чертах. Мастерство Георгия Адамовича – поэта… Оно менее явственно, чем у Цветаевой или Ходасевича. Однако вот, например, строфа из «Единства»:
Я помнить не могу, но помню, помню
Коронационные колокола.
Вся в белом, шелестящем – как сегодня! —
Мать улыбаясь в детскую вошла.
Во второй строке (звукоподражание и даже звуковая метафора) торжественный размах, разлив могучего колокольного гула. А в строфе:
Но смерть была смертью. А ночь над холмом
Светилась каким-то нездешним огнем,
И разбежавшиеся ученики
Дышать не могли от стыда и тоски –
третья строка создает (правда, за счет мелодичности) совершенно отчетливое ощущение, что ученики Христа именно разбежались в разные стороны.
Думается, и без выучки в гумилевском «Цехе поэтов» Георгий Адамович писал бы не беспомощно. Но роль мастерства, как известно, он склонен был преуменьшать. И на Монпарнасе, в отличие от Ходасевича, не обучал ремеслу, а больше призывал молодых поэтов «сказаться душой», если не «без слов», как мечтает Фет в одном стихотворении, то с минимумом слов – самых простых, главных, основных – ими сказать самое важное, самое нужное в жизни. Так возникла «парижская нота».
Хотя Адамовичу с восторгом внимали все, однако в монашески-суровый орден этой «парижской ноты» вошли немногие и – не знаю, самые ли талантливые. Всех точнее выразил ее канон Анатолий Штейгер – стихах по пять-шесть строчек, прозаических по тону, не музыкальных, но щемящих. У самого Георгия Викторовича все лучшие стихи к этой предельной простоте стремятся, ядро адамовичевской поэзии, в принципе, аскетическое, сознательно обедненное и, принципиально, уже незаменимое в своей окончательной, как бы подвижнической очищенности от всего «неокончательного», необязательного, декоративного. Вот пример:
За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнанье.
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существованье».
Нет доли сладостней – все потерять,
Нет радостней судьбы – скитальцем стать,
И никогда ты к небу не был ближе,
Чем здесь, устав скучать,
Устав дышать,
Без сил, без денег,
Без любви,
В Париже…
Писать стихи, утверждал Георгий Викторович, надо, «отказываясь от всего, от чего отказаться можно, оставшись лишь с тем, без чего нельзя было бы дышать. Отбрасывая все словесные украшения, обдавая их серной кислотой». Но порой уступал он и желанию выйти за пределы аскетической поэзии. Тогда… тогда, нарушая свой догмат «делать стихи из самых простых вещей, из стола и стула», – он допускал в свою поэзию такие, сказал бы зоил, «предметы роскоши», как «розовый идол, персидский фазан», как «арфы, сирены, соловьи, прибой». Больше того: он вводил патетические сравнения: «как гола из-за океана», вводил декламационные, риторические интонации И он, апостол аскетизма, включил в свою книгу даже такой, как будто заимствованный у осуждаемого им Фета, почти романс:
И даже ночь с Чайковским заодно
В своем безмолвии предвечном пела
О том, что все обречено,
О том, что нет ни для чего предела.
Это очень талантливо, но это не Адамович. Это совершенно чужеродно в книге, основной тон которой аскетичен. И все-таки книга названа (с необычной для него и к нему мало идущей подчеркнутостью) – «Единство». Не странно ли?
Пожалуй, хорошо, когда человек не однозначен, когда не умещается он в одной категории. Душевно живые люди особенно часто двоятся. Если Адамович противоречил сам себе, то в житейском плане это, пожалуй, составляло часть его обаяния. Но в искусстве… в нем разностильность в пределах книги стихов (да еще названной «Единство») оправдана, только если вызвана какими-то поисками. Но тут поисков не было.
Могут возразить, что порой большое единство стиля утомляет. Действительно, вот вы видите сразу в собрании картин: это – Миро, это Бюффе, это Утрилло, это Модильяни… А в поэзии: это – Цветаева, это Пастернак… Не всегда доставляет это, говоря мандельштамовской строкой, «выпуклую радость узнаванья». Но, думаю, мы бы предпочли в поэзии Адамовича скорее монотонность, чем эту добавку «контрастной поэтичной» риторики.
Конечно, нельзя не любить такие его стихи, как «Невыносимы становятся сумерки», «Один сказал: нам этой жизни мало», и особенно прекрасное «Там, где-нибудь, когда-нибудь», а также «Ну, вот и кончено теперь. Конец», затем «Патрон за стойкою» – с этим щемящим призывом несчастного пьяного эмигранта выпить «за небо, вообще!»:
Патрон за стойкою глядит привычно, сонно,
Гарсон у столика подводит блюдцам счет.
Настойчиво, назойливо, неугомонно
Одно с другим – огонь и дым – борьбу ведет.
Не для любви любить, не от вина быть пьяным.
Что знает человек, который сам не свой?
Он усмехается над допитым стаканом
Он что-то говорит, качая головой.
За все, что не сбылось. За тридцать лет разлуки,
За вечер у огня, за руки плече.
Еще, за ангела… и те, иные звуки…
Летел, полуночью… за небо, вообще!
Он проиграл игру, он за нее ответил.
Пора и по домам. Надежды никакой.
– И беспощадно бел, неумолимо светел
День занимается в полоске ледяной.
Пусть это, может быть, не просто, не тихо, несколько декламационно – все равно. Зато это пронзительно, незабываемо.
В своей книге «Комментарии» Георгий Адамович о поэзии говорит особенно много. Говорит, в частности, о том «воздухе», в котором «парижская нота» возникла. В его статьях большое единство голоса. Они радуют уже одной своей стилистической стройностью. Очень многие до сих пор склонны в Адамовиче, вне его стихов, видеть только критика – больше. Столь ограничительное толкование, может быть, еще простительно более или менее, когда речь идет о Ходасевиче. Пусть прекрасного ходасевичевского «Державина» в рамки «только критики» не вместить, все же за пределами замечательной своей поэзии, Ходасевич порой может показаться почти лишь критиком и литературоведом, да еще мемуаристом (хотя нечто гораздо большее приоткрывает в нем этот удивительный контраст между демоничностью главных его стихов и стилизованной ампирно-пушкинской, умно-ограниченной суховатой, вылощенной прозой его статей). Но, в отличие от Ходасевича, в «нестихотворном» наследии Адамовича литературно-критические статьи – не самое важное, как они ни значительны. Еще менее исчерпывается он рецензиями. Ни они, ни статьи не заслоняют его «вольных философствований».
Рецензии его импрессионистичны, в них больше от абсолютного слуха, от интуиции, чем от пристального изучения. Разумеется критика не литературоведение, но именно от человека, одаренного такой чуткостью, хотелось нередко большей доказательности более подробного разговора о том, что, кроме него, у нас способны заметить только человек семь-восемь. Хотелось подробностей и тогда, когда встречались у него возражения кому-нибудь. Но всякую аргументацию, разборы, медленное чтение – это он всегда оставлял в удел литературоведам. К сожалению, труд их он склонен был недооценивать. О давней статье Бор. Эйхенбаума «Как сделана "Шинель" Гоголя», хотя и односторонней, но во многом полезнейшей, Г.В. мне писал: «К чему это копание? "Как сделана Шинель"… Сделана – и сделана». Он так и не захотел признать, что слишком часто без тщательного всматривания в произведение искусства видишь лишь туманный его силуэт
Случалось Адамовичу и отводить глаза навсегда от чего-нибудь, что почему-либо ему не пришлось по душе Как известно, уничижительно отзывался он о Марине Цветаевой – пусть, пожалуй, невыносимой, но драгоценной же, драгоценной. Да, демонстративный титанизм ее, «ячество», вечный крик с отбиванием чуть ли не каждого слога – все это раздражает. Но как отрицать силу и новизну ее ритмов? Увы, Адамович это делал, тем вновь напоминая о тягостной их ссоре, заставляя вспомнить запальчивую цветаевскую статью «Поэт о критике», недавно перепечатанную в СССР. В некоторых своих статьях – не столько в тех, что вошли в «Комментарии», сколько в других – «недооценивал» Георгий Адамович даже Достоевского. Аллергию к Достоевскому можно понять. Многое у него, быть может, «чересчур», слишком нажата педаль, почти «белая горячка» то в стиле, то в шовинистических чувствах. Но… как же не видеть, Боже мой, гениальность Достоевского, его великую глубину? Конечно, Адамович в нем видел и признавал гораздо больше, чем отрицавший его начисто Бунин. Но как бы то ни было, в некоторых своих статьях Адамович соглашался за Достоевским признать чуть ли не одно только то, что Достоевский непревзойденный мастер темы страдания, почти не желая видеть даже и того, что страдание Достоевский не только ведь чувствует и «описывает», но и пытается осмыслить, едва ли не более страстно, чем пытались и до него, и после него. Тему же свободы, в связи с темою Бога, Адамович у Достоевского вовсе игнорировал, как и многое другое. Даже Легенда о Великом инквизиторе интересовала его не в связи с «тоталитарной альтернативой»: свобода или насильственное «счастье» (а это как уж близко касается русского читателя!).
В «Комментариях», на стр. 123, Адамович приводит слова знаменитого английского поэта Одена о Достоевском: «Общество, которое забудет то, что он рассказал, недостойно называться человеческим». Да – и спасибо, Георгий Викторович, что вы эти слова привели. Спасибо, что на стр. 102 вы пишете: «Достоевский – великий, огромный писатель». Но… вот что сказано на стр. 87: «В нашей литературе было три гения интонации: Лермонтов, Толстой и Блок». (Три? А как же с Пушкиным, Тютчевым, Некрасовым, Гоголем, Розановым, Цветаевой? Хорошо, пусть все они не в числе «только трех».) Но если, говоря об интонации, назвать надо только три имени, то без Достоевского никакие «три» не убедительны.
В «Комментариях» Георгий Адамович говорит «на разные темы». Это – вольное философствование о многом, для него самом существенном. Тем в книге Адамовича много – и тем важнейших. Он говорит о Боге и мире, о Христе, христианстве, говорит о России и Западе в их противостоянии друг другу, о культуре как вечном заимствовании и продолжении – не подражании, а продолжении. Адамович пишет о католичестве и социализме, о равенстве и свободе и вечном, неустранимом конфликте между свободой и равенством; пишет об аристократизме красоты и несовместимости ее со справедливостью. В «Комментариях» идет речь о Толстом и Достоевском, об их полярности, о Пушкине и Лермонтове, в их тоже противоположности друг другу; Адамович говорит о Вагнера, о Блоке, о Серебряном веке, о декадентстве, его грехах и его правоте, говорит о модернизме в поэзии и невозможности поэзии абсолютной… Отсылаю читателя к тексту «Комментариев». Эту книгу надо прочесть самому, чтобы почувствовать ее органическое и стройное единство, при внешней отрывочности и порой даже противоречивости.
Георгий Адамович – собеседник… Чаще всего беседы бывали о стихах и о том, чем поэзия должна быть. Правда, после войны он об этом говорил не так охотно, как в монпарнасские времена. Но вера в высокое назначение поэта в нем оставалась, как и уверенность, что стихи должны быть «ответом на все». Он повторял «все можно сказать в стихах – и как сказать!» И не соглашался, когда ему возражали, что поэзия никогда полноты жизни не вмещала и не вместит. До конца остался он, по существу, максималистом и анархистом в поэзии, с эсхатологическим порывом к «финальному аккорду» – и от поэта требовал – «чтоб просиял ты – и погас!». Адамовичу хотелось, чтобы поэзия стремилась вверх, как готический шпиль, истончилась бы до высокого сияющего острия – чтобы свершилось мировое чудо, – а затем пусть, как молния поэзия исчезнет. Не правда ли, странно? Стихов, в которых это стремление стать острием (вонзающимся в небо) ослаблено орнаментом, он не признавал: «лучше останемся без стихов». И только головой качал на возражения, что не стоит «оставаться без стихов», что и так уже остались мы, или всегда были, без очень многого…
А порой, апостол простоты, он удивлял собеседника, говоря, что писать надо, как Анненский написал свое «О нет, не стан»:
О нет, не стан, пусть он так нежно-зыбок,
Я из твоих соблазнов затаю, —
Не влажный блеск малиновых улыбок, –
Страдания холодную змею.
Это вызывало на спор. Да, в стихотворении этом, поразительном, незабываема концовка:
Оставь меня. Мне ложе стеле Скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость – только мука
По где-то там сияющей красе…
Незабываемо и это прозаическое и все же насквозь преображенное «где-то там», но первая строфа – «югендштильная», манерная, и редкостное и драгоценное ее великолепие никак не тот насущный и насыщающий «хлеб», которого Адамович от поэзии требовал.
Чаще же он осуждал метафоры, уверял, что без них стихи лучше, приводил в пример «Я вас любил, любовь еще, быть может…». «Там ни одной метафоры. Ни одной», – говорил Адамович. Он был не совсем доволен, когда я возразил, что удача Пушкина доказывает только, что можно обойтись без метафор, но вовсе не то, что нужно обходиться без них.