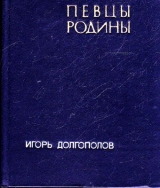
Текст книги "Певцы Родины"
Автор книги: Игорь Долгополов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
декораций, выполненные художником Крымовым. Они были написаны слишком
"натурально". Тогда-то и решили обратиться к Кустодиеву.
И вот в дирекцию театра привезли наконец, большой ящик с эскизами.
Собрались все, так как было известно, что от художника теперь зависит, быть
или не быть спектаклю.
"...Открыли ящик – и все ахнули. Это было так ярко, так точно, что...
роль... режиссера, принимавшего эскизы, свелась к нулю – ...нечего было
исправлять или отвергать... Художник повел за собою весь спектакль, взял как
бы первую партию в оркестре, послушно и чутко зазвучавшем в унисон".
А. В. Луначарский, бывший большим другом МХАТа 2-го, сказал во время
премьеры: "Вот спектакль, который кладет на обе лопатки весь
конструктивизм".
"Блоха" возвращала в театр зрелищность, яркость. Она восстанавливала в
правах театрального художника. В ней не было ни обычных для того времени
конструкций, ни экспрессионистских нагромождений, ни обнаженной машинерии. В
"Блохе" заявляла о себе та несомненная, бьющая через край народность,
которая присутствует в лубке, шуточной песне, лихой частушке, пословицах.
Это был Театр! Это было чародейство, под стать колдовству вахтанговской
"Турандот".
Кустодиев написал маленькое письмо-статью, обращенное к зрителям,
пришедшим на премьеру "Блохи" в Ленинградский БДТ.
"Многоуважаемый и дорогой товарищ зритель!
Легкое нездоровье удерживает меня дома и не позволяет вместе с тобой
быть на сегодняшнем спектакле, когда тебе будет показана "История Левши,
русского удивительного оружейника, и как он хотел перехитрить англичан"...
От тебя, дорогой зритель, требуется только смотреть на все это,
посмеяться над приключениями Левши, полюбить его – и унести с собой веселое
и светлое настроение празднично проведенного вечера. Мы делали все, чтобы
оно у тебя было, и надеемся, что работа наша не пропадет даром.
С товарищеским приветом Б. Кустодиев".
Читая эти строки, написанные за полгода до смерти, ощущаешь творческий
подвиг, свершавшийся художником каждодневно, ежечасно.
"Меня называют натуралистом, – говорил Кустодиев, – какая глупость.
Ведь все мои картины – сплошная иллюзия. Что такое картина вообще? Это чудо!
Это не более как холст и комбинация наложенных на него красок! В сущности,
ничего нет! И почему-то это отделяется от художника, живет своей особой
жизнью, волнует всех..."
Чудо. Как иначе можно назвать любое творение большого живописца? Разве
не чудо, что нас и сегодня чаруют полотна Тициана, Рубенса, Мане, Ренуара, а
в обиход прочно вошел термин "левитановская осень" и многие-многие другие.
С таким же правом мы можем безошибочно угадать и назвать
"кустодиевским" определенный тип женской красоты.
Можно поражаться стойкости художника, не сдававшегося и вопреки всем
невзгодам, мучительной болезни, продолжавшейся долгие годы, творившего
картины, восславляющие жизнь и радость.
...Как-то посетители Эрмитажа наблюдали такую картину. На белую
мраморную лестницу был положен дощатый помост, и по нему на руках подняли и
повезли в музей в кресле-коляске улыбающегося человека. Это был Кустодиев.
Друзья решили сделать ему подарок.
Художник писал после посещения:
"Был в Эрмитаже, и совсем раздавили меня нетленные вещи стариков. Как
это все могуче, сколько любви к своему делу, какой пафос! И так ничтожно то,
что теперь, с этой грызней "правых" и "левых" и их "лекциями", "теориями" и
отовсюду выпирающими гипертрофированными самомнениями маленьких людей. После
этой поездки я как будто выпил крепкого пряного вина, которое поднимает и
ведет выше всех этих будней нашей жизни: хочется работать много-много и хоть
одну написать картину за всю свою жизнь, которая могла бы висеть хотя бы в
передней музея Старых Мастеров..."
И это писал художник, автопортрет которого наряду с выдающимися
художниками Европы был экспонирован в знаменитой галерее Уффицци во
Флоренции.
"Конечно, – говорил Кустодиев, – надо знать мировое искусство, чтобы не
открывать Америк, не быть провинцией, но необходимо уметь сохранить в себе
нечто свое, родное и дать в этом нечто большое и равноценное тому крупному,
что дает Запад. Ведь и Запад у нас ценит все национально оригинальное (и,
конечно, талантливое)..."

Игорь Грабарь
Вечер у Кировских ворот
Грабарь. Имя его стала почти легендарным. Ученик Репина, современник
Серова, Врубеля, Левитана, друг Бенуа. Автор блестящих исследований по
истории искусства. Крупнейший знаток музейного дела, реставрации. Видающийся
педагог. Академик... Словом, можно долго рассказывать о его феноменальной
по. охвату и эрудиции деятельности.
Небольшого роста, крепко сбитый, с гладко, до блеска, выбритой головой,
необычайно подвижный и в то же время предельно собранный, он поражал
окружающих своей энергией. "Крепыш" – так ласково называл его в письмах
Бенуа. И это очень точно сказано. Казалось, ему не было износу.
Осенний вечер 1947 года. Старая, тихая трехкомнатная квартира в доме у
Кировских ворот. На стенах кар-тдоны. Пейзажи. Около двадцати. Автор -
Левитан.
Эту коллекцию собрал академик Владимир Федорович Миткевич. В столице
его собрание широко извест-нрк Поэтому в доме часто бывают художники,
искусствоведы, коллекционеры. Сегодня у него в гостях Игорь Грабарь.
Обед подходит к концу. Произнесен шутливый тост за "бессмертных"
академиков. Подняты бокалы за святое искусство, за радость видеть и любить
прекрасное.
Осеннее солнце озарило стены просторной комнаты. Мерцают тусклым
золотом рамы. Одинокий луч скользнул по холсту Левитана, зажег краски.
"Летний вечер". Эскиз к знаменитой картине.
Околица. Печальный миг прощания с солнцем. Еще минута, другая, и
последние лучи пробегут по далекому лугу, сверкнут в вершинах леса, зажгут
багрянцем листву берез. Но пока еще розовеет небо. Еще холодные тени не
поглотили ликующие краски. Последняя вспышка зари окрасила бледным золотом
изгородь, деревянные ворота. Тень наступает, она погасила яркий изумруд
трав, покрыла лиловым пологом дорогу... Видно, как спешит нервная кисть
Левитана, чтобы остановить мгновение, запечатлеть миг последнего озарения.
– Полотна Левитана, – произнес Грабарь, – вселяли в нас бодрость и
веру, они заражали и поднимали. Хотелось жить и работать. Этот этюд написан
накануне смерти. Известно, как тяжело угасал Левитан. Он знал о
приближающемся конце. Знал. И все же вопреки запретам врачей работал. Такова
стезя великих – работать до конца!
Грабарь замолчал.
В большой комнате стало тихо. Только слышно было, как тикают старинные
часы.
Грабарь подошел к "Околице". Казалось, он хотел проникнуть в самое
сокровенное.
– А ведь знаете, если бы я послушал Малявина, мне пришлось бы бросить
писать пейзажи. Как-то Малявин зазвал меня к себе в рязанскую глушь. Я
пробыл у него несколько дней, в течение которых мы, конечно, только и
говорили что о живописи, лишь изредка прерывая эти беседы рыбной ловлей, в
которой ничего не понимали: мы были горе-рыболовами. Зато тем неистовее
спорили об искусстве. Малявин меня убеждал:
"Как же ты не понимаешь, что после Левитана нельзя уже писать пейзажи!
Левитан все переписал и так написал, как ни тебе, ни другому ни за что не
написать. Пейзажу, батенька, крышка. Ты просто глупость делаешь. Посмотри,
что за пейзажи сейчас на выставках? Только плохие подделки под Левитана".
Как я ему ни доказывал, что ни пейзаж, ни портрет и вообще ничто в
живописи не может остановиться, а будет расти и эволюционировать, то
понижаясь, то вновь повышаясь, он стоял на своем. На этом мы и расстались.
Пробили старинные часы. Семь мерных ударов нарушили тишину. Грабарь
продолжал:
– На днях ко мне приехали старые знакомые из Ленинграда. Решили
сходить в Третьяковскую галерею. Незаметно оказались у моих ранних пейзажей
"Февральская лазурь" и "Мартовский снег"... Друзья стали расхваливать
качества этих полотен. И вдруг мне стало страшно. Да, страшновато! Я с
какою-то непередаваемой остротой вспомнил встречу с Валентином Серовым и его
последний разговор со мной... Ведь я писал эти холсты сорок лет тому назад,
а ничего подобного по свежести, колориту, ощущению России в пейзаже больше
не создал.
«Февральская лазурь»
Сложен творческий путь Игоря Грабаря. Ученик Репина в Академии
художеств, хорошо владевший кистью, вдруг решает уехать со своим другом
Кардовским в Мюнхен к Ашбэ.
Прошло несколько лет учебы у Ашбэ, а также в академиях Жюльена и
Колоросси в Париже, прежде чем Грабарь понял, что его судьба как художника
сложится только дома, в России.
Через полвека живописец рассказывает:
"Вернувшись в 1901 году в Россию, я был несказанно потрясен красотою
русского пейзажа! Нет нигде таких чудесных березовых рощ, таких
восхитительных весей, золотых осеней, сверкающих инеев".
Утоленная тоска по родине дала чудесные результаты.
"Февральская лазурь". Этот пейзаж написан в 1904 году. Вот как
рассказывает Грабарь об истории его создания:
"В то необычное утро природа праздновала какой-то небывалый праздник -
праздник лазоревого неба, жемчужных берез, коралловых веток и сапфировых
теней на сиреневом снегу. Я стоял около дивного экземпляра березы,
редкостного по ритмическому строению ветвей. Заглядевшись на нее, я уронил
палку и нагнулся, чтобы ее поднять. Когда я взглянул на верхушку березы
снизу, с поверхности снега, я обомлел от открывшегося передо мной зрелища
фантастической красоты: какие-то перезвоны и перекликания всех цветов
радуги, объединенные голубой эмалью неба... Если бы хоть десятую долю этой
красоты передать..."
Взгляните на этот холст, выставленный в Третьяковке, и вы убедитесь,
что мечта Грабаря осуществилась. Это гимн России, белоствольным березам,
сверкающему февральскому небу.
Затем последовала картина "Мартовский снег". И опять живописец с
восторгом вспоминает о тех счастливых днях:
"С этого времени в течение всего февраля, марта и половины апреля я
переживал настоящий живописный запой. Меня очень заняла тема весеннего
мартовского снега, осевшего, изборожденного лошадиными и людскими следами,
изъеденного солнцем. В солнечный день, в ажурной тени от дерева, на снегу я
видел целые оркестровые симфонии красок и форм, которые меня давно уже
манили. В ближайшей к Дугину деревне Чури-ловке я нашел такой именно, нужный
мне уголок. Пристроившись в тени дерева и имея перед собой перспективу
дороги, которую развезло, и холмистой дали с новым срубом, я с увлечением
начал писать. Закрыв почти весь холст, я вдруг увидел крестьянскую девушку в
синей кофте и розовой юбке, шедшую через дорогу с коромыслом и ведрами. Я
вскрикнул от восхищения и, попросив ее остановиться на десять минут, вписал
ее в пейзаж. Весь этюд был сделан в один сеанс. Я писал с таким увлечением и
азартом, что швырял краски на холст как в исступленье, не слишком раздумывая
и взвешивая, стараясь только передать ослепительное впечатление этой
жизнерадостной, мажорной фанфары". Вспомним рассказ Валентина Серова о том,
как он писал "Девушку, освещенную солнцем", как он тогда "вроде с ума
спятил". Как видите, это своеобразное "сумасшествие" не один раз давало в
истории живописи блистательные результаты.
Бурные двадцатые годы
Грабарь глубоко переживал сумбур и шумиху, поднятую на «изофронте»
представителями "супрематизма" и прочих "измов" в начале двадцатых годов. Он
с горечью пишет в своей "Автомонографии" о засилье "леваков", безраздельно
властвовавших в советском искусстве". Все реалистическое, жизненное, даже
просто все "предметное" считалось признаком бескультурья и отсталости.
Многие даровитые живописцы стыдились своих реалистических "замашек", пряча
от посторонних глаз простые, естественные этюды и выставляя только опыты из
кубистических деформаций натуры, газетных наклеек и тому подобные опусы.
Любопытен диалог, имевший место между Луначарским и Грабарем.
Игорь Эммануилович рассказал наркому просвещения, что в искусстве
Запада намечается поворот от кубизма и экспрессионизма к новому культу
реалистического рисунка и формы. И что это весьма мало похоже на то, что
творится в Москве, где "левые" не только не думали о сдаче своих позиций, а,
напротив того, казалось, только еще начинали разворачивать свои силы.
Луначарский, хотя и удивился переменам в искусстве Запада, был
обрадован и даже приветствовал их.
Пораженный Грабарь спросил его:
– Какой же вы после этого защитник футуристов?
– Защищал, пока их душили, а когда они сами начинают душить,
приходится защищать уже этих новых удушаемых.
В те годы художники "левых" взглядов часто затевали бесконечные споры и
дискуссии, ничего не выяснявшие, а лишь все запутывавшие. Грабарь, шутливо
именовавший себя "музейщиком", отчаянно сражался с этими художниками,
стараясь сохранить великое наследие культуры прошлого во имя будущего.
"Мы в нашей коллегии, – вспоминал Грабарь, – переименованной вскоре в
"Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины", всецело
ушли в работу, отвечавшую точному смыслу этого длинного названия. Мы
"музействовали" и "охраняли", тогда как "художники" больше разрушали".
В бурные двадцатые годы художник обрел одно качество – качество бойца.
С гордостью вспоминает он ту пору:
"Одной из первых больших работ "Отдела" была разработка декретов о
национализации крупнейших частных художественных собраний, об учете и охране
исторических ценностей Троице-Сергиевой лавры. Инициатива всех этих декретов
исходила от В. И. Ленина. Они шли от нас к нему на утверждение, и некоторые
из них он лично исправил, значительно усилив ответственность заведующих за
их сохранность. Владимир Ильич вообще придавал чрезвычайное значение делу
охраны исторических сооружений. Он всегда запрашивал, можно ли расширить то
или другое окно в старом здании или пробить дверь где-нибудь, не давая
никаких распоряжений до положительного ответа. Я был в курсе всех этих
переговоров".
Велика роль Грабаря в создании реставрационных мастерских, ныне носящих
его имя. Ведь он и его ученики вернули людям гениальные творения Андрея
Рублева и Феофана Грека, спасли от гибели сотни памятников русской культуры.
Следует вспомнить, с каким увлечением Грабарь читал курс музееведения и
реставрации в Московском университете.
...Ленин. Это имя было свято для художника, в течение шести лет
создававшего свою лучшую композицию.
"В. И. Ленин у прямого провода". Светает. Позади ночь. Долгая,
бессонная. Голубой рассвет брезжит в окне. В комнате с красными стенами
горит электричество. Свет лампы бросает резкие тени. Стынет недопитый стакан
чая.
Ленин диктует телеграмму. Строго, спокойно. Жест его руки тверд. Застыл
в ожидании телеграфист. Ленин на мгновение задумался... ;: :
За окном пробили куранты. Утро.
Еле слышно шелестит лента в руках Николая Петровича Горбунова, еще
мгновение – и прозвучит слово Ленина, которое поведет народ к новой победе.
Художник чрезвычайно деликатно, умно решил композицию. Внешне она
статична, но за кажущимся покоем ясно ощутима бурная жизнь, грозный грохот
боев гражданской войны.
Грабарь понимал важность задачи. Вот строки его воспоминаний:
"Я отдавал себе отчет в том, что моя тема не просто жанр, не случайный
эпизод, а историческая картина. Не о пустяках же говорил Ленин с фронтами во
время... интервенций с севера, востока, юга и запада, говорил ночи напролет,
без сна и отдыха, давая передышки только сменявшимся по очереди
телеграфистам. Совершались события всемирно-исторического значения, в центре
которых был Ленин. Как же его дать? Как показать? В каком плане?
Как происходили ночные переговоры?
По-разному. Ленин обычно брал клубок бесконечной ленты, прочитывал ее
и, бросив на пол, начинал диктовать, прохаживаясь по комнате и-
останавливаясь перед аппаратом и телеграфистом в моменты, требовавшие
наибольшей сосредоточенности и внимания".
Таким и изобразил Ильича художник.
Во имя завтра
Летом 1952 года в одном из больших банкетных залов Москвы собралось
около двухсот человек.
Художники... Маститые, увенчанные славой, и молодые, полные надежд и
желаний. Это профессора и бывшие студенты Московского изоинститута. Они
встретились, чтобы отметить знаменательную дату – десятилетие первого
выпуска вуза, дипломников 1942 года.
Вдруг раздались аплодисменты. Художники приветствовали своих учителей,
любовью и признательностью встретили они профессоров и доцентов, вложивших в
свой труд столько души, передавших им весь свой опыт и мастерство. А учителя
аплодировали уче-никам.
Сияющий, обаятельный Сергей Герасимов открыл вечер, поздравил всех с
юбилеем и под гром аплодисментов предоставил первое слово Игорю Грабарю.
– Друзья мои! – сказал он. – Я прожил долгую, очень долгую жизнь.
Поверьте, самое прекрасное в жизни – молодость. Надо ее ценить. Надо
работать, работать, работать, набираться новых сил, достигать новых высот.
Мне пошел девятый десяток. Я немало пережил и перечувствовал и изрядно
потрудился, приобретя некоторое моральное право давать советы. Я пережил дни
восторгов и горечи, удач и невзгод, подъема и падений, переживал не раз
минуты разочарования в своих силах, бывал близок к отчаянию. Но, памятуя
золотые слова Чайковского, до полного отчаяния не доходил, пересиливая
волевой встряской упадочное настроение. Советую и вам, молодые, сильные,
смелые, пришедшие и идущие нам на смену, в черные дни сомнений не
предаваться отчаянию, а лишь втрое интенсивнее работать, чтобы снова вернуть
веру в себя. Помните, что человек при настойчивости и трудовой дисциплине
может достигнуть невероятных, почти фантастических результатов, " -которых
он никогда и мечтать не дерзал.
В зале стояла тишина. Только глаза молодых худож-ФикЧэв, сияющие и
острые, пытались запечатлеть, за-Йомнить эту встречу.
– Я упомянул здесь, – продолжал Грабарь, – имя великого Чайковского. Я
не раз рассказывал о своей встрече с ним, Я позволю себе повторить этот
исторический для меня разговор.
Представьте Петербург лет этак шестьдесят тому назад и вашего покорного
слугу – студента-юриста, юного и восторженного... Как-то вечером мне
довелось провожать домой Чайковского.
Сначала мы шли молча, но вскоре Петр Ильич заговорил, расспрашивал
меня, почему я, задумав сделаться художником, пошел в университет. Я
объяснил, как умел, прибавив, что я мог бы ему задать тот же вопрос, – ведь
он до консерватории окончил Училище правоведения и по образованию тоже
юрист. Он только улыбнулся, но промолчал.
...Надо ли говорить, каким счастьем наполнилась моя душа в ту
незабываемую лунную ночь на набережной Невы! После долгого молчания я вдруг
отважился говорить, сказал что-то невпопад и сконфузился. Не помню, по
какому поводу и в какой связи с его репликой высказал мысль, что гении
творят только по "вдохновению", имея в виду, конечно, его музыку. Он
остановился, сделал нетерпеливый жест рукой и проговорил с досадой:
– Ах, юноша, не говорите пошлостей,
– Но как же, Петр Ильич, уж если у вас нет вдохновения в минуты
творчества, так у кого же оно есть? – попробовал я оправдаться в какой-то
своей, неясной мне еще оплошности.
– Вдохновения нельзя ожидать, да и одного его недостаточно: нужен
прежде всего труд, труд и труд. Помните, что даже человек, одаренный печатью
гения, ничего не даст не только великого, но и среднего, если не будет адски
трудиться. И чем больше человеку дано, тем больше он должен трудиться. Я
себя считаю самым обыкновенным, средним человеком.
Я сделал протестующее движение рукой, но он остановил меня на
полуслове.
– Нет, нет, не спорьте, я знаю, что говорю, и говорю дело. Советую
вам, юноша, запомнить это на всю жизнь: вдохновение рождается только из
труда и во время труда; я каждое утро сажусь за работу и пишу, и если из
этого ничего не получается сегодня, я завтра сажусь за ту же работу снова, я
пишу, пишу день, два, десять дней, не отчаиваясь, если все еще ничего не
выходит, а на одиннадцатый, глядишь, что-нибудь путное и выйдет.
– Вроде "Пиковой дамы" или Пятой симфонии?
– Хотя бы и вроде. Вам не дается, а вы упорной работой, нечеловеческим
напряжением воли всегда добьетесь своего, и вам все удастся, удастся больше
и лучше, чем гениальным лодырям.
– Тогда выходит, что бездарных людей вовсе нет?
– Во всяком случае, гораздо меньше, чем принято думать, но зато очень
много людей, не желающих или не умеющих работать.
Мы повернули с набережной мимо Адмиралтейства к Невскому и шли молча.
Когда мы остановились у его подъезда, на Малой Морской, и он позвонил
швейцару, я не удержался, чтобы не высказать одну тревожившую меня мысль, и
снова вышло невпопад.
– Хорошо, Петр Ильич, работать, если работаешь на свою тему и по
собственному желанию, а каково тому, кто работает только по заказу? -
решился я спросить, имея в виду свои заказные работы.
– Очень неплохо, даже лучше, чем по своей охоте; я сам все работаю по
заказам, и Моцарт работал по заказу, и ваши боги – Микеланджело и Рафаэль.
Очень неплохо, даже полезно, юноша. Запомните и это.
Грабарь умолк...
– Очень бы советовал там молодым и даровитым художникам, – тихо
промолвил Грабарь, – которые склонны к художественной спеси и чванству, ибо
несколько неосторожно и слишком рано были возведены в гении, оглянуться
назад, на историю искусства, и хотя бы вслушаться в то, что мне некогда
говорил Чайковский.
Я думаю, они не будут на меня в обиде за этот совет...
Мы, сидящие в этом зале, – закончил Грабарь, – кое-что сделали. Да, мы
кое-что сделали, но в искусстве, как и в жизни, надо мечтать и верить, что
главное – впереди... Я хочу еще раз повторить: мы должны работать, работать,
работать во имя нашей Родины, нашего светлого завтра, и в вас, в молодежи,
вся наша крепкая сегодняшняя надежда!

Петр Кончаловский
Москва 1942 года. Тускло светят фиолетовые, синие фонари. Суровы темные
громады домов. В сером вьюжном небе шарит одинокий прожектор. Пустынно.
Ночь глядит в заклеенные крест-накрест бумагой окна. В квартире тихо,
все спят. Вдруг покой прорезает резкий звонок. В передней комендантский
патруль в белых дубленых полушубках. Проверка документов. Ручной фонарик
осветил фигуру хозяина.
– "Петр Петрович Кончаловский. Год рождения 1876-й", – читает боец. -
Пожалуйста, – возвращает он паспорт.
Патруль прошел в комнату к сыну, Михаилу, -все в порядке. Затем идут в
столовую, и луч фонарика внезапно озаряет лежащего человека.
– А это у вас кто тут? – спрашивает красноармеец.
– Этот живет у нас без прописки, – отвечает Михаил.
Пучок света выхватил из мрака бледное молодое лицо с темными большими
глазами, скользнул по золоту эполет, сверкнул по рукояти сабли, сжатой
энергичной рукой, замерцал на газырях и погас, запутался в косматой черной
бурке. В темноту комнаты будто ворвался голубой кавказский рассвет. Стала
видна запряженная бричка, а вдали изумрудная долина, покрытая прохладной
тенью. Светает. Мирные дымы встают над аулом. Вверху в грозном одиночестве
ослепительно белый, снежный Казбек.
– Лермонтов, – узнают бойцы, – кто это написал?
– Отец, – отвечает Михаил.
А потом они вместе с художником долго стоят у большого холста.
– Крепко работаете, – взволнованно произносит молодой боец и пожимает
руку Петру Петровичу.
– Простите за беспокойство, желаем быть здоровым.
Война. Кончаловский отлично знает, что это такое. В 1914 году он,
русский прапорщик-артиллерист, выходил из окружения под Леценом, был ранен.
Три года фронта.
Шестидесятишестилетний мастер не покинул любимый город, не уехал в
эвакуацию. Он, как всегда, на посту, в мастерской. Пишет ежедневно, упорно,
вдохновенно. Но наступает зима, в студии становится холодно. И художник
решает перенести картину "Лермонтов", над которой работает, на квартиру.
Правда, комната мала, нет возможности отойти от холста, и приходится писать
почти вслепую. Правда, и здесь нетепло, и живописец трудится в полушубке и
перчатках. Он работает жадно, помногу, и невзгоды не могут помешать ему.
...Старый особняк в Собиновском переулке. Дом Совинформбюро. Здесь в
суровое военное время порою встречались писатели, композиторы, художники,
музыканты – Алексей Толстой, Леонид Леонов, Дмитрий
Шостакович и многие другие. Это были литературные вечера и концерты, на
которых можно было услышать музыку Рахманинова и Прокофьева в блестящем
исполнении тогда еще малоизвестного Святослава Рихтера или вновь насладиться
волшебным голосом Обуховой, певшей русские романсы.
"На один из таких вечеров, – вспоминает искусствовед Н. И. Соколова, -
мы пригласили Петра Петровича Кончаловского, и он с большой охотой
согласился прийти.
– Могу притащить к вам "Лермонтова", – сказал он.
Зал полон. Рядом с роялем мольберт, на котором в золотой раме полотно.
Им любуются. Иные спорят. Все ждут концерта. Ждут приезда великой Обуховой,
а ее все нет.
И тут произошло неожиданное. К "Лермонтову" подошел Иван Семенович
Козловский и запел "Белеет парус одинокий".
Слова поэта, чарующий голос певца, обаятельный образ Лермонтова, его
задушевное, немного печальное лицо, глядевшее с полотна в зал, – все это
слилось воедино, в одно великое слово – Родина".
...На московских вернисажах пятидесятых годов нельзя было не заметить и
не залюбоваться одной супружеской парой. Ни сутолока, ни обычный для таких
дней шум будто не влияли на их постоянно приветливое, доброе состояние.
Огромный, на голову выше многих, с мягким, почти детским выражением лица,
никак не сочетавшимся с крутым лбом, изборожденным резкими морщинами,
прямой, широкоплечий мужчина с большими, сильными руками всегда шел рядом с
невысокой женщиной с радушным и открытым лицом, привлекательной той особенно
милой сердцу простотой и душевностью, которая присуща русским красавицам.
Это были Ольга Васильевна и Петр Петрович Кон-чаловские.
10 февраля 1902 года в Москве в церкви в Хамовниках венчались Ольга
Васильевна и Петр Петрович. Впереди их ожидал более чем полувековой путь,
полный радостей и огорчений, побед и неудач... Но в то светлое морозное утро
они не ведали обо всем этом ровным счетом ничего. Они были молоды и любили
друг друга. На их свадьбе были В. А. Серов и М. А. Врубель, а их брак
благословил сам В. И. Суриков – отец Ольги Васильевны.
Судьба, казалось, баловала Кончаловского. Еще мальчиком в доме отца он
познакомился с Суриковым, К. Коровиным, Врубелем, Серовым. Сохранился
рисунок Врубеля к "Демону", датированный 1891 годом, на котором стоит
дарственная надпись: "Пете Кончалов-скому". Первый этюдник с полным набором
масляных красок ему подарил Константин Коровин, которого юный Петр обожал.
На первых порах его живопись была похожа на коровинскую. Но лишь на первых
порах. Очень скоро молодой художник вступит на тернистый путь экспериментов
и исканий и забудет многочисленные похвалы почитателей его юного дарования,
среди которых был сам Суриков.
В своих дневниках Ольга Васильевна записывает: "...внутренний мир Петра
Петровича был такой сложный, что до 1908 года он не был удовлетворен ни
одной своей картиной. Работал он много, усидчиво, но почти каждую работу
ждал один конец: он ее уничтожал..."
Вот что писал Кончаловскому В. А. Серов: "Рад за Вас, а если хотите,
так и завидую, что же Вам еще? Талант есть, свежесть, бодрость, энергия..."
Но вернемся к записям Ольги Васильевны.
"Пришло время окончания Академии, надо было писать картину на конкурс.
Мы поехали на Волгу, в Плес, жили на берегу. Петру Петровичу захотелось
написать людей на воздухе.-. Когда картина была кончена, то стало ясно, что
есть умение и мастерство и должен быть успех. Но Петру Петровичу казалось,
что так нельзя начинать жизнь и тут же ее кончать на каком-то среднем
благополучии. Он спросил меня: "Не разрезать ли эту картину на куски, чтобы
порвать с ней?" И я ответила: "Режь, Петечка!" Он взял перочинный ножик и
разрезал картину по диагонали на куски. Ему стало легче..."
Какое огромное чувство, какая вера в талант любимого человека скрыты в
этих строках. Но все же на конкурс необходимо было представить работу. Ею
стала картина "Рыбаки тянут сеть", написанная в Архангельске. За нее
Кончаловский был удостоен звания художника. Окончив академию, он становится
живописцем-профессионалом. Вот как описывает Петр Петрович один из самых
бурных периодов своей долгой жизни:
"Итак, с 1907 года начинается моя художественная деятельность; тут
определились вполне мои искательские стремления и взгляды на искусство. С
1909 года начинаются мои регулярные выступления на ряде выставок! на
"Товариществе", "Золотом руне", "Новом обществе художников", "Бубновом
валете", в числе основателей которого был я, и на "Мире искусства".
Эта деятельность живописна нисколько не охладила темперамент мастера.
Обратимся вновь к записям Ольги Васильевны.
"Молодой, буйной голове в 1912 году казалось, что мимо Венеции можно
проехать, не заехав в нее, прямо к себе на родину и там создавать какие-то
глыбы. Я была ему подругой. Ведь, может быть, для того, чтобы написать
тонкий облик Дуловой, улыбку Наташи, тонкость цветов, чтобы кисть была
упругой и послушной, ему необходимо было ворочать каменными глыбами".
Первая мировая война застала художника в Красноярске, где он гостил у
Суриковых. Тут он вступил в стрелковый артдивизион, в котором провоевал до
конца войны.
"Революцию мы воспринимали как избавление от чего-то рабского, хотя
первые два года были очень трудны и полны лишений. Но мы были молоды и
счастливы".
..1923 год. Кончаловский создает свой знаменитый "Автопортрет с женой".
Он откровенно пишет рембрандтовский мотив. Живопись картины, полнокровная,
сочная, материальная, показывает нового Конча-ловского, продолжающего
высокие традиции реалистической школы. "Автопортрет" стал вехой во всем его
творчестве. Символично, что в этой картине живописец воспевает супружескую
любовь. Художник поднимает бокал за победу и счастье, завоеванные рука об
руку с женой и другом.
Проезжая однажды по Красной площади вместе с писателем Всеволодом
Ивановым, Кончаловский рассказал ему любопытную историю. Как-то Суриков,
вскоре по окончании "Утра стрелецкой казни", стоял у окна Исторического
музея и глядел на площадь. Подошел некий искусствовед и спросил: "Скажите,
Василий Иванович, с каким историком вы советовались, когда писали "Утро
стрелецкой казни"? Суриков, указывая на главы Василия Блаженного, ответил:
"Я с ними советовался. Они ведь все это видели".
Думается, что подобные чувства испытывал сам Кончаловский, работая над
пейзажами в Новгороде.
"Я почти не знал нашей страны, – пишет художник. – Мало интересовался
ею, и тем сильнее она захватывала теперь меня какой-то особой теплотой,
своеобразной, чисто русской красотой. Этот "захват" и отразился, разумеется,








