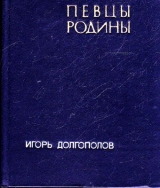
Текст книги "Певцы Родины"
Автор книги: Игорь Долгополов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
своего любопытства и мешать мне работать..."
Что же это была за картина, которая уже в мастерской вызывала такой
интерес у публики? Знаменитая "Иван Грозный и сын его Иван"... Репин
вспоминает о страшном напряжении, которое он испытал:
"Я работал завороженный. Мне минутами становилось страшно. Я
отворачивался от этой картины, прятал ее. На моих друзей она производила то
же впечатление. Но что-то гнало меня к этой картине, и я опять работал над
ней".
Наконец полотно было выставлено. Вот один из отзывов об "Иване",
написанный в письме к автору Львом Толстым:
"Третьего дня был на выставке и хотел тотчас же писать Вам, да не
успел. Написать хотелось вот что, – так, как оно казалось мне: молодец
Репин, именно молодец. Тут что-то бодрое, сильное, смелое и попавшее в цель.
На словах много бы сказал Вам, но в письме не хочется умствовать... Он самый
плюгавый и жалкий убийца, какими они должны быть, и красивая смертная
красота сына. Хорошо, очень хорошо. И хотел художник сказать значительное.
Сказал вполне ясно. Кроме того, так мастерски, что не видать мастерства. Ну,
прощайте, помогай Вам бог. Забирайте все глубже и глубже".
Бонч-Бруевич вспоминает:
"Еще нигде не описаны те переживания революционеров, те клятвы, которые
мы давали там, в Третьяковской галерее, при созерцании таких картин, как
"Иван Грозный и сын его Иван", как "Утро стрелецкой казни", как "Княжна
Тараканова", как та картина, на которой гордый и убежденный революционер
отказывается перед смертной казнью принять благословение священника... Мы
долго-долго смотрели на судьбу политических – нашу судьбу – "На этапе" и
близко понимали "Бурлаков".
Такова была роль картин Репина. Они будили умы, будоражили души,
заставляли пристальнее вглядываться в происходящее. Трудно переоценить
прогрессивную роль полотен великого живописца.
Репин не только высказывал свое мнение в разговорах и письмах, излагая
свое резкое отношение к самодержавию. Именно в самую тяжкую пору реакции
художник выставляет такие, ставшие впоследствии хрестоматийными картины, как
"Не ждали" (1884) и "Иван Грозный..." (1885).
Судьба "Ивана Грозного..." драматична. Ее снимают с экспозиций и вновь
выставляют. Психически больной, некто Балашов, бросается с ножом на холст и
наносит картине тяжелые повреждения в трех местах.
Сам Репин так рассказывает об этом происшествии: "Это событие произошло
в дни празднования трехсотлетия дома Романовых... А картина направлена была
против монархизма. На нее и ополчились. Результатом всего этого было то, что
Балашов разрезал картину с целью выслужиться".
«Арест пропагандиста»
"Личные мои отношения с Ильей Ефимовичем были дружеские. Работая
заведующей техникой Петербургского комитета партии, я не раз обращалась к
Репину за материальной помощью. В число моих обязанностей входили и финансы.
Деньги были нужны для так называемого политического Красного Креста, то есть
для оказания помощи политическим заключенным или ссыльным. Никогда Илья
Ефимович не отказывал мне.
В бытность его уже академиком я пользовалась его мастерской в Академии
художеств на Васильевском острове как явкой, то есть квартирой, куда в
определенный день и час могли прийти ко мне по своим делам товарищи,
нуждающиеся в чем-либо по части Петербургского комитета партии..."
Эти слова ветерана нашей партии Е. Д. Стасовой окончательно разрушают
легенду о якобы Существовавшей аполитичности Репина.
В 1891 году художник выставляет свою картину "Арест пропагандиста".
Слово "выставляет", правда, не очень правильно отражает суть дела. Картину
не хотели допустить к показу. Дело дошло до царя.
Репин вспоминает, что устроители выставки пригласили государя осмотреть
экспозицию накануне вернисажа: "Александр III все рассмотрел". И далее:
"Арест пропагандиста" вытащили ему, и тот рассматривал и хвалил исполнение,
хотя ему показалось странным, почему это я писал так тонко и старательно".
Скажем прямо, его величество что-то недосмотрел в картине, где
изображен не кто иной, как противник его собственной власти.
Репин недвусмысленно писал:
"Невозможно, чтобы европейски образованный человек искренне стоял за
нелепое, потерявшее всякий смысл в нашей сложной жизни самодержавие, этот
допотопный способ правления годится только еще для диких племен, неспособных
к культуре". Наконец выставка открыта. Автор картины с удовольствием
резюмирует: .....
"Моя выставка здесь делает большое оживление. Народу ходит много. Залы
светлые, высокие, погода чудная, солнечная. Много студенчества, курсисток и
даже ремесленников толпится в двух залах и рассыпается по широкой лестнице.
"Арест пропагандиста" стоит, и от этой картинки, по выражению моего
надсмотрщика Василия, "отбою нет". Жаль, зала выставки выходит на солнечную
сторону и сторы темнят и портят свет. Вчера, в первый день открытия, было
500 человек". Успех картины в Москве был настолько велик, что либеральная
"Русская мысль" вынуждена была признать: "Необыкновенно выразительна и
сильное впечатление производит небольшая картина "Арест пропагандиста".
Для того чтобы понять, каковы были политические убеждения Репина,
достаточно познакомиться с описанием его встречи с рабочими Петрограда.
"Илья Ефимович очень подробно и живо интересовался условиями нашей
работы, быта. Мы без всяких прикрас рассказали ему об условиях жизни
рабочих, об их борьбе за свои права, о стремлении к званию, о расправах
свирепой царской реакции с рабочим движением. Илья Ефимович выслушал нас с
глубоким вниманием и интересом. Нужно было видеть, с какой искренней
взволнованностью и возмущением он говорил нам: "Как вы можете терпеть все
это! Нет, так больше продолжаться не может!" , Эти слова великого художника
свидетельствовали о том, что идея свержения царизма настоятельно назрела не
только среди рабочих, но и совпадала с чаяниями лучших представителей
интеллигенции.
«Запорожцы»
«Красота – дело вкуса, – говорил Репин, – для меня она вся в правде».
Но напрасно подумают любители красоты и совершенной формы в живописи,
что художник отрицал пластические качества в искусстве. Наоборот, никто так
категорично не говорил о необходимости, насущности высокой формы в живописи:
"Глубокая идея становится внушительной только в совершенной форме. Только
благодаря форме она возвышается до великого значе-ния. Посягательство на
возвышенные идеи доморощенными средствами вызывает брезгливое чувство".
"Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Это, пожалуй, одно из самых
фундаментальных творений Репина, в которое художник вложил много сил и
энергии. Этот большой холст писался с некоторыми перерывами с 1878 по 1891
год.
"Я уже несколько лет пишу свою картину и, быть может, еще несколько лет
посвящу ей, – говорил Репин, – а может случиться, что я закончу ее и через
месяц. Одно только страшит меня: возможность смерти до окончания
"Запорожцев".
Сотни подготовительных этюдов, эскизов, рисунков, специальные поездки
для изучения материала – все говорит о большом чувстве, владевшем
живописцем. Это чувство – любовь к своим персонажам.
"Нет, я русский человек и кривить душой не могу.
Я люблю запорожцев, как правдивых рыцарей, умевших постоять за свою
свободу, за угнетенный народ..."
И это чувство восторга, преклонения и любви художника к своим героям
мгновенно передается зрителям.
Само полотно слишком известно, чтобы вновь рассказывать о письме
грозного султана и о великолепном ответе, сочиненном ему вольными рыцарями.
Запорожцы... Вот они перед нами во всей своей красе и удали. Галерея
типов совершенно оригинальных, неподражаемых, легендарных. Можно подолгу
разглядывать их загорелые, обветренные степными ветрами, опаленные солнцем,
изрубленные в жестоких схватках, но все же дьявольски красивые, источающие
силу, энергию, бьющую через край, и еще раз красивые лица. Вся эта пестрая
толпа в движении, в ней нет равнодушных, все увлечены сейчас сочинением
ответа султану. Это боевое товарищество людей простых, сильных, беспредельно
храбрых и честных. Они – цвет и гордость Запорожья.
Какие характеры, могучие и богатырские, создала кисть живописца, какие
яркие национальные типы! Репин вложил в картину весь свой опыт режиссера и
психолога, расположив людскую громаду так непроизвольно и живо, что зритель
ни на миг не испытывает чувства натяжки и неловкости.
Это итог не минутного вдохновения, а результат огромного труда и
поиска. Десятки, сотни раз Репин переписывал холст, перемещая и передвигая
своих героев. Современники с чувством восхищения и... ужаса вспоминали о
навсегда погибших, записанных неумолимым художником замечательных фигурах.
Курятся дымы костров, день клонится к вечеру. В ушах гудит от гомона,
криков и громоподобного смеха запорожцев. Холст – идеальный пример
"завороженного мига", когда художник силой своего дара переносит к нам, в
сегодня, картину далекого прошлого.
Репин недаром до конца дней своих не расставался с этой темой. Он всю
жизнь, со дня рождения, был в душе земляком казаков, сколько бы он по
скромности от этого ни отрекался.
* * *
"В душе русского человека есть черта особого скрытого героизма. Это -
внутрилежащая, глубокая страсть души, съедающая человека, его житейскую
личность до самозабвения. Такого подвига никто не оценит: он лежит под
спудом личности, он невидим. Но это – величайшая сила жизни, она двигает
горами; она руководила Бородинским сражением; она пошла за Мининым; она
сожгла Смоленск и Москву. И она же наполняла сердце престарелого Кутузова".
Эти слова приоткрывают нам самую сокровенную, самую глубоко хранимую
тайну Репина. Великий художник, всю жизнь отдавший служению одной правде,
должен был таиться под личиной простоватого, чудаковатого чугуевца.
Глядя на автопортрет Репина, написанный в последние годы жизни в
усадьбе "Пенаты", вдруг явственно видишь, как художник вдруг вырастает в
богатыря, создавшего картины, восславившие наше искусство, нашу Отчизну!

Василий Суриков
Суриков... Создатель грандиозных картин-эпопей, шекспировских по накалу
страстей и мощи характеров героев. Его монументальные полотна необъятны. Мы
любуемся богатырской красой русской природы, ширью могучих рек, напевной
удалью былинных сказов. Глядя на полотна Сурикова, ощущаем истинного героя
истории – народ. Мастер показывает всю драматичность, порою трагедийность
страниц русской национальной летописи. Всю меру страданий людских, страданий
народа, который отвечал за все и за всех.
Суриков оставил потомкам широкую панораму истории России. Выразил
пластически, ярко, объемно главное действующее лицо грандиозной эпопеи. Не
грозных царей, не самодержавных благодетелей, не государей победоносных. "Я
все народ представлял, – говорил художник, – как он волнуется, подобно "шуму
вод многих".
Впервые в русском, да и, пожалуй, в мировом искусстве героем картины
стал народ. И в этом поистине новаторская роль Сурикова. Мастер развернул
перед зрителем новую красоту народного эпоса, глубоко чуждого лакированным
картинам признанных корифеев. ;
Это был титанический труд, которого с лихвой хватило бы на творческую
жизнь доброго десятка художников. Но это еще и подвиг первопроходца,
преодолевшего косность и реакционность монархического аппарата, свято
охранявшего принципы создания псевдоисторических картин, восхвалявших
царизм.
Зритель впервые увидел не костюмированных натурщиков, изображавших ту
или иную сцену из жизни государей и их верноподданных, не привычных
статистов в стиле "рюс", нарумяненных и напомаженных. Нет. В тихую заводь
официальной исторической живописи ворвались простые люди суриковских
полотен, перед зрителем предстала сама правда истории. Надо было обладать
силой богатырской, чтобы преодолеть, разрушить пошлый, мещанский историзм
заказной живописи, угождавшей вкусам властей предержащах. Появилась галерея
образов, созданных мастером, не только владевшим колоритом, пластикой,
композицией, восходящими к самым вершинам мирового искусства, но и
живописцем-драматургом. Это были полотна, глубочайшие по психологическим
контрастам и пониманию истории, в которых художник заставил жить и
действовать десятки, сотни людей.
Репин взволнованно рассказывает об ощущении, которое получал зритель:
"Впечатление от картины так неожиданно и могуче, что даже не приходит
на ум разбирать эту... массу со стороны техники, красок, рисунка. Все это
уходит как никчемное; и зритель ошеломлен этой невидальщиной. Воображение
его потрясено".
Суриков обладал даром проникновения в самую суть, самую толщу истории,
мог очень свежо и честно рассказать о полюбившихся ему героях.
"Идеалы исторических типов воспитала во мне Сибирь с детства, она же
дала мне дух, и силу, и здоровье", – говорил о себе живописец.
Однако наивно было бы предполагать, что картины Сурикова появились в
результате некоего колдовского наития или родились под влиянием интуитивных
движений души сибирского самородка. Творчество Сурикова – драгоценный сплав
русской правдивой, горячей души, огромного труда, культуры, жизненного
опыта.
Молодой Суриков глубоко и жадно изучал творения мастеров Возрождения.
Он восторгался кистью Веронезе, Тинторетто и Тициана. Но не только
восторгался. Он изучал колорит их полотен, учился у них великому умению
населять холсты десятками, сотнями людей, дотошно исследовал законы
композиции их картин.
Посещая музеи Европы, молодой мастер мог часами находиться перед
шедеврами Рембрандта и Веласкеса, пытаясь проникнуть в тайны мастерства
художников. Вот как писал он об этом своему учителю Павлу Чистякову:
"Я хочу теперь сказать о картине Веронезе "Поклонение волхвов" – какая
невероятная сила, нечеловеческая мощь могла создать эту картину? Ведь это
живая натура, задвинутая в раму... Видно, Веронезе работал эту картину...
без всякой предвзятой манеры, в упоении восторженном. В нормальном,
спокойном духе нельзя написать такую дивную по колориту вещь. Хватал, рвал с
палитры это дивное мешаво, это бесподобное колоритное тесто красок...
У них есть одна вещь, я ее никогда не забуду, – есть Рембрандт (женщина
в красно-розовом платье у постели), такая досада – не знаю, как она в
каталоге обозначена. Этакого заливного тона я ни разу не встречал у
Рембрандта. Зеленая занавесь, платье ее, лицо ее по лепке и цветам -
восторг. Фигура женщины светится до миганья. Все окружающие живые немцы
показались мне такими бледными и несчастными.
"Кто меня маслом по сердцу обдал, то это Тинто-ретго. Говоря
откровенно, смех разбирает, как просто, неуклюже, но как страшно мощно
справлялся он с портретами своих краснобархатных дожей, что конца ие было
моему восторгу. Ах, какие у него в Венеции есть цвета его дожеских ряс, с
какой силой вспаханных и проборонованных кистью... После его картин нет мочи
терпеть живописное разложение".
Далее Суриков пишет о портрете папы Иннокентия X Веласкеса в палаццо
Дсфио: "Здесь все стороны совершенства есть – творчество, форма, колорит,
так что каждую сторону можно отдельно рассматривать и находить
удовлетворение. Это живой человек... Для меня все галереи Рима – это
Веласкеса портрет. От него невозможно оторваться. Я с ним перед отъездом из
Рима прощался, как с живым человеком".
Суриков был человеком высокой культуры. Известна его любовь к музыке.
Еще юношей он превосходно играл на гитаре, любил петь старинные песни, позже
стал играть на фортепьяно. Охотно посещал концерты, где исполняли Бетховена,
Баха, Шопена. Мастер глубоко изучал эпические строки Гомера, вчитывался в
романы Бальзака.
Суриков всегда стремился к постоянному изучению современного искусства.
Это станет особенно понятно, если мы ознакомимся с открытым письмом
художника, появившимся в газете "Русское слово" в феврале 1916 года по
поводу новой экспозиции картин в Третьяковской галерее, сделанной И. Э.
Грабарем и освистанной и осмеянной рутинерами.
"Волна всевозможных споров и толков, поднявшаяся вокруг Третьяковской
галереи, не может оставить меня безучастным и не высказавшим своего мнения.
Я вполне согласен с настоящей развеской картин, которая дает возможность
зрителю видеть все картины в надлежащем свете и расстоянии, что достигнуто с
большой затратой энергии, труда и высокого вкуса. Раздавшийся лозунг "быть
по-старому" не нов и слышался всегда во многих отраслях нашей общественной
жизни.
Вкусивший света не захочет тьмы.
В. Суриков".
Однако нам пора вернуться почти на сорок лет назад, когда Суриков
заявил о себе первым полотном.
Вот как рассказывал сам автор об истории создания картины:
– "Стрельцы" у меня в 1878 году начаты были, а закончены в восемьдесят
первом... Я в Петербурге еще решил "Стрельцов" писать. Задумал я их, еще
когда в Петербург из Сибири ехал. Тогда еще красоту Москвы увидел... В
Москве очень меня соборы поразили. Особенно Василий Блаженный: все он мне
кровавым казался... Как я на Красную площадь пришел, все это у меня с
сибирскими воспоминаниями связалось... Когда я их задумал, у меня все лица
сразу так и возникли... Помните, там у меня стрелец с черной бородой – это
Степан Федорович Торгошин, брат моей матери. А бабы это, знаете ли, у меня и
в родне были такие старушки... А старик в "Стрельцах" – это ссыльный один,
лет семидесяти. Помню, шел, мешок нес, раскачивался от слабости и народу
кланялся. А рыжий стрелец – это могильщик, на кладбище я его увидал. Я ему
говорю: "Пойдем ко мне, попозируй". Он уже занес было ногу в сани, да
товарищи стали смеяться. Он говорит: "Не хочу". И по характеру ведь такой,
как стрелец. Глаза глубоко сидящие меня поразили. Злой, непокорный тип.
Кузьмой звали. Случайность: на ловца и зверь бежит. Насилу его уговорил. Он,
как позировал, спрашивал: "Что, мне голову рубить будут, что ли?" А меня
чувство деликатности останавливало говорить тем, с кого я писал, что я казнь
пишу.
А дуги-то, телеги для "Стрельцов" – это я по рынкам писал... На
колесах-то грязь. Раньше-то Москва немощеная была, грязь была черная.
Кое-где прилипнет, а рядом серебром блестит чистое железо... Всюду красоту
любил.
"Отвлеченность и условность – это бичи искусства", – часто говорил
художник.
Суриков своими творениями с первых шагов утверждал полнокровное,
реальное ощущение жизни. Глядя на его холсты, словно видишь самую жизнь
народную.
"Утро стрелецкой казни". Красная площадь. Хмурое утро. Вот-вот наступит
день. Страшный день... Людно. Толпы зевак заполнили Лобное место, забрались
высоко на шатровые башни. Неяркое солнце бессильно пробить свинцовый полог
неба. У подножия Василия Блаженного на телегах стрельцы. Бунтовщики. Их ждет
неминуемая лютая казнь... Застыли зеваки. Огромная площадь притихла. Лишь
слышен сухой лязг сабли пре-ображенца да тяжелая поступь ведомого на смерть
стрельца. Ни стонов, ни вздоха. Только живые, трепетные огоньки свечей
напоминают нам о быстротечности последних зловещих минут...
Крепко сжал в могучей длани свечу рыжий стрелец в распахнутой белой
рубахе. Непокорные кудри обрамляют бледное, исступленное лицо. Жестокие
пытки не сломили его. Непокоренный, яростный, он вонзил свой гневный взор в
бесконечно далекого, окруженного свитой и стражей Петра. Царь видит его... И
этот немой, полный ненависти диалог среди бушующего моря страстей
человеческих страшен.
Репин первый оценил "Стрельцов". Он сказал автору: "Впечатление
могучее".
Третьяков написал Репину в Петербург письмо, где спрашивал: "Очень бы
интересно знать, любезнейший Илья Ефимович, какое впечатление сделала
картина Сурикова на первый взгляд и потом?"
"Могучая картина", – вновь повторил Репин в ответном письме.
Третьяков купил полотно. Учитель Сурикова Чистяков благодарит его:
"Радуюсь, что вы приобрели ее, и чувствую к вам искреннее уважение и
благодарность. Пора и нам, русским художникам, оглянуться на себя; пора
поверить, что и мы люди..."
"Стрельцы" вызвали бурю на страницах прессы. Рецензенты из реакционных
газет обрушили на молодого мастера поток брани. Приведем лишь строки из
монархической газеты "Русь", органа реакционеров славянофилов:
"Явная тенденциозность сюжета этой картины вызвала громкие и
единогласные похвалы "либеральной прессы", придавшей казни стрельцов г.
Сурикова "глубокий, потрясающий, почти современный смысл" и считавшей ее...
чуть ли не самой лучшей картиной на всей выставке... между тем она полна
столь грубых промахов, что ее на выставку принимать не следовало. Уже выбор
самого сюжета... свидетельствует о раннем глубоком развращении
художественного вкуса у этого художника, впервые выступающего на поприще
искусства".
Великолепно ответил на выступление газеты Репин. Вот что он писал
Стасову:
"Прочтите критику в газете "Русь"... Что за бесподобный орган! О, Русь!
Русь! Русь! Куда ты мчишься?!! Не дальше, не ближе, как вослед "Московских
ведомостей", по их проторенной дорожке. "При-ка-за-ли", вероятно. Нет, хуже
того, – это серьезно убежденный холоп по плоти и крови".
Невозможно было отрицать, что Суриков создал шедевр. И волей-неволей
приходилось признавать победу молодого живописца-реалиста над салонными
корифеями.
"После Сурикова работы Неврева в историческом роде кажутся бледными,
раскрашенными безвкусно литографиями".
Это была победа. Победа правды над фальшью и банальностью...
Суриков всегда подолгу работал над композицией своих полотен.
"Главное для меня композиция. Тут есть какой-то твердый, неумолимый
закон, который можно только чутьем угадать, но который до того непреложен,
что каждый прибавленный или убавленный вершок холста или лишняя поставленная
точка разом меняют всю композицию... В движении есть живые точки, а есть
мертвые. Это настоящая математика. Сидящие в санях фигуры держат их на
месте. Надо было найти расстояние от рамы до саней, чтобы пустить их в ход.
Чуть меньше расстояние – сани стоят. А мне Толстой с женой, когда "Морозову"
смотрели, говорят: "Внизу надо срезать, низ не нужен, мешает". А там ничего
убавить нельзя – сани не поедут".
Мастер далеко не всем показывал свои картины в процессе их создания.
Среди этих немногих был Лев Толстой. Вот строки из прекрасной книги внучки
Сурикова Натальи Кончаловской "Дар бесценный", где она рассказывает о
встрече двух великих художников:
"Утром к Суриковым зашел Толстой. В этот раз он был в просторной темной
блузе, подпоясанной простым ремнем, в валенках, с которых он старательно
сбивал снег в передней. Он вошел, отирая платком с бороды растаявший снег. И
пахло от него морозной свежестью. Лев Николаевич долго сидел в молчании
перед картиной, словно она его захватила всего и увела из мастерской.
– Огромное впечатление, Василий Иванович! – сказал он наконец. – Ах,
как хорошо это все написано! И неисчерпаемая глубина народной души, и
правдивость в каждом образе, и целомудрие вашего творческого духа...
Толстой помолчал, потом, улыбнувшись и указав в правый угол картины,
заметил:
– Я смотрю – мой князь Черкасский у вас оказался. Ну точь-в-точь он!
– Вы же сами мне его сюда прислали, Лев Николаевич! – пошутил Суриков.
– А скажите, как вы себе представляете, – Толстой быстро поднялся со
стула, – стрельцов с зажженными свечами везли на место казни?
– Думаю, что всю дорогу они ехали с горящими свечами.
– А тогда руки у них должны быть закапаны воском, не так ли, Василий
Иванович? Свеча плавится, телегу трясет, качает... А у ваших стрельцов руки
чистенькие.
Суриков оживился, даже обрадовался:
– Да, да! Как это вы углядели? Совершенно справедливо...
Так порою рождались драгоценные детали картины, где "одна линия, одна
точка фона и та нужна".
Прошло время... Суриков создал "Боярыню Морозову". И снова полотно
вызвало поток самых разительных по контрасту мнений.
"Боярыня Морозова". Гордость Третьяковской галереи. Одна из вершин
русской живописи. Суриков впервые показал свой холст на выставке
передвижников в 1887 году.
В те дни эта картина, равная по звучанию музыке "Бориса Годунова" и
"Хованщины" Мусоргского, разделила, как это ни печально, судьбу всех
новаторских произведений живописцев XIX века... Достаточно вспомнить хулу и
осуждения, вызванные полотнами Делакруа и Курбе, чтобы установить некую
преемственность воздействия талантливого нового на реакционные круги
салонных рутинеров, угождавших вкусам сильных мира сего.
"Боярыня Морозова"... Будто огромное окно распахнул мастер в сверкающую
холодом зимнюю, чарующую Русь. Всю радугу песенных красок – от червонных до
бирюзовых и шафранных, от алых и багряных до кубово-синих и лазоревых -
представил кудесник Суриков. Всю гамму сложнейших психологических
состояний – от напряженной, исступленной ненависти до тихой грусти
сострадания. Буйное веселье и злое ехидство, веру и безверие, тьму и свет,
доб ро и зло. Все это собрал художник и заключил в сверкающий оклад снежной
красы. Строгой и много-звонной.
Суриков нашел свой единственный и неповторимый ключ в решении
грандиозной по сложности колористической задачи "Морозовой". Он написал
холст, изображающий древнюю Русь самым современным методом, так называемым
пленэром, открытым импрессионистами.
Сочетание монументального по форме, силуэту, композиции холста с
современной реалистической манерой живописи позволило создать неповторимый
шедевр мирового искусства, который и вызвал на первых порах такой каскад
противоречивых мнений.
Итак, обратимся к прессе и строкам из писем тех лет.
В газете "Новое время" некий А. Дьяков, отдав дань некоторым качествам
"Морозовой", писал:
"Истории, точности факта художник пожертвовал всем: эстетическим
чутьем, красотой произведения, – и картина вышла положительно грубою... Все
грубо, топорно, дико".
Читая эти строки, невольно вспоминаешь рецензии на великие творения
Жерико, Делакруа, Курбе, Мане, напечатанные во французских газетах.
Но Дьяков идет дальше своих европейских коллег: он ставит под сомнение
надобность писать правду.
"Но при всех несомненных и очень крупных достоинствах картина Сурикова
невольно вызывает вопрос: следует ли писать историческую картину, строго
придерживаясь данной эпохи... В интересах одной грубой правды".
Но обратимся к мнениям других.
Стасов писал: "Суриков создал теперь такую картину, которая, ио-моему,
есть первая из всех наших картин на сюжеты из русской истории. Выше и дальше
этой картины и наше искусство, то, которое берет задачей изображение старой
русской истории, не ходило еще... необыкновенные качества картины...
увлекают воображение, глубоко овладевают чувством...
Сила правды, сила историчности, которыми дышит новая картина Сурикова,
поразительны".
И далее, разбирая достоинства картины, Стасов говорит:
"Нас не могут более волновать те интересы, которые двести лет тому
назад волновали эту бедную фанатичку, для нас существуют нынче уже
совершенно иные вопросы, более широкие и глубокие... Мы пожимаем плечами на
странные заблуждения, на напрасные, бесцельные мученичества, но не стоим уже
на стороне этих хохочущих бояр и попов... Нет, мы симпатичным взором
отыскиваем в картине уже другое: все эти поникшие головы... сжатые и
задавленные, а потому не властны они были сказать свое настоящее слово.
...По-моему, еще мало удерживать свято и хранить нерушимо русские темы,
задачи, характеры, физиономии: надо, чтобы и краска, и колорит, и воздух
картины, и солнце, и мрак, и все, все было свое... Одним словом, надо, чтобы
все наше художественное слово было столько же собственное, свое, нынешнее,
как художественное слово, "речь" у Толстого во "Власти тьмы", у Пушкина в
"Борисе Годунове", у Островского, Гоголя и т. д. Тут нет ничего чужого,
никакой Европы, не то что уже в сюжетах и типах, но и в изложении речи,
форме фраз и слов... Только Суриков и, может быть, Репин (после Перова и
Федотова) избавились от греха иностранности".
Вскоре Стасов пишет Третьякову:
"Павел Михайлович!
Я вчера и сегодня точно как рехнувшийся от картины Сурикова! Только о
том глубоко скорбел, что она к Вам не попадет, думал, что дорога при Ваших
огромных тратах. И еще как тосковал!!! Прихожу сегодня на выставку и вдруг:
"Приобретена П. М. Третьяковым". Как я Вам аплодировал издали, как горячо.
хотел бы Вас обнять".
Суриков создал целую галерею чудесных портретов. В них нашла отражение
вся его любовь к своему народу, к родине.
– Каждого лица хотел смысл постичь, – рассказывал художник. -
Мальчиком еще, помню, в лица все вглядывался – думаю, почему это так
красиво! Знаете, что значит симпатичное лицо? Это то, где черты
сгар-монированы. Пусть нос курносый, пусть скулы, а все сгармонировано. Это
вот и есть то, что греки дали – сущность красоты. Греческую красоту можно и
в остяке найти... Женские лица русские я очень любил, не порченные ничем,
нетронутые...
Особенно удался мастеру портрет Емельяновой. Это о ней мог бы сказать
Некрасов:,
Есть женщины в русских селеньях С спокойною важностью лиц, С красивою
силой в движеньях, С походкой, со взглядом цариц...
По будням не любит безделья, Зато вам ее не узнать, Как сгонит улыбка
веселья С лица трудовую печать.
"Взятие снежного городка"... Художник так рассказывал о создании этого
полотна:
"И тогда от драм к большой жизнерадостности перешел. Написал я тогда
бытовую картину "Городок берут". К воспоминаниям детства вернулся, как мы
зимой через Енисей в Торгошино ездили... За Красноярском, на том берегу
Енисея, я в первый раз видел, как "городок" брали. Мы от Торгошина ехали.
Толпа была. Городок снежный. И конь черный прямо мимо меня проскочил, помню.
Это, верно, он-то у меня в картине и остался. Я потом много городков снежных
видел. По обе стороны народ стоит, а посредине снежная стена. Лошадей от нее
отпугивают криками и хворостинами бьют: чей конь первый сквозь снег
прорвется. А потом приходят люди, что городок делали, денег просить:
художники ведь. Там они и пушки ледяные и зубцы – все сделают".
Донского казака Степана Тимофеевича Разина Пушкин назвал "самым
поэтическим лицом русской истории".
"Степан Разин". Картина-песня. Былинна, могуча напевность огромного
полотна. Мажорной, светлой симфонией звучат его краски.
Много пересудов и толков было вокруг замечательной картины. Ее было
причислили к неудачам Сурикова. И даже почти убедили в этом автора, хотя,
впрочем, мастер написал брату:
"Картина находится во владении ее автора... и, должно быть, перейдет в
собственность его дальнейшего потомства. Ну, да я не горюю. Это нужно было
ожидать, а важно то, что я Степана написал! Это все".
Надо вспомнить о времени, когда был создан холст, – 1907 год. Недавно
отгремели бои пятого года.
Поэтому слова "важно то, что я Степана написал", приобретают особый
смысл. Образ героя народного восстания был близок Сурикову, потомку








