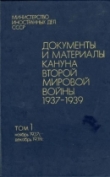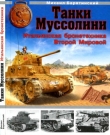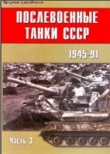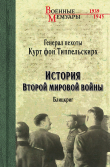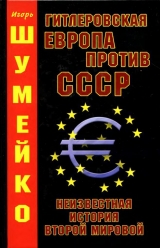
Текст книги "Гитлеровская Европа против СССР. Неизвестная история второй мировой"
Автор книги: Игорь Шумейко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
Глава 9. НОВЫЕ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ «ОБЪЕДИНЕННОЙ ЕВРОПЫ»
Исследователи феномена гитлеровской Германии давно уже разобрали «по интересам» почти все знаменитые тогдашние организации. Есть и серьезные научные книги, есть и своего рода клубы, интернет-форумы любителей истории по НСДАП, СС, СА, СД, Генштаб, Абвер, Гестапо...
Так вот. Из всех подобных организаций Германии одна мне кажется очень недооцененной, недообдуманной, почти забытой на фоне этих красочных эсэсовцев. Это Имперское министерство вооружений и боеприпасов (Reichsministerium die Waffe und Munition). В этой главе я не претендую, разумеется, на всестороннее освещение истории этой уникальной корпорации, но... «вброшу», введу в обсуждение два важных, как мне представляется, тезиса.
Два этих важных тезиса высвечиваются, соответственно, через две даты, важность которых, по-моему, очень недооценена:
1) 17 марта 1940 года – дата создания Имперского министерства вооружений и боеприпасов;
2) 29 ноября 1941 года – дата подачи первым министром Тодтом его знаменитого «самоубийственного» доклада Гитлеру («...война уже нами проиграна и т.д. ...»).
Итак. 17 марта 1940 года было создано Имперское министерство вооружений и боеприпасов (Reichsministerium die Waffe und Munition), ставшее главным организатором германской военной промышленности вплоть до конца войны. Вот и первый интересный вопрос: почему именно в марте 1940 года?! Получается, Германия и в период подготовки к войне (знаменитый ее «Четырехлетний план»), и в первые полгода с лишним мировой войны как-то без этого министерства обходилась. Как обходилась? Вроде бы ответ очевиден, и последующие два абзаца – это, по сути, справка, выжимка из нескольких констатирующих работ.
Каждый вид вооруженных сил проектировал, выдавал заказы и принимал оружие, военно-хозяйственное имущество и боеприпасы, разрабатывал планы по материальному обеспечению своей производственной программы. А непосредственными производителями были «старые немецкие концерны».
Например, танкостроение Германии находилось в ведении девяти крупных концернов, поставлявших танки и бронекорпуса. Они контролировали 32 завода, принадлежащих 27 различным фирмам. И характерно, что фирмы эти специализировались не только в этой сфере. Из восьми заводов Даймлер-Бенц лишь один выпускал танки.
То есть функционировала та структура немецких производственных фирм, какой она складывалась еще в XIX веке.
Это все – легкопроверяемые факты, только подводящие к главному вопросу: а что, собственно, изменилось к марту 1940 года?! Какова причина столь радикальной реформы? Конечно, это новый уровень потребностей вооружений для вермахта... НО главное – это новый уровень возможностей, поступающих в распоряжение. Новые шахты, электростанции, месторождения, заводы... В апреле 1940 года только планировался бросок – Дания, Норвегия, в мае – Бельгия, Нидерланды, Люксембург и далее, суперприз – Франция. НО опыт работы протекторатов Чехия и Моравия, на тот момент уже два года исправно пахавших на него, подсказал Гитлеру: «промышленно развитые», «культурные» страны передадут все в целости, «без фанатических эксцессов» и будут покорно работать (возможно, и ожидая, что кто-то когда-то рискнет целостью своего «недвижимого имущества», начнет настоящую войну, «придет», «освободит»). Так все и вышло.
То есть грамотные администраторы рейха увидели всю разницу положений: готовилась к войне, воевала полгода Германия по старой, «национальной» схеме, а теперь надо принимать под начало всю европейскую промышленность. То есть Имперское министерство вооружений и боеприпасов (Reichsministerium die Waffe und Munition), коим руководили небезызвестные Тодт и Шпеер, – это первое и важнейшее. министерство именно «Объединенной Европы-1» («Берлинской»)!
Вот что значит дата 17 марта 1940 года.
Чехословаки уже работают, а насчет норвежцев, датчан, голландцев, бельгийцев и французов в рейхе спокойная уверенность: будут работать!
Рейху на баланс поступили громадные французские стратегические запасы: 8,5 тысячи тонн нефти, десятки тысяч тонн цветных металлов, 5000 паровозов, 40 000 автомобилей (правда, это совокупно с бельгийскими и нидерландскими).
Однако оставалась проблема в широком смысле слова: продовольственная. Весной 1941 года в рейхе были снижены нормы потребления ряда продовольственных товаров. Но, оказывается, чиновники из министерства продовольствия еще задолго до этого просчитали: «Европейскую войну можно продолжать только в том случае, если весь вермахт на третьем году военных действий (это, значит, считая от сентября 39-го, а не от июня 41-го, третий год войны в России никак не планировался. – И.Ш.) будет питаться за счет России».
15 мая германские газеты объявили, что мясной рацион, выдаваемый по карточкам, с июня будет урезан на 100 грамм в неделю. Представительство конины в этом рационе росло все более и более. Вот и еще, может, несколько неожиданный, пример понимания сути той войны. Наш поэт, и тоже княжеского рода («тоже» – это я вспомнил французского графа Экзюпери, упоминавшегося в 1-й главе, героя Сопротивления, используемого как идейное прикрытие французских и европейских коллаборационистов), писал изысканные, «неоклассические» стихи до и после войны. Но на самой войне израненный гвардии капитан писал:
Вы нашей земли не считаете раем,
А краем пшеничным, чужим караваем,
Штыком вы отрезали лучшую треть.
Мы намертво знаем, за что умираем:
Мы землю родную у вас отбираем,
А вам – за ворованный хлеб умереть!
Арсений Тарковский
Немецким пивзаводам не хватало ячменя. Эрзац-пиво делалось на основе отходов молочного производства. Питье его было, конечно, тягчайшее, может, и непосильное испытание для «арийского духа». В общем, не помогали даже и ежегодные прилежные поставки Франции по репарациям: 750 000 тонн пшеницы, 140 000 тонн мяса, 650 млн. литров молока, 220 млн. литров вина. Вот что и стало главным фактором для разработчиков плана «Барбаросса».
Далее процитируем английского историка Лиддела Гарта (сэр Басил Генри Лиддел Гарт – Sir Basil Henry Liddel Hart), ставшего ведущим современным британским историком, чей труд «Вторая мировая война» стал, по оценке специалистов, «почти главной официальной историей английских вооруженных сил».
«...По убеждению Гитлера, Германии следовало приобрести больше «пространства, полезного в сельскохозяйственном отношении», в малонаселенных районах Восточной Европы. Было бы напрасно надеяться, что ей с готовностью уступят это пространство. «История всех времен – Римская империя, Британская империя – доказала, что любое пространственное расширение может быть осуществлено лишь путем подавления сопротивления, путем риска... Ни в прошлые времена, ни сейчас не существовало и не существует пространства без владельца». Эту проблему следовало решить не позже 1945 года, ибо «после этого можно будет ожидать лишь перемен к худшему». Все возможные каналы подвоза были бы тогда перекрыты, и обострился бы кризис снабжения продовольствием.
Планы Гитлера были гораздо шире, чем намерение вернуть территории, отнятые у Германии после Первой мировой войны, и было бы неправильно утверждать, будто западные государственные деятели не знали об этом. В 1937—1938 годах многие из них были весьма откровенны в частных беседах, но не в своих публичных выступлениях. В английских правительственных кругах выдвигалось немало предложений относительно того, чтобы позволить Германии осуществить экспансию в восточном направлении и таким образом отвести опасность от Запада. Эти круги доброжелательно относились к стремлению Гитлера приобрести жизненное пространство и давали ему понять это. Однако они не удосужились подумать о том, как, если не угрозой применения подавляющей силы, можно заставить покориться владельцев этого пространства (...)».
Немецкие документы свидетельствуют, что Гитлера особенно ободрил визит лорда Галифакса в ноябре 1937 года. Галифакс был тогда лордом-председателем совета, вторым лицом в правительстве после премьер-министра. Сохранилась стенограмма беседы Галифакса с Гитлером. Галифакс дал Гитлеру понять, что Англия не будет мешать ему в Восточной Европе. Возможно, Галифакс имел в виду не совсем это, но таково было впечатление от его слов, и это имело чрезвычайно важное значение...
Завершить тему «побудительно-питательных» мотивов принятия плана «Барбаросса» хочется примером удивительно точного понимания именно нашим народом этой заумной «германской геополитики», того, что Гальдер называет «континентальным мышлением фюрера». И понимание это было выражено с таким достоинством и поистине просто с царственным сарказмом, что нельзя не исполниться гордости за соотечестенников...
Кроме знаменитого «московского марша» колонн немецких пленных, было проведено 16 августа 1944 года и в городе Киеве «...конвоирование группы немецких пленных в количестве 36 918 человек». НКВД следил за поведением наших граждан во время прохождения. Все высказывания, выкрики, действия тщательно фиксировались. Были, конечно, плевки, угрозы, призывы расстреливать, НО... бросания камней не зафиксировано... Академик АН Украины Соколов «сравнил это с 1941 годом, когда немцы вели советских пленных... наши не правы, допуская столь хорошее отношение к фрицам».
И вот этот поистине восхитительный, хотя и недооцененный эпизод (из отчета Хрущева – Сталину): «...в районе базара молодые женщины бросали в колонну яичную скорлупу с возгласами: «Хотели яйка?!»
Простые женщины, потерявшие отца, мужа и обреченные на десятки лет нищеты, житья в землянках и тяжелейшего труда по восстановлению того, что во франциях и голландиях бережно сохранялось, эти женщины, два-три года слышавшие главный немецкий геополитический лозунг «Млека, хлеба, яйка!» – они и нашли благородно простой и гениально остроумный ответ...
Еще интересно – не знаю, обращал кто-нибудь внимание: среди лидеров нового звена «евроменеджмента» – министров Reichsministerium die Waffe und Munition – обнаружился интересный «архитектурно-строительный уклон». Первым рейхсминистром стал Фриц Тодт, ранее шеф общенациональной строительной организации «Тодт», создавшей знаменитые по сей день рейхсавтобаны. Но 29 ноября 1941 года (буквально за 5 дней до начала нашего контрнаступления под Москвой) Тодт подал очень мрачный доклад фюреру («в военном и военно-экономическом отношении война уже проиграна, необходимо политическое урегулирование») и затем в 1942-м погиб в несколько странной авиационной катастрофе.
Следующим и, собственно, последним рейхсминистром стал любимый архитектор фюрера Шпеер. Он вдруг оказался очень успешным руководителем промышленности «Объединенной Европы». За два года ему удалось, например, добиться трехкратного увеличения выпуска бронетанковой техники. Годы его руководства министерством называют «эрой Шпеера». Даже и среди вопросов к нему на Нюрнбергском процессе попадались такие... с неким оттенком восхищения: «А как же вам удалось?»
Но не будем вытягивать уж слишком ноту восхищения этим «евроменеджером» – по танковому производству он все же проиграл СССР. Известно следующее его высказывание: «...германская промышленность вооружений не приемлет конвейерный метод Америки и России, а в основном полагается на немецкий квалифицированный труд».
«Шпееровский» принцип дублирования поставок узлов и агрегатов с разных заводов был излишне усложнен и приводил к огромным перегрузкам транспортной системы. Например, в производстве Panzer V Panther участвовало 136 смежников. Корпуса поставляли 6 заводов, моторы – 2, коробки передач – 3, траки – 4, башни – 5, вооружение – 1, оптику – 1, стальное литье – 14, поковки – 15, остальные – готовые агрегаты, детали и крепеж.
В «извинение» Шпееру приводят необходимость рассредоточения мощностей и снижения их уязвимости от воздушных бомбардировок. НО можно опять-таки вспомнить и о танках «КВ», выпускавшихся в блокадном Ленинграде, о Сталинградском тракторном.
ДИЛЕТАНТСКИЕ ЗАПРОСЫ
А почему, собственно?
А почему именно 29 ноября 1941 года тот самый Тодт пошел... и т.д.?
Действительно, интересно поразмышлять над датой самоубийственного «тодтовского» доклада фюреру («война проиграна»)... 29 ноября. Почему именно тогда?..
Может, «хозяйственник» Тодт как-то узнал о готовящемся 5 декабря советском военном ударе, ставшем внезапным даже для немецких полководцев, и испугался, что вместо рейхсавтобанов ему скоро придется строить БАМ? Этот вариант: «хозяйственник с тайной помощью узнал раньше разведчиков и генералов» – это, конечно, ерунда, александрдюмовщина. Мое предположение таково. Дата тодтовского доклада – это как бы точка решения уравнения:
1) точка получения в свое «распоряжение» максимального куска страны СССР;
но и вместе с тем:
2) хронологическая точка ДО первого военного поражения.
Он ведь, Тодт, отвечает за экономическую отдачу захваченных земель. Допустим:
1) август-41 – он получил еще слишком мало, чтобы судить;
2) январь-42 – его, хозяйственные, проблемы уже заслонены военным разгромом.
А конец ноября-41 – это как раз: у него, у Тодта, в распоряжении уже вся Украина, Белоруссия и полчерноземья, и к военным претензий пока вроде бы нет никаких. График наступления: захваченные квадратные км/дни – почти как в польском или французском походах. А вот что касается его собственной «епархии»... перспектив хозяйственного освоения захваченного гигантского куска СССР, перспектив «сотрудничества» с местным населением, как оказалось...
...Их (все эти «перспективы»), просто издевательски смакуя, перечисляет Илья Эренбург:
В Калуге два афериста обещали «наладить производство газовой воды». Нет, не пугайтесь, «газовая вода» – это не по части химического оружия – «газировка». Сколько немцы носились с этой парочкой! – а реализация... ну представьте себе всю насущную важность газировки в оккупированной Калуге! А в Киеве – еще признак «освоения территории» – стала выходить газета. Издатель, как оказалось, румынский сутенер Бузескул...
И это почти все...
В декабре 1941 года специальная комиссия по производству танков и запасных частей изучала возможность привлечения промышленного потенциала оккупированной части СССР. Некоторые надежды возлагались на выпуск танковых бронекорпусов на заводе имени Ильича в Мариуполе, доставшемся немцам с меньшими повреждениями... Но этот завод, как и прочие советские заводы, не вошел в гитлеровское ЗАО «Европа». Ведь действительно, и у нас бывали при отступлении неудачные подрывы заводских корпусов, и гитлеровцам они доставались вроде – как в Европе – целыми. Но ведь они не заработали же! Именно потому, что «блокирующим пакетом» (если продолжить акционерную в духе ЗАО «Европа» терминологию) обладали «кадры», люди, трудовые коллективы.
И если в Париже, Бордо, Брюсселе, Копенгагене, Праге, Брно они готовы были работать под любым флагом, то в Мариуполе, Донбассе дело обстояло совсем не так!
Недавно, весной 2009 года, на известном сайте «Свободная пресса» была перепечатка из французских СМИ: «Фотографии, ставшие национальным позором Франции». (Название, выражающее оценку, – их собственное, французское.) Кадры, Париж 1940—1944 годов, абсолютно, идеально мирный и тихий город, велосипедисты, фланирующие безоружные немцы, улыбки, поцелуи. Атмосфера... Конечно, глупо ее пытаться передать словами, лучше сами загляните. Убедитесь: по сравнению с благостным Парижем-1943, даже и Париж времен министра МВД Саркози и юношей-арапчат, жгущих машины, это «почти Сталинград»!
Но вернемся от реалий жизни гитлеровского ЗАО «Европа» – в СССР.
Прибавьте, кроме настоящего сопротивления бывших трудовых коллективов, еще и зависимость заводов от инфраструктуры: подрывались водокачки, линии электропередачи. Знаменитая «рельсовая война».
Правда, за эти диверсии приходилось расплачиваться не только «недвижимым имуществом». В Белоруссии немцы положили на рельсы 400 заложников и пустили паровоз... Но гражданам стран – бывших пайщиков гитлеровского ЗАО «Европа» эти ужасы и вообразить-то трудно. Наиболее им представимые герои Сопротивления – это Киану Ривз с подружкой в фильме «Матрица».
Вот с какой точки зрения увидел рейхс-министр Тодт безнадежность и проигранность войны – еще 29 ноября 1941 года (за неделю, собственно, до нашего военного удара под Москвой).
ДРУГОЕ ДЕЛО В ЕВРОПАХВ 1940—1941 годах германские танкостроительные фирмы по указанию министерства вооружений и боеприпасов заказывали ряд деталей мелким машиностроительным фирмам во Франции, Бельгии, Дании, Румынии. Но особый вклад внесли заводы «Шкода» в Пльзене и «ЧКД» в Праге (переименованный немцами в «ВММ»), до самого конца войны производившие легкие танки и самоходные установки собственной, чешской разработки для вермахта.
В Австрии на базе штирийских рудников у Линца был построен крупный металлургический комбинат с цехами производства бронекорпусов. Аналогичные цеха работали на заводе качественной металлургии фирмы Белер в Калфенберге. Это позволило строить средние и тяжелые танки на крупном заводе Нибелунген в Санкт-Валентине. Его продукция, равно как и чешских фирм «Шкода» и «ВММ», во всех статистических сводках значится как немецкая.
Еще раз предоставим слово рейхсминистру Шпееру, вернее – воспроизведем речь, произнесенную им на Нюрнбергском процессе:
«Постоянный рост военного производства вплоть до осени 1944 года является поистине удивительным. Однако этого было недостаточно для удовлетворения потребностей фронта, и каждый фронтовик может подтвердить этот печальный факт. Ожесточенные бои в России и в Нормандии, а также катастрофические отступления летом 1944 года привели к таким потерям, которые не мог восполнить наш тыл... развязка наступила после того, как прекратилось снабжение горючим и были разрушены наши коммуникации в результате опустошительных налетов англо-американцев. Хотя в Германии было вооружение и боеприпасы, они, по крайней мере в достаточном количестве, не могли больше доставляться на фронт.
С другой стороны, союзники имели все необходимое, а ресурсы, которыми располагало союзное командование в Соединенных Штатах и в Британской империи, были настолько велики, что оказалось возможным передать России огромное количество военных материалов. Не следует забывать, что сама Россия превосходила западных союзников в производстве артиллерийских орудий и танков.
Подавляющее экономическое превосходство противника и наша неспособность отразить его воздушные налеты ясно показывали, что у нас нет никаких шансов на победоносное завершение войны. Я не обвиняю промышленность Германии. Ее достижения были огромны, но все же она не могла соперничать с производственной мощью Соединенных Штатов, Британской империи и Советского Союза. Война одновременно с тремя этими державами была для Германии безумием и могла иметь только один исход.
Утверждение, что войну можно было бы выиграть, если бы не было предательства и саботажа, опровергается приведенными выше фактами. Даже если допустить, что саботаж действительно имел место, то и тогда мы должны будем признать, что он мог ускорить проигрыш войны, но не был основной причиной нашего поражения. Утверждают, что саботажники, принадлежавшие к оппозиции, делали все от них зависящее, чтобы ускорить разгром Германии. Заявляют, что они мешали производству вооружения и боеприпасов и отдавали вредительские распоряжения, поддерживали связь с противником, всячески тормозили отправку на фронт пополнений. Но вся литература о движении Сопротивления, включая произведения враждебно настроенных писателей, не содержит ни одного доказательства, что на фронте когда-либо проводился саботаж. Отдельные случаи имели место незадолго до начала войны, в начале кампании во Франции и в последние месяцы войны, когда члены движения Сопротивления устанавливали политические контакты с противником. Это все (...)».
Эта цитата топ-менеджера ЗАО «Европа» здесь приводится как переход к следующей теме исследования:
«Движение «Сопротивления» в Европе». Ведь если провести обычное конвертирование терминов, связанное с переходом на противоположную точку зрения, меняя «подлых шпионов» на «храбрых разведчиков», то упомянутые Шпеером выше «предатели и саботажники» – это и есть те деятели Сопротивления, «вклад которых в общую...» или, скажем, «помощь» которых советской Победе мы пытаемся оценить. И вот она – важнейшая оценка допрашиваемого рейхсминистра: «...так, особо не досаждали». А гипотезу о «решающем вкладе саботажников» он, Шпеер, опровергает уже энергично и категорически.
Убийственное, если вдуматься, для «либеральной Европы» свидетельство. И главное – это самое квалифицированное, итоговое свидетельство. Но важность темы не позволяет ограничиться лишь сей оценкой. В огромном историческом пласте мы наверняка отыщем и другие, может, даже противоположные оценки. Эта же, шпееровская, важна именно как общесистемный взгляд, взгляд человека, имевшего дело только с макроэкономическими проблемами Объединенной Европы. Потенциал стран, отраслей, выстраивание оптимальных связей, пути сообщений и уроны от бомбежек, захваты и потери месторождений... в общем, с этих высот Сопротивление было слаборазличимо, точнее – незаметно.
Еще один топ-менеджер, начальник Генерального штаба вермахта, генерал Гальдер:
«Мой главнокомандующий и я выступали против Гитлера всякий раз, когда нужно было помешать ему принять решение, которое, по нашему мнению, было невыгодно для Германии и армии. Но все, в чем нуждались войска для выполнения их трудных и тяжелых задач, всегда отправлялось на фронт. В борьбе с Гитлером мы никогда не шли на действия, которые могли бы причинить какой-либо вред нашим войскам на фронте.
Говорили, что за последние месяцы войны подкрепления не прибывали, что положенное для пехоты снаряжение отправлялось в танковые дивизии, а пехота получала горючее, предназначенное танковым частям. Любому, кто находился в это время на фронте, станут понятны причины такого положения. В последние месяцы войны наши коммуникации были нарушены настолько, что фактически было невозможно обеспечить доставку пополнений к месту назначения. Командиры боевых групп забирали в свои руки все то, что следовало через районы расположения их войск. Мы хорошо знали, что пополнения, боевая техника и горючее, предназначенные для фронта, задерживались также и гаулейтерами, которые все это использовали для своих собственных частей фольксштурма (...)».
Это – гальдеровский ответ на еще одну гипотезу: «А не были ли перебои в снабжении фронта последних месяцев заслугой какой-либо организации Сопротивления, какой-нибудь из двух «Капелл»? И далее, Гальдер:
«Остается выяснить наше отношение к событиям 20 июня 1944 года – покушению на Гитлера. Лично я узнал об этом из сообщения, переданного по радио; в то время мы вели тяжелые оборонительные бои в районе Львова. Мы все были буквально ошеломлены, когда узнали, что немецкий офицер оказался способен совершить покушение и, главное, в такой момент, когда солдаты на Восточном фронте вели смертельную борьбу, стремясь остановить наступление русских войск. Мы хорошо знали о злоупотреблениях, совершаемых руководителями «коричневых рубашек», особенно «рейхскомиссарами», а также о высокомерном поведении этих людей и о преступлениях начальников особых отрядов (айнзатцгрупп) СС, хотя вблизи фронта мы редко чувствовали присутствие этих подозрительных личностей. Партийные деятели не пользовались большой популярностью на фронте. В периоды затишья многие выражали свое недовольство поведением этих «господ», и все говорили, что в этом надо разобраться сразу же после окончания войны. Тем не менее солдаты-фронтовики – а мы, офицеры Генерального штаба в войсках, гордимся, что относимся к ним, – были возмущены, услышав о покушении; солдат на фронте выполнял свой долг до самого конца. Только во время заключения в лагере мы узнали более подробно о том, что послужило причиной покушения на Гитлера. Я должен признать, что люди, виновные в этом, руководствовались высокими идеалами и глубоким сознанием своей ответственности за судьбу нашей страны. Полковник граф Штауфенберг и его единомышленники из ОКХ сознавали, что гитлеровский режим приведет Германию к катастрофе. Они глубоко верили, что устранение Гитлера избавит Германию от дальнейшего кровопролития. Но если бы покушение на Гитлера удалось, это привело бы к кровавой внутренней распре с войсками СС. Во внешней политике это также не привело бы к каким-либо успехам. Противник решил проводить политику «безоговорочной капитуляции» вне зависимости от того, будет или не будет в Германии национал-социалистского правительства. Такой политикой Рузвельт только усиливал волю к сопротивлению каждого немца и тем самым совершал ту же ошибку, что и немецкие политические руководители в России, не видевшие разницы между коммунистами и русским народом. Если бы покушение на Гитлера удалось, все немцы возложили бы ответственность за катастрофу на наш офицерский корпус и в особенности на германский Генеральный штаб. Во всяком случае, нам не следует забывать, что война была проиграна не участниками заговора 20 июля 1944 года (...)».
Смертная казнь за самые различные проявления неповиновения (вроде распространения враждебных слухов), объявленная в рамках «тотальной войны», усилила атмосферу террора в тылу, но не могла спасти нацистский режим. Если в годы Первой мировой войны в Германии за государственные преступления было казнено 50 человек, то в годы Второй – около 30 тысяч. В меморандумах СД, предназначавшихся высшему руководству Третьего рейха, особое внимание обращалось на пораженческие настроения, охватившие молодежь допризывного возраста. В крупнейших городах стали стихийно возникать альтернативные объединения молодежи полукриминального характера, называвшие себя «пиратами». Брожение тыла постепенно начинало охватывать и армию, введение должности офицера по национал-социалистскому воспитанию не компенсировало падения боевого духа солдат. Проведенная в июле 1944 года сверхтотальная мобилизация дала всего 300 тыс. новых солдат, хотя для простой компенсации людских потерь вермахта было необходимо более миллиона.