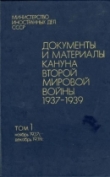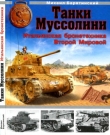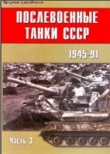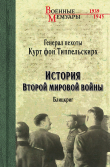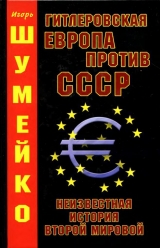
Текст книги "Гитлеровская Европа против СССР. Неизвестная история второй мировой"
Автор книги: Игорь Шумейко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
(Лирическое отступление)
Согласно сложившейся уже в этой книге практике отыскивания по возможности незатертых примеров, более-менее оригинальных иллюстраций, как пример осмысления своей страны, войны, истории, я приведу два стихотворения (точнее, даже полтора: одно целиком, другое в отрывках).
Их внешний повод совершенно, абсолютно идентичен: участие в войне с нами итальянцев. И это очень кстати: в таких частностях, второ– (якобы) степенностях лучше раскрывается смысл общего.
Итак, начнем с того, отрывочного. В классе шестом, кажется, ко Дню Победы мы разучивали «литературно-художественную композицию». Просто стояли в линейку и читали по очереди самые известные стихи о войне. Мне досталось это:
Черный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца.
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый.
И что-то там далее...
...Молодой уроженец Неаполя,
Что оставил в России ты на поле?
Хорошо помню, что и все стихотворение строилось на этих звучных русско-итальянских рифмах... как-то:
...я мечтал на волжском приволье
хоть разок прокатиться в гондоле...
...Но ведь пули мои не свистели
Над священной землей Рафаэля...
...Я сейчас пытаюсь припомнить «смыслообразующие» русско-итальянские рифмы стихотворения – и ловлю себя на том, что уже и не вспоминаю, а додумываю (про нашу народную песню «Лучина» и их «Санта-Лючия»).
И совершенно умышленно я не буду сейчас разыскивать имя автора, реконструировать весь правильный текст. Пусть так и останется, как оно мне запомнилось 39 (примерно) лет тому назад. Звучное, красивое, вошедшее в классику советской поэзии. Автор – если все ж разыскать – точно окажется из первой десятки наших поэтов. Рождественский, Межиров, Наровчатов, Симонов—Светлов, Вознесенский—Евтушенко... А может, даже и кто-то именно из них, перечисленных.
Не важно.
Ибо все вышесказанное – лишь необходимая подводка к тому, другому произведению, показывающему совершенно неожиданно, потрясающе неожиданно! – что, оказывается, можно увидеть за этим же частным (военно-итальянским) случаем!
Не знаю даже, можно ли это назвать стихотворением – одна деталь невероятная для сего жанра сразу бросается в глаза: эпиграф едва ли не длиннее самого текста.
ПЕТРАРКА...И вот непривычная, но уже нескончаемая вереница подневольного люда того и другого пола омрачает этот прекраснейший город скифскими чертами лица и беспорядочным разбродом, словно мутный поток чистейшую реку; не будь они своим покупателям милее, чем мне, не радуй они их глаз больше, чем мой, не теснилось бы бесславное племя по здешним узким переулкам, не печалило бы неприятными встречами приезжих, привыкших к лучшим картинам, но в глубине своей Скифии вместе с худой и бледною Нуждой среди каменистого поля, где ее (Нужду) поместил Назон, зубами и ногтями рвало бы скудные растения. Впрочем, об этом довольно.
Петрарка. Из письма Гвидо Сетте, архиепископу Генуи. 1367 г. Венеция.
Так писал он за несколько лет
До священной грозы Куликова.
Как бы он поступил – не секрет,
Будь дана ему власть, а не слово.
Так писал он заветным стилом,
Так глядел он на нашего брата.
Поросли б эти встречи быльем,
Что его омрачали когда-то.
Как-никак шесть веков пронеслось
Над небесным и каменным сводом.
Но в душе гуманиста возрос
Смутный страх перед скифским разбродом.
Как магнит потянул горизонт,
Где чужие горят Палестины.
Он попал на Воронежский фронт
И бежал за дворы и овины.
В сорок третьем на лютом ветру
Итальянцы шатались как тени,
Обдирая ногтями кору
Из-под снега со скудных растений.
Он бродил по тылам, словно дух,
И жевал прошлогодние листья.
Он выпрашивал хлеб у старух —
Он узнал эти скифские лица.
И никто от порога не гнал,
Хлеб и кров разделяя с поэтом.
Слишком поздно других он узнал.
Но узнал. И довольно об этом.
Просто невероятно, рука тянется протереть глаза – но ощущение чуда остается. Так Моисей, наверное, смотрел на неопалимую купину или расступившиеся воды. Каким-то совершенно непонятным движением (может, смещением угла зрения) один абсолютно частный случай вдруг делается ступенькой всей мировой истории. И сама эта «лестница» получает вдруг совершенно неожиданную подсветку.
Становится вдруг ярко виден, яснее разгаданного кроссворда понятен этот действительно «великий гуманист», поэт и ученый Петрарка. Сегодня он, наверное, был бы европарламентарием. Пришедший в 1941-м в Россию не «грабить», и даже не «по приказу злобного дуче», а именно как «великий поэт, ученый и гуманист»...
Данте, Петрарка. Создатели «нового прекрасного мира»... Европа, Культура, Ренессанс. И вдруг в этом светлом и разумном мире – словно некое пятно или клубящийся страх в углу. То ли какая-то «системная», военно-политическая угроза, то ли мрачный всплеск подсознания. И создатель «правильного мира» – он, конечно, потянется, пойдет туда, чтобы исследовать и избыть свой «смутный страх перед скифским разбродом»... И там увидит Петрарка ту самую Нужду – образ, родившийся еще у его предшественника, Назона, сосланного в Скифию императором Августом. И будет «рвать ногтями скудные растения». И «узнает те скифские лица»...
И не просто свидетельством мастерства автора, нашего Поэта, но и потрясающе философски важным становится схождение этих двух текстов, итальянского и русского, в одной точке – «и довольно об этом». Как два луча, сходящихся в вершине, в точке ослепительного прозрения. Ведь Петрарка мог оборвать те свои живописания славянского унижения и позора в письме архиепископу просто потому, что лень было еще чего-то тут описывать. Или жаль чернил. А мог и... из-за поднявшейся жалости, сострадания, великодушия. Но что именно: скука или жалость – неизвестно читателям текста его письма к архиепископу Генуи. Может, это было неизвестно и самому Петрарке, отбросившему в тот миг перо: «довольно об этом». И вот тут-то – русский луч, текст русского Поэта, сходящийся к этой же точке, как бы высветляет подсознание итальянца, утверждает в нем лучший из возможных вариантов: Великодушие. Да-да, то было – сострадание. И, «узнав эти скифские лица», он, знаменитый Петрарка, сам стал лучше, просветленней. Великодушием заканчиваются Великие войны. (А Россию как-то уже назвали «подсознанием Запада».)
Вот это вклад в весь процесс «мировой гуманизации» воронежских старух, кормивших несчастного итальянца, но еще и – русского Поэта, собеседника Петрарки, автора этого шедевра.
Но... этот вклад Поэта ставит еще и очень трудный выбор перед его соотечественниками и коллегами (или считающими себя таковыми). Этим ведь задан масштаб. Предъявлен уровень осмысления мировой войны, мировой истории. И тут (коллегам?) остаются варианты: 1) или допустить, признать, что из-за тебя, именно на твоей книге этот уровень вдруг понизится; 2) или, как говаривали, стращали друг друга в 70– 80-е годы: «идти к станку», «к трактору». Или...
ДИЛЕТАНТСКИЕ ЗАПРОСЫ
Так кто же этот поэт, столь удачно сведший Петрарку, муссолиниевых несчастных солдат с русской, мировой историей?
(Пауза) — Вроде и приятное дело – « прорекламировать » нашего поэтического гения, а вроде как-то даже и обидно, что это нужно делать .
Итак, этот Поэт — Юрий Поликарпович Кузнецов .
Вот что называется «разобраться с темой». Не только осадить каких-нибудь литовцев, тянущих счет, но самое главное – продвинуть постижение своей собственной истории...
Из кипевших когда-то всесоюзных литературных диспутов сейчас вспомнился один популярный вопрос: «Кто и когда напишет новую «Войну и мир»? Имелось в виду, книгу о Великой Отечественной. Да, такая книга очень бы помогла становлению национального самосознания. Сам факт наличия такого огромного и неосмысленного события (война) – он ведь по-своему даже опасен. Именно даже опасен, и именно для сегодняшних россиян. Своей необработанностью, непереваренностью, недообдуманностью. Эта гигантская тема все равно будет притягивать общественное сознание. И в отсутствие нового Льва Толстого пролезут всякие, вплоть до резунов. И наговоренное ими вместо просветления и единения только углубит линии расколов в национальном менталитете.
«Войну и мир», как мы помним, называл «величайшим из когда-либо написанных романов» и француз Ромен Роллан. Хотя «толстовский Наполеон» – самый, пожалуй, мерзкий и ничтожный во всей «наполеониане»...
Да, обрести свою Историю, «узнать свою страну» – гораздо важнее, чем все эти «тычки» и «указывания на место» бывшим подданным Гитлера.
А с Историей, с познанием своей страны, народа получается, что, кроме как в переломные моменты, постичь что-либо очень трудно. Похоже, что в иные, спокойные периоды они – народ, страна – просто «вещи в себе». Ну представьте, что Александр Сергеевич перенес бы действие своего «Бориса Годунова» с 1605 года куда-нибудь в глубь его вполне удачного правления. А это выбор богатый: и 14 лет «премьерства» при Федоре Иоанновиче (основан Белгород, обустроена, укреплена, заселена вся область нынешнего «Черноземья»). Или не менее успешная «семилетка» собственного годуновского царствования (выиграна даже война со Швецией, отбиты потери Ивана Грозного – та самая Вотская пятина, выход к Балтийскому морю)... Но что бы мы узнали из «Бориса Годунова-1598» о душе народа, таинственно, непонятно как, но все же, оказалось, надломленной опричниной и Иваном Грозным? Что бы нам раскрыла «успешно перевыполненная семилетка Бориса Годунова» – на самом кануне Смутного времени?
ИТОГ «ВТОРОЙ МИРОВОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ»Нельзя оперировать итогами мировой войны в понятиях современной политкорректной тусовки. В интересах Истины и в интересах России (в принципе еще и в интересах других воевавших стран – Британии, Сербии) не прошлую войну обсуждать в современных понятиях, а, наоборот, современную политическую ситуацию рассматривать с помощью критериев прошлой войны.
И если из каждых сегодняшних десяти международных споров (например, о захвате нефтепромыслов под прикрытием «защиты демократических свобод») хотя бы половину перевести с «демократического языка» на «геополитический» или на «военно-исторический», путаницы стало бы меньше.
Да, никуда не уйти от темы «Большой войны». Той, что, согласно Брюсу Кэттону, сама берет на себя командование. Вторая мировая война была именно такой.
Версия «Большой войны», войны вне всяких пактов, вне «объявлений себя с такого-то часа, такого числа в состоянии...», раскрывает истинный размах войны. Раздвигает временные рамки. «Большая война», да простится мне это по– луцитирование Евангелия, «не приходит приметным образом».
И сегодня версия «Большой войны» возвращает «на линию фронта» некоторых участников, напоминая им, на какой именно стороне они действовали...
Война – в любом случае соприкосновение с Реальностью. Катарсис. Трагическое очищение. А политика, понятийный инструментарий, сам лексикон в мирные годы постепенно и совершенно неизбежно в погоне за сиюминутными выгодами расклада усложняется, запутывается, завирается – ровно до следующей войны. До следующего катарсиса. Собственно, лживость, противоречия «мирной политики» всегда и запускали следующую войну.
Поймите, это ни в коем случае не апологетика «милитэри стайл». Не война так хороша, но «мирная, гражданская политика», скатывающаяся к интригам вокруг долей процента одураченного электората, так плоха.
Ежели взглянуть «философически», «диалектически», получается, что... Война-то в любом случае всегда приближала мир. А «мир» и «мирные политики, историографы и т.д.» – они-то (во всяком случае, до сих пор) всегда приближали войну.
И всегда «послевоенные годы» потихоньку превращались в «довоенные».
Часть вторая. «ВОЙНА И МИР... И ВОЙНА»
Во второй части этой книги, посвященной «холодной войне», прослеживаются силовые линии, информационные нити, обнаруженные во временах формирования «Объединенной Европы-1» («берлинской») и отнюдь не оборвавшиеся памятной весной 1945 года. Оказывается, и к интереснейшему феномену «холодной войны» применима своя «перезагрузка», сулящая также немало мини-открытий. Разбирая множество неформализованных законов этой «войны», обрисовывая всевозможные «театры», где она проходила, и предлагая свои объяснения причин ее проигрыша Советским Союзом, мне параллельно доводилось беседовать и с людьми (например, интересный и востребованный сегодня экономист и философ Михаил Хазин, беседа с ним в журнале «Дружба народов», № 6, 2009 г.), которые довольно убедительно говорят о том, что Советский Союз практически выиграл «холодную войну». Или, во всяком случае, гонку вооружений СССР в 1970-х годах у США выигрывал, но наши тогдашние политические вожди были абсолютно не готовы, не знали, что с этим мировым лидерством делать. Испугались и сдали.
Глава 1. ФУЛТОН. ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ
5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в Фултоне (штат Миссури) бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (действующий президент США Гарри Трумэн стоял чуть поодаль) произнес свою знаменитую речь. В которой, собственно, нам и была объявлена «холодная война».
К сегодняшнему дню в Фултоне сложился своеобразный «Музей «холодной войны». В 2006 году на 60-летний юбилей были приглашены дочь Черчилля леди Мэри Соамс и его внучка Эдвина Сандис, а также внучатый племянник Трумэна. Позвали также президента Соединенных Штатов Джорджа Буша и английского премьера Тони Блэра, однако те приглашение отклонили.
А в предыдущие годовщины фултонской речи в Вестминстерском колледже собирались многие мировые лидеры и политики, в том числе бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и экс-президент СССР Михаил Горбачев. Последнего мы, быть может, увидим еще. Ведь какой, если представить, классный фон для рекламной кампании: «Горячая пицца поможет и в «холодную войну»!!!»
К 60-й годовщине в Фултоне была обновлена экспозиция и проведена перепланировка мемориала и библиотеки Черчилля, обошедшаяся в $4 миллиона. Кроме того, символическое начало глобального противостояния было отмечено специальной службой в церкви Святой Марии на территории Вестминстерского колледжа.
Итак: почему именно Черчилль (отставной в то время козы барабанщик)? Почему именно Фултон (глухомань несусветная)?
Перед тем как воспроизводить «Выбранные места из речи...» сэра Уинстона и ответы «Черчиллю и миру» Иосифа Виссарионовича Сталина в газете «Правда», дадим две «установочные» цитаты:
1) Анатолий Уткин написал прекрасную книгу о Черчилле, где среди многого прочего есть и... назовем это: «бытовая сторона Фултона».
2) Работой историка Валентина Фалина воспользуемся для краткой обрисовки тогдашнего геополитического «расклада».
Анатолий Уткин:
«К ставшему президентом Гарри Трумэну, гордящемуся своей простотой и доступностью, стали прибывать земляки из Миссури с небольшими просьбами. В январе 1946 г. они попросили прислать кого-либо из сенаторов на открытие заурядного колледжа в миссурийском городке Фултон. Патриот своих краев, президент Трумэн отреагировал неожиданно: «Зачем нам просить косноязычных сенаторов, когда сейчас во Флориде отдыхает самый большой златоуст англосаксонского мира – отставной премьер Уинстон Черчилль?» Черчилль на просьбу откликнулся, выдвинув лишь одно условие: «Выступлю в случае присутствия в зале президента Соединенных Штатов». Трумэн согласился.
Печально знаменитое выступление Черчилля в Фултоне соответствовало настроениям правых сил в США, решивших «выяснить свои отношения» с Востоком. «Братская ассоциация англоговорящих народов», о которой говорил экс-премьер, должна была стать военным союзом, ибо, как утверждал Черчилль, «на русских ничто не производит большего впечатления, чем сила». Это было начало трагического пути гонки вооружений (...)».
Валентин Фалин:
«На финальной стадии войны СССР не представлял собой угрозы для «свободного мира». У Москвы были несколько иные заботы. Надлежало поднимать из руин страну, а не мечтать о квазикоммунистической экспансии. Установленным, доказанным фактом является то, что советское руководство ни в 1945-м, ни в 1946 году не собиралось воспроизводить в Центральной и Восточной Европе родственные сталинизму модели экономического, социального и политического устройства...
Это понимали и в США. Так, генерал Клей в апреле 1946 года в качестве заместителя американского губернатора Германии докладывал госдепартаменту: советских представителей в Контрольном совете «нельзя упрекнуть в том, что они нарушают Потсдамские договоренности». Напротив, «они в высшей степени добросовестно их исполняют», демонстрируют «искреннее стремление дружить с нами, а также уважение к США». «Мы, – заключал Клей, – ни на мгновение не верили в [возможность] предстоящей советской агрессии, и мы не верим этому сейчас».
Однако Трумэна, которому необходимо было освятить доктрину Pax Americana, эти соображения не убеждали. Именно для того, чтобы как-то обосновать заявку на мировую гегемонию, Соединенным Штатам и понадобился Черчилль. В пользу Черчилля, с точки зрения Трумэна, говорило то, что в ходе войны никто больше Черчилля не сделал для того, чтобы выхолостить военное сотрудничество западных держав с Советским Союзом, не допустить реальной координации действий вооруженных сил трех держав, сорвать организацию Второго фронта в 1942 и 1943 годах и тем самым затягивать войну, с олимпийским спокойствием наблюдая, как в ожесточенных схватках немцы и русские обескровливают друг друга. В этом смысле концепция британского премьера перекликалась с подходами Трумэна, который в июне 1941 года изрек: «Если будут побеждать немцы, стоит помогать русским, если верх будут брать русские, надо помогать немцам, и пусть они убивают друг друга как можно больше».
«НЕМЫСЛИМОЕ» И НЕОТВРАТИМОЕНе позднее марта 1945 года Черчилль отдал приказ собирать трофейное немецкое оружие и складировать его для возможного использования против СССР. Тогда же им был отдан приказ о разработке операции «Немыслимое» – плана войны против Советского Союза, которая должна была начаться 1 июля 1945 года силами 112—113 дивизий, включая дюжину дивизий вермахта, которые сдались англичанам и нерасформированными были переведены в лагеря в земле Шлезвиг-Гольштейн и Южной Дании. Там их держали в готовности до весны 1946 года.
Черчилль приложил немало стараний, дабы вовлечь в «Немыслимое» Трумэна, принявшего президентский пост после кончины (12 апреля 1945 года) Франклина Рузвельта. «Если бы не категорический афронт ведущих военачальников США, черчиллевское «Немыслимое» могло бы обрести зловещие черты вполне реального и мыслимого. Не исключено даже, что с ядерным акцентом.
19 мая 1945 года помощник госсекретаря США Грю направил Трумэну меморандум, в котором отмечалось, что «если есть что-то в мире неотвратимое, то таким неотвратимым является война между США и Советским Союзом». «Гораздо лучше и надежнее иметь столкновение прежде, чем Россия сможет провести восстановительные работы и развить свой огромный потенциал военной, экономической и территориальной мощи», – утверждалось в документе.
На идейной основе, выраженной в меморандуме Грю, в сущности, и шел демонтаж политического наследия Рузвельта, в том числе в части выполнения (или сбрасывания) обязательств США по тегеранским и ялтинским соглашениям. Параллельно полным ходом готовилась новая военная доктрина Соединенных Штатов. Ее повивальной бабкой стало успешное испытание ядерного оружия в штате Невада (...)»
А теперь и непосредственно... главный герой части первой, сэр Уинстон Черчилль. Неостановимо разматывающийся «клубок истории» привел нас к периоду, когда наш знаменитый бывше-бывший противник, бывший союзник снова стал противником. Но, несмотря на все нижеследующие комментарии на его речь, возражения, Черчилль остается нашим... «добросовестным противником». Это определение – признаю – неуклюжее, эскизное, предваряет, надеюсь, более подходящее, когда-нибудь сформулированное. Но, ознакомившись в дальнейших главах с двумя знаковыми фигурами наших противников в начинающейся «холодной войне» – Черчиллем и Бжезинским, вы увидите всю разницу между ними, разницу даже между «типами Черчилля и Бжезинского», и, надеюсь, признаете необходимость этого разделения, разнесения их в разные подвиды.
Итак, речь Уинстона Черчилля, Фултон, штат Миссури, 5 марта 1946 г. (перевод Игоря Зайнетдинова):
«Я был рад прибыть в Вестминстерский колледж сегодня в полдень и получить поздравления в связи с присвоением мне степени.
Название «Вестминстер» так или иначе знакомо мне. Я, кажется, слышал его раньше. В другом Вестминстере я получил большую часть моего образования в политике, диалектике, риторике и других вещах. Фактически это родственные учреждения.
(Шутка. Обыгрывается имя американского колледжа и лондонского Вестминстерского округа, где находится королевская резиденция, парламент и множество государственных учреждений.)
Президент сказал вам, что это является его желанием, я уверен, что и вашим, чтобы я дал мою истинную и верную оценку этому беспокойному и трудному времени. Я, конечно, воспользуюсь этой свободой, и я чувствую, что имею право делать так, потому что любые частные амбиции, любые дикие мечты, которые я лелеял в свои молодые годы, короче говоря, сбылись.
(Как в одном анекдоте: «Жизнь удалась».)
«Позвольте мне, однако, прояснить, что я не имею никакой официальной миссии или статуса любого вида и говорю только за себя лично. Я не являюсь никем иным, как самим собой. Я могу поэтому, опираясь на свой жизненный опыт, позволить себе высказать свое мнение по проблемам, которые окружают нас на другой день после нашей абсолютной победы, и попробовать удостовериться в том, что сила, которая была получена ценой многих жертв и страданий, должна быть сохранена для будущей славы и безопасности человечества.
Соединенные Штаты стоят сейчас на вершине мировой мощи. Это торжественный момент для американской демократии. С этой мощью должна сочетаться страшная ответственность за будущее. Если вы посмотрите вокруг себя, вы должны ощутить не только чувство выполненной обязанности, но и беспокойство, боязнь не потерять достигнутое.
И здесь я говорю особенно о мириадах домов или семей, в которых добытчик заработной платы борется против проблем и трудностей жизни, охраняет жену и детей от нужды и лишений и воспитывает в семье страх перед Богом, а также в других этических концепциях, имеющих большое значение.
Чтобы обеспечить безопасность этим бесчисленным домам и семьям, необходимо оградить их от двух гигантских мародеров: войны и тирании.
Ужасное крушение Европы, со всей исчезающей красотой, и большей части Азии стоит у нас в глазах.
Невозможно вычислить то, что я называю the unestimated sum of human pain – «неоцененная сумма человеческой боли». Наша высшая задача и обязанность состоит в защите всех людей от ужасов и бедствий новой войны.
Мировая организация, созданная для главной цели – предотвращения войны, – ООН, преемник Лиги Наций, с решающим дополнением Соединенных Штатов и всего, что это означает, уже действует.
Есть, однако, определенное практическое предложение. Суды и судьи могут быть созданы, но они не могут функционировать без шерифов и констеблей. Организация Объединенных Наций должна быть немедленно оснащена международными вооруженными силами.
Я предлагаю, чтобы каждое государство предоставило определенное количество авиационных эскадр на службу мировой организации. Эти части были бы обучены и подготавливались в их собственной стране, но перемещались из одной страны в другую. Они носили бы униформу их собственных стран, но с различными значками. Они не требовались бы, чтобы действовать против их собственной нации, но в других отношениях подчинялись мировой организации.
Я желал видеть это выполненным после Первой мировой войны, и я искренне полагаю, что это можно сделать немедленно.
Было бы, однако, неправильным и неблагоразумным вручить секретное знание или опыт атомной бомбы, который имеют Соединенные Штаты, Великобритания и Канада, организации, которая все еще в младенческом возрасте. Люди всех стран спокойно спят в своих постелях, потому что эти знания и опыт по большей части находятся в американских руках.
Я не думаю, что мы бы спали так крепко, имея противоположную ситуацию, когда этим смертельным фактором монопольно обладали бы некоторые коммунистические или неофашистские государства. Это обстоятельство было бы ими использовано для того, чтобы навязать тоталитарные системы свободному демократическому миру с ужасными последствиями. Видит бог, что это не должно произойти, и мы имеем по крайней мере некоторое время для укрепления нашего дома, прежде чем столкнемся с этой опасностью, и даже тогда, когда никакие усилия не помогут, мы все еще должны обладать огромным превосходством, чтобы использовать это в качестве устрашения».